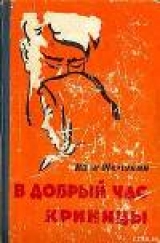
Текст книги "В добрый час"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
– Дождь?! – удивленно и радостно зашептал народ. Маша встрепенулась, оторвалась от своих мыслей. «Дождь!»
– До утра, пожалуй, весь снег смоет, – произнес кто-то из стариков.
«Вот она и пришла – весна», – подумала Маша, и все её колебания, все сомнения вдруг исчезли. Маша решительно попросила слова.
Дождь шел спорый и теплый. И сразу запахло сырой оттаявшей землей и ещё чем-то особенным, не имеющим названия, о чем говорят: «Пахнет весной». Ночь – хоть глаз выколи. Только позади, в Добродеевке, сквозь дождевую завесу желтоватыми пятнами светились окна хат и одинокие электрические фонари – возле «силовой», у медицинского пункта, на колхозном дворе.
Наезженная за зиму дорога ещё держала, Во уже во многих местах её перерезали бурливые весенние ручейки. Вода журчала в канавах по обочинам.
Они шли, как солдаты в разведку, – цепочкой, с той только разницей, что командир – Лесковец – шел самым последним. Маша оглядывалась и видела вспыхивавшие искры его трубки – он непрерывно курил. «Волнуется и злится». Сама она тоже все ещё не могла успокоиться после выступления и даже, казалось ей, волновалась сильнее, чем там, на собрании. Тревожила мысль: сумеет ли она вырастить такой же урожай, как в «Воле»? Она вспоминала все детали, все подробности работы, проведенной ею в бригаде во время подготовки к весне. Много было недоделок, и они беспокоили. Утешал только озимый клин бригады. На нем они сделали и сделают все, что делают на своем ржаном поле добродеевцы. Кстати, их участок смежный с лучшим участком «Воли», и все условия у них будут равны. А вот яровые… Их еше надо посеять. У нас даже не вся площадь вспахана под зябь. И навоза меньше, и семена хуже, и лошади слабее, и трактор попался какой-то никудышный… От этих мыслей стало ешё тревожнее на сердце.
«Как я людям в глаза глядеть стану, если не выполню того, что пообещала?»
Ей захотелось поговорить с Максимом, отстать, пойти рядом и поговорить по душам. Но она боялась, что он не поймет и опять может оскорбить её какой-нибудь грубостью. Шли молча. Только Клавдя Хацкевич потихоньку что-то рассказывала девчатам и сама громко смеялась.
– Ну, бабы, поднимай юбки! Будем прыгать! – прозвучал её веселый голос.
Дорогу перерезал ручей.
Мурашка посветил карманным фонариком.
– Ну, это что! – и первым ловко перескочил.
– Тебе легко говорить – что! А вот каково нам? – ворчала Клавдя. – Где это Максим? Ты, чертяка, в охотничьих сапогах, а я в бахилах должна тебе дорогу прокладывать. Командир обязан быть впереди своего войска.
Максим не откликнулся. Маша чувствовала, что он стоит за её спиной, слышала, как он сосет трубку: это был забавный звук – чмокает, как малое дитя.
Вскоре их задержал и заставил сгрудиться новый ручей, журчавший и булькавший громче всех предыдущих. Мурашка опять посветил и свистнул.
Лукаш Бирила стал палкой мерять глубину и прощупывать дно – где удобнее перейти.
Трубка засипела у самого Машиного уха.
– Ты что, тоже решила мне нос утереть? – тихо сказал он, и Машу так неприятно поразили эти слова, что она на миг растерялась.
– Пойми, Максим…
– Ты думаешь, одна ты понимаешь, а у меня и головы нет и вместо сердца – камень. Так? Я сам мог сказать…
– Я тебе не мешала… Я от своей бригады говорила.
– Не мешала!..
В их разговор, который они вели почти шепотом, неожиданно вмешался Шаройка, стоявший сзади, но не замеченный ими.
– Эх, Максим Антонович, цыплят по осени считают. Кто его знает, то ли подсушит, то ли подмочит, Сказать легко… А мы тишком да молчком… Так-то оно лучше.
– «Тишком да молчком»! – пренебрежительно хмыкнул Максим.
Шаройка отступил куда-то в темноту. Маша довольно усмехнулась.
Максим напрямик, быстро и шумно, перешел ручей и пошел впереди всех, не останавливаясь больше и не отзываясь на Клавдины шутки, которые она отпускала ему вслед.
4
В небе пел жаворонок. Люди, услышав его пение, останавливались и, задрав головы, сдвинув на затылок зимние шапки, старались отыскать его в слепившей глаза яркой весенней синеве. На глаза набегали слезы, их смахивали ладонью и снова вглядывались.
– Вон он, во-он!
– Ага… Как точечка… На одном месте висит.
– Только крылышками трепещет.
Взрослые говорили о нем и радовались, как дети.
Песней жаворонка звенело все вокруг в этот необыкновенный день, первый ясный и теплый день после зимы.
Хотя был конец марта, но солнце грело, как в мае, и «украинский» ветерок, как тут называли южный ветер, приносил не холодную предвесеннюю влажность, а душистое тепло настоящей весны, запах разогретой солнцем щедрой земли.
Сразу же набухли почки у старой вербы, что росла под обрывом, склонившись над самой водой. Казалось, ещё одна минута, один миг – и брызнут эти почки молодым листом.
Василю представилось, что это случится сейчас, на его глазах, и он на минуту примолк, затаился, ожидая чуда. Возможно, о чем-нибудь в этом же роде думал и Ладынин, потому что он так же молча, пристально глядел на вербу, на быстрый бег воды. Речка вышла из берегов, поднялась чуть не до уровня обрыва, залила неширокую здесь пойму; ствол старой вербы до самых ветвей и даже несколько веток были в воде. К югу, за поворотом, где пойма расширялась, и к северу, за мостом, где до самой Добродеевки, речка залила луга, расстилались широкие и спокойные водяные просторы, и, не зная, нельзя было различить, где проходит русло. А здесь, в этой узкой горловине, зажатой между высоких обрывистых берегов, на одном из которых стояли дубы, а на другом – сосны, вешние воды в ярости рвались вперед. Вода подмывала песчаный берег, водоворотом вихрилась вокруг вербы. Стремительно проплывали, кружась, щепки, ветки, куски торфа, навоз – все, что осталось от зимних дорог.
Толстая ветка вербы тянулась вверх, подымалась над берегом. Василь наклонился над обрывом и отломил веточку с веселыми пушистыми «барашками». Понюхал и засмеялся.
– Верба молоком пахнет.
Игнат Андреевич удивленно поглядел на своего молодого товарища.
– Ну-у, это фантазия животновода!..
– Серьезно. Между прочим, я обнаружил это впервые, когда был ещё школьником…
У него было необыкновенное настроение – поистине весеннее. Чесались руки – хотелось работать вместе со всеми, кричать и смеяться в толпе молодежи. Он повернулся. В каких-нибудь ста шагах от того места, где они стояли, парни из четырёх колхозов с шутками и смехом складывали в огромные штабеля желтые бревна. Мужчины постарше занимались окоркой. Бревна лежали здесь на всей площади – от речки почти до самого колхозного двора. Пока держалась санная дорога, их спешили вывезти из лесу, а теперь все предвесенние дни окоривали и приводили в порядок.
С другой, стороны, на песчаном пригорке, большая группа девчат и женщин вскрывала будущий карьер, из которого строители станут брать грунт для земляной части плотины.
Дальше, возле деревни, мужчины и женщины работали на дороге, которой ещё не было, но которая должна была связать окаймленный столетними березами старый большак, уходящий на Украину, со строительной площадкой. – Кипит работа, Игнат Андреевич!
– А-а? – Ладынин оторвал взор от реки. – Красивое место. Дуб какой красавец! Богатырь!.. Еще и не так закипит…
Лазовенка вдруг стал насвистывать веселую мелодию. Ладынин удивленно, пряча в усы лукавую улыбку, наблюдал за ним.
– Боюсь, Игнат Андреевич, что полевые работы остановят строительство…
– А мы должны сегодня твердо договориться и записать… Будем добиваться, чтобы не было ни одного дня простоя. Дело не только в темпах. Я опасаюсь другого: останови мы работу на каких-нибудь полмесяца – Соковитов и вправду уедет. Жди тогда, пока «Сельэлектро» пришлет своего инженера. Этот человек не может сидеть без работы и не может оторваться, бросить её, если работа идет хорошо, если каждый рабочий день ставит ему задачи на завтра…
Они шли к штабелям. Лазовенка вдруг остановился, прислушался.
– Ты чего? – спросил Ладынин. Василь весело кивнул головой:
– Гудит!
Где-то очень далеко, за Лядцами, а может быть и за Добродеевкой, гудел трактор.
– Работает. Сегодня засеем первые гектары. Игнат Андреевич, надо серьезно поговорить с Лесковцом. Какого черта он тянет! У «Партизана» есть места повыше, чем у нас… А поглядите, как сохнет земля. Нельзя откладывать ни на один день. Пускай завтра же начинаем. Выборочно… Хватит ему слушать Шаройкины советы!..
– Хорошо… Поговорим…
С речки долетел веселый выкрик:
– Ого-го!
Ог штабелей парни кинулись к берегу.
– Петька, айда, кто-то тонет!
– Как же, таким бы голосом он кричал, кабы тонул! Ладынин и Лазовенка тоже пошли назад к речке.
На самой середине разлива, где проходило русло и где течение было особенно быстрым, вертелась небольшая лодочка. В ней сидели трое. На корме – инженер Соковитов с рулевым веслом в руках и с длинной жердью, которая лежала у него на коленях поперек лодки. На носу – средних лет женщина в зимнем пальто, в белом шерстяном платке, который очень её молодил. Это – Гайная, Катерина Васильевна, председатель соседнего украинского колхоза «Дружба». Она сидела неподвижно, с окаменелым лицом – как статуя.
Третьим в лодке был Максим Лесковец. Без шапки, в одной гимнастерке, он изо всех сил работал веслами. Соковитов пытался подрулить к берегу, в небольшой заливчик у колхозного двора, выбитый за много лет скотиной, но течение тащило лодку к противоположному берегу, и она кружилась на одном месте.
– У Гайной душа в пятках, – заметил Петя Кацуба, и парни дружно захохотали. Ладынин сдерживал улыбку.
– Сергей Павлович! Рулите к тому берегу, там тише. А оттуда – наперерез, – подавали советы парни.
– Максим Антонович! Давайте к мосту, здесь вам не пристать, – кричал Лукаш Бирила, заметно беспокоясь о своем председателе, и неодобрительно заворчал: – Черти. Шуточки им. Выкупаться захотелось. Эта Гайная как топор – сразу ко дну пойдет…
Но лодка вдруг, словно сорвавшись с якоря, быстро и ровно пошла в нужном направлении.
Катерина Васильевна выскочила первая, потянулась, по-мужски разведя руки, а затем совсем по-женски вытерла бахромой платка лицо.
Увидев Василя и Ладынина, рассмеялась.
– Ну и нагнали на меня страху ваши инженеры. Схотелось старой дуре покататься. Сидела и вспоминала, кому я осталась должна на цим свити. Здоров, Василек полевой! Добрый день, доктор.
– Здравствуй, Катерина Васильевна. Ты что это весну пугаешь.
– У мэнэ ангина, дорогэнький, щоб вона пропала. Житы нэ дае…
Соковитов и Максим с помощью хлопцев вытаскивали на берег лодку. Василь с улыбкой глядел на Гайную. Он всегда немного иронически относился к этой шумной женщине с её деланной простотой, старомодной, какой-то бабьей манерой обращения с людьми даже старше её – «соколик», «дорогэнький», с её женским упрямством. Но он уважал её за хозяйственность. Колхоз её не был ещё образцовым, во многом он, возможно, отставал от «Воли», но у Гайной были самые лучшие животноводческие фермы, и особенно коровы были у нее чудесные. Василь, сколько раз ни ездил в её колхоз, каждый раз завидовал, когда видел этих коров. Сначала ему казалось, что Гайная делает ошибку, подчиняя все остальное хозяйство ферме, животноводству. Но потом он понял, что на такой земле, как у них, где лучше всего растут силосные культуры, это единственно правильный путь для поднятия колхоза.
Сейчас он был сердит на Гайную за её отказ продать «Воле» несколько племенных телок. Он думал ублаготворить её приглашением вместе строить гидростанцию. Она с радостью согласилась, однако телок так и не продала.
– Ты чого это, Василек, квитка луговая, дывышься на мэнэ, як кот на сало?
Василь засмеялся.
– Похорошела ты, Катерина Васильевна! Помолодела!
– Все одно для тебя стара.
– Однако на лодочке вы катаетесь с молодыми. Припомнят ещё вам эту речную прогулку, – сказал он с серьезным видом.
Гайная вперила в него удивленный взгляд.
– Кто?
– Жена Сергея Павловича.
Соковитов подошел и стоял рядом, закуривая. Улыбался. Василь заговорщицки подмигнул ему.
– Промахнулся, голубок. Раиса – моя хрестница.
– Большое дело – крестница! Однако откуда у вас столько крестников?
– Ты что, дорогэнький, женился?
– С чего вы это?
– Раньше ты был посерьезнее. Меньше о греховных делах думал.
– Весна.
– Разве что… А хрестников… Колы б ты знал, скильки их у мэнэ. Я тильки за цю вийну, може, сотню перехрестила…
– Вы? – удивился Ладынин, зная, что Гайная во время войны была в партизанах.
– Церква у нас была тильки в Пивнях, и попом там был наш партизан. А я весь час связь з ним$7
– Признайся, что сочинила на ходу, – засмеялся Василь. Гайная накинулась на него.
– Вот, ей-богу, правда. Да что с тобой, маловером, разговаривать! Ты сам себе раз в год веришь! – И, махнув на него рукой, обратилась к Ладынину; выражение лица и голос её изменились, она стала серьезна, солидна, как полагается человеку, знающему себе цену. – Игнат Андреевич, есть у меня до тебя просьба. Заболел один мой «хрестничек», тает хлопец, як свечка, а фельдшерица у нас, вы ж знаете, якая – молодо-зелено… А до района… Где он, наш район!
– Хорошо, Катерина Васильевна, – перевил её Ладынин. – Я поеду. Но на чем?
– За мной приедут, дорогэнький. Лучшего коня пришлют. Василь вздохнул.
– У вас же врач в Борках. Всего пять километров.
– А я, може, того не хочу. Я Игната Андреевича уважаю.
– Хорошо уважение! У человека нет ни дня ни ночи. Хоть разорвись на сто частей.
– Черствая у тебя душа, голубок. Когда дытына нездорова, за сто верст поедешь.
– Брось, Лазовенка! Я не люблю адвокатов, – нахмурился Ладынин. – Отдыхать я умею лучше тебя, напрасно ты беспокоишься, – и он сердито отошел в сторону.
Гайная насмешливо спросила у Василя: —Съел, голубок?
Максим Лесковец между тем в толпе колхозников дымил своей трубкой, лазил по штабелям, шутя спорил с молодыми хлопцами.
– Председатель! У тебя не люлька, а самовар!
– Приладь к ней кормозапарник!.. Хоть польза будет.
– И кто эло, черти, так работает? – он толкнул ногой бревно. – Только полбока ободрано, как у козы.
– Это Корней, все о ферме думает.
– О молочке!..
– Боится, что Клавдя без него с коровами не сладит. Бывший заведующий колхозной фермой, Корней Лесковец, краснел, сжимал кулаки, но молчал, – только поглядывал по сторонам и сопел. Человек он был с ленцой, и молодежь его недолюбливала.
Гайная остановилась против штабелей и, должно быть, уже забыв о своем разговоре с Василем, снова стала перед ним хвастать:
– Вон мои орлы як ворочают! – Хлопцы из её колхоза катили к штабелю бревна. – Похвали хоть разок, хозяин! А то для тебя все погано… Як вин гарно спивае! – Она заки нула голову и, приставив ко лбу ладонь, поглядела в небо. – Де вин?
Жаворонок звенел неутомимо. По небу плыли белые облачка. С освобожденных от коры бревен прозрачными каплями стекала смола; Люди сбрасывали ватники, шинели и работали: женщины – в одних пестрых кофточках, мужчины—в рубашках.
– Ой, быстро сохнет мати-земелька, – пела Гайная. – Быстро. Придется нам остановить стройку на время полевых работ. Не вытянем.
– Вот оно, Минович, какие настроения! – заметил Ладынин. – Нет, уважаемая Катерина Васильевна, мы и собрались сегодня, чтобы обсудить: как сделать так, чтобы работы на строительстве не прекращались ни на один день? – Ладынин тайком взглянул на Соковитова, тот стоял и молча смотрел куда-то вдаль, за речку, углубившись в свои мысли.
– Ой, тяжко будет! – вздохнула Гайная.
– Вот это и хорошо, что тяжко, – усмехнулся Ладынин. Подошел Лесковец и, узнав, в чем дело, решительно заявил, победоносно поглядев на Василя:
– Моих пятнадцать человек будут работать без отрыва!
– Ты, голубок, сеял хочь раз? Максим покраснел.
– Посеешь – узнаешь, чего стоит в это время кажна людына, особенно теперь, после войны.
– Только не пугайте, Катерина Васильевна! Мы не из пугливых. Сеяли и знаем. – Василь произнес последние слова сердито. – Я подсчитаю и докажу вам, что во время сева у вас ежедневно гуляет половина людей…
– Научился ты считать чужих людей.
– За сутки вода спала на семь сантиметров, – вдруг, прервав их спор, объявил Соковитов и задумчиво продолжал – Войдет речка в берега – вынесу проект на натуру и… просите специалиста в «Сельэлектро»… Я свое дело сделал. Чем можно было – помог. Больше не могу! Работа, квартира—все готово… Вот сколько получил за зиму писем, – он похлопал ладонью по разбухшему карману, хотя там были совсем не письма, а расчеты по строительству.
Из-за штабелей выехала повозка, в ней плечом к плечу сидели два человека и мирно беседовали. Лазовенка засмеялся:
– Глядите, Байков и Радник помирились. Кончилась игра в кошки-мышки.
По предложению Ладынина все они расселись тут же, на бревнах, и Василь Лазовенка объявил заседание межколхозного совета открытым.
5
С поля Маша вернулась поздно. Однако не пошла сразу в хату. Поднялась на крыльцо и присела на лавочке, прижалась к ещё теплой стене. На какой-то миг усталость сковала все тело, она сидела равнодушная ко всему, слышала, что делалось вокруг, но не воспринимала. Давно уже стемнело, хотя за речкой, на северо-западе, небо было светлое, голубое, без звезд, с розовой полосой над горизонтом. Редкие звездочки мигали над головой. Было душно. Над улицей ещё висела поднятая стадом пыль. А деревня была полна звуков. Возле школы дети играли в прятки, кричали и весело смеялись. Потом, должно быть, мальчика обидели, и он громко заплакал:
– Я ма-а-аме скажу-у!
Призывно мычали недоеные коровы; их хозяйки, видно, задержались на огородах. На колхозном дворе жалобно ржал жеребенок: кобыл погнали в ночное, а молодняк оставили – боялись волков. Голосисто, так что далеко в лугах отзывалось эхо, гоготали гуси. Звенел молодой девичий смех, радостный и манящий. А охрипший женский голос сердито звал:
– Федя, а Федя! Сколько я тебя просить буду! Ну, поганый мальчишка, не показывайся домой! Я тебе задам!
Забренчала и смолкла балалайка. В кустах у речки уже пробовал свой скрипучий голос деркач и заводили нестройный концерт лягушки. Где-то возле Добродеевки запели девчата. Этот далекий напев всколыхнул Машу, вывел из задумчивости. «Поют… Это Настино звено с поля возвращается. С прополки. Уже с прополки…»
Маша оторвалась от стены, потерла ладонями колени ноющих от усталости ног, вздохнула, и мысли поплыли, как всегда, стремительные, напряженные.
Ох! До чего же это тяжелое дело – быть бригадиром! Весь день на ногах, от темна до темна. А результаты… В «Воле» уже полоть начали, а у нас… У нас ещё ранние не посеяны, а сколько картофеля, проса, овощей… Правда, в её бригаде дела значительно лучше, чем в других. Но разве может вытянуть весь колхоз одна её бригада? Да не так уж они хороши – и её дела. Разве можно сравнить с «Волей»? Там уже давно кончили сев… Уже всюду дружные всходы. А весна вон какая – сухая, ни одного дождя. В поле не продохнешь от пыли, на пригорках ветры выдувают землю, и зерно лежит на поверхности, сохнет и не прорастает. В такую весну на какие-нибудь два дня поздней посеешь – и на два центнера меньше снимешь. Но почему они так отстают? В чем причина? Она знала: причин много, общих для всех, о них пишут в газетах, говорят на собраниях. И она не хотела о них думать. Её интересовал один вопрос, и она каждый раз после таких размышлений снова возвращалась к нему. В чем сила Василя? Почему в «Воле» такой порядок, такая организованность, такой, как говорит Алеся, ритм в работе?.. Раньше, при Шаройке, она на этот вопрос отвечала просто: сила эта в том, что председатель душой болеет о колхозном хозяйстве, а не думает о собственной наживе, как Шаройка.
Но Максима нельзя упрекнуть, что он не заботится о колхозном добре, а думает о своем. Маша убеждена, что он не меньше Василя хочет сделать свой колхоз передовым. В самом деле, он прямо-таки, как говорится, горит на работе, особенно после того открытого партийного собрания. Так почему же его хорошие намерения не приводят к таким же хорошим результатам?
Ей очень хотелось, махнув рукой на бабьи пересуды, сходить к Василю, расспросить обо всем, по-дружески посоветоваться, побывать на совещаниях, на заседаниях правления, походить с ним по полям. Ей казалось, что, если б она выяснила, в чем секрет, она нашла бы способ передать его Максиму и заставила бы его вести дело так, как ведет Лазовенка.
Она в душе сердилась на Василя за то, что тот в последнее время редко наведывается, не интересуется делами их колхоза.
«А ещё член райкома».
Она не знала о крупном разговоре, который произошел между ним и Максимом, когда тот после всех своих заверений все-таки снял людей со строительства гидростанции.
А тут ещё болезнь Игната Андреевича…
«Нет, нет! Больше так нельзя! Надо что-то делать. Районные представители нас забывают, относят к числу «крепких середняков». А на деле середина эта совсем ненадежная…»
На той стороне улицы послышались голоса. Маша узнала Максима и Шаройку. Через минуту у дома Шаройки скрипнула калитка и сонно отозвалась собака.
У Маши неприятно, больно сжалось сердце.
«Вот она – причина. Опять повел, чтоб напоить… Поль зуется его слабостью… Хочет доказать, что выше поднять колхоз нельзя, чем поднял он – Шаройка. Как Максим не понимает. Как можно не понимать!..»
Сгущалась тьма. В небе загорались звезды. Деревня постепенно затихала. Только неподалеку плакал мальчуган, должно быть тот самый Федя, которому здорово попало от матери за то, что долго не шел домой. За хатой в хлеву пережевывала жвачку и тяжело вздыхала корова. Маша ласково подумала: «Трудно тебе? А ты скорей телись. Тебе будет легче и нам хорошо. А то мы всю весну постничаем».
Мимо хаты прошла женщина. Миновав крыльцо, остановилась, стала вглядываться.
– Ты, Маша?
Маша узнала голос, вздрогнула.
– Я.
Сынклета Лукинична поднялась на крыльцо, присела рядом.
– Одна сидишь? – И, должно быть, почувствовав неловкость своего вопроса, поправилась – спросила ласково и сердечно: – Заморилась? – и положила руку на плечо, обняла.
От этой сдержанной ласки Маше стало себя жалко, под горло подкатился соленый комок.
– Устала, – откровенно призналась она и, помолчав, добавила – Устала, тетя Сынклета. Бегаешь, бегаешь…
– А я по тебе соскучилась. Давно уже мы не сидели вот так с тобой, не беседовали, как прежде… Помнишь?.. Каждый день вижу и все издалека. И обидно мне… Почему это ты меня обходишь, на работу не зовешь. Неужто я в коллективе лишняя стала? Или, может, думаешь – работать разучилась?
– Ну что вы, тетя Сыля! Я думала, вам возле своей хаты дела хватает. Нам вот всем колхозом построили, а вы сами… Надо и присмотреть, и рабочих накормить…
– Да нет их сейчас, рабочих… Ведь он же, как только снял людей со станции, так и со своей хаты разогнал всех – и своих колхозников, и свата Егора из Ясокорей. «Не хочу, говорит, чтобы пальцами тыкали». – Она замолчала и, вздохнув, сказала – И ему тяжело, Машечка. Не знаю, когда и спит. Бегает день и ночь. Злой.
– А толку мало.
Сынклета Лукинична долго молчала. Ей было больно за сына; только она, мать, знала, как он работает, как принимает все близко к сердцу. Но и Машу обидеть ей не хотелось, и, подумав, она кротко согласилась:
– Маловато. Но не все же сразу, Машенька…
– Сейчас опять пошел к Шаройке…
Плечи матери дрогнули, как от холодного прикосновения.
– Дружка нашел, советчика… Пока он не перестанет слушать Шаройку, толку не будет.
Сынклета Лукинична минуту помолчала, потом тоже вдруг заговорила суровым тоном:
– А я, Маша, и тебя виню. Ну, пробежала между вами кошка. Я знаю, что он виноват… Молодой, горячий… Но ведь ты девушка. Неужто не можешь простить? Ты же знаешь, он гордый, и сам теперь, может, никогда не заговорит…
– Он гордый, а я, по-вашему, не гордая? Нет, тетя Сынклета, я тоже гордая: просить не пойду, – сказала она и сама испугалась своих слов.
Сынклета Лукинична вздохнула и сняла руку с плеча девушки.
– Гордости у вас у всех много, а вот ума иной раз не хватает.
– Вы на меня не обижайтесь, тетя Сыля. Я с вами, как с родной матерью…
На руку Маше упала горячая материнская слеза, но девушке почудилось, что не на руку, а на сердце упала она – так больно оно сжалось. Хотелось чем-нибудь утешить старушку, но не находилось нужных слов. И они долго сидели молча, прижавшись друг к другу.
– Так ведь и я от души, – наконец произнесла Сынклета Лукинична. – Я только о том, как бы оторвать его от этого… Амельки…
– Ничего, скоро он поймет, – уверенно сказала Маша и, кажется, сама в это поверила.
Отворилось окно, из него выглянула Алеся.
– Это ты здесь, Маша?
– Ну, я пойду, Машенька. Доброй тебе ночи. Так смотри не забывай обо мне—кличь на работу.
Алеся сидела за столом, обложившись книгами, подперев кулаками щеки. Она внимательно поглядела на Машу, когда та вошла, глаза её сияли. Вообще вся она была какая-то светящаяся, чистенькая, с мокрыми волосами, в хорошеньком платьице с короткими рукавами. Маша в последнее время часто любовалась ею и думала: «Какая она вдруг стала красивая!»
На полу спал Петя (на лежанке, где было его место зимой, стало жарко). Он лежал, широко раскинув руки, голова его сползла с подушки на сенник. Спал он одетый; из длинных обтрепанных штанин выглядывали черные, потрескавшиеся ступни, рукава рубашки были засучены. На всем на нем – на руках, на шее, на лице – грязными пятнами лежала пыль.
Маша встала на колени, положила его голову на подушку, ласково погладила по волосам.
– Вон он какой, твой славный рыцарь! Полюбуйся. Предложила помыться—раскричался на весь дом: «Хорошо тебе в тенечке с книжкой сидеть. Пошла бы поработала на поле, так знала бы». Фу, – Алеся обиженно фыркнула. – Как будто я не работала.
Алеся имела основания обижаться на брата, – она работала не меньше его: раньше вставала, топила печь, пока Маша раздавала наряды на работу – готовила завтрак и обед; бежала за восемь километров в школу, вернувшись из школы, работала у себя на огороде и вдобавок ко всему старательно готовилась к экзаменам, до которых оставались считанные дни.
Но в сердце у Маши была материнская нежность к Пете, особенно сегодня, и она миролюбиво сказала:
– Ты на него не обижайся. Он сегодня четыре нормы выполнил. Если б все так работали!..
Но Алеся уже разошлась, вскочила из-за стола, и успокоить её было невозможно.
– И десять норм не дают права ложиться в постель в таком виде! Неужели трудно помыться?
– Да он два раза купался в речке!
– Ты его, пожалуйста, не защищай. Ты тоже хороша! Я каждый вечер грею для вас воду, а каждое утро выливаю. В каком виде ты ходишь? Стыд! Почему ты носишь это старье и жалеешь надеть хорошее платье? На какой случай ты его бережешь?
– На работу? В пылищу? Для чего это нужно? – пожала плечами Маша.
– Ты должна быть красивой.
– От платья не похорошеешь.
– Неправда! – не сдавалась Алеся. – Помнишь, у Чехова? У человека все должно быть красивым: лицо, голос, одежда. А у тебя? Брови выгорели, нос облупился, а юбка, – Алеся вскочила с кровати, остановилась перед сестрой, критически оглядела с ног до головы и кисло поморщилась.
Маша чувствовала, что её начинает злить это очередное чудачество сестры, но старалась сдержаться.
– Тебе навоз не приходится растряхивать, и ты имеешь полную возможность одеваться, как полагается бригадиру лучшей бригады.
– Оставь, пожалуйста!
– Не оставлю! Не перевариваю твоего Лесковца, но за одно уважаю: идет человек – любо поглядеть, никогда не жалеет надеть самое лучшее. Ты должна ходить так, чтоб парни глаз не могли отвести.
– Ну, знаешь… не до того мне…
Алеся театрально развела руками и присела.
– Скажи-ите пожалуйста, какая старушка! Не до того! Глупости! Одна неудачная любовь – и ты повесила нос. Стыдись!
Машу рассмешили эти её по-детски наивные слова, и злость сразу сменило шутливое настроение.
– Одним словом, с сегодняшнего дня я беру над тобой «парфюмерно-косметическое шефство». Недаром мать Павлика грозится, что в городе я стану самой страшной модницей, – Алеся захохотала и направилась к стоявшему между кроватью и печью сундуку, подняла крышку.
– Вот. Я купила тебе лучшего мыла, самого Гольдина просила привезти, одеколон, крем… «делает кожу белой, мягкой, эластичной».
– К чему эта ненужная роскошь?
– Не роскошь, а гигиена. Ездишь в райцентр, а объявления в окне парикмахерской прочитать не можешь.
Маша смеялась от души, как уже давно ей не приходилось, и от полноты чувств с нежностью обняла Алесю:
– Милая ты моя! Скучно нам будет, когда ты уедешь…
– В Москву, – подсказала Алеся.
– Все равно куда.
– Не все равно, а в Москву. В Москву!
Вероятно, ни разу ещё Маша после тяжелого трудового дня так старательно и с таким удовольствием не мылась. Она терла руки, лицо, волосы душистым мылом, брызгалась водой и смеялась. Алеся поливала ей на голову теплую воду и продолжала солидно рассуждать:
– Шутки шутками, но я над этим серьезно думала. У нас в классе целый диспут был… Втянули в него преподавательниц и мальчишек, которые удивительно консервативны в этом вопросе… Сами, черти, глаз не сводят с Нины Беловой, которая лучше всех одевается, а доказывают прямо противоположное… Знаешь, о чем я мечтаю? Увидеть тебя в платье из какого-нибудь там панбархата, крепдешина или ещё какого-нибудь шина… И чтоб сшито было не нашей «мастерицей на все руки» Лизой, а действительно хорошим портным.
Маша забыла обо всех своих заботах и мучительных переживаниях. Ей было легко, радостно, приятно, точно она сбро сила с плеч тяжелый груз. Поужинав, они легля в постель, и Алеся долго читала вслух Лермонтова, читала хорошо, мастерски:
Лишь Терек в теснине Дарьяла,
Гремя, нарушал тишину;
Волна на волну набегала,
Волна погоняла волну.
Маша, закрыв глаза, слушала как зачарованная и представляла неведомую, дивную природу и созданных поэтом необыкновенных людей. Незаметно картины воображения превратились в чудесный сон: она сама блуждала среди сказочных гор. Алеся осторожно потушила лампу.








