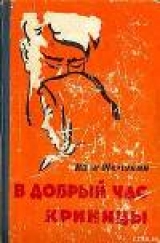
Текст книги "В добрый час"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
8
Миновало лето – горячая пора работ, промелькнули дни, о каждом из которых говорят, что он кормит год. На поле осталась одна картошка. Но за нее Лесковец был спокоен: копали её хорошо, больше людей выходило на работу, налаживалась дисциплина. Вообще, колхоз хотя и медленно, но крепко становился на ноги. Это радовало Максима, а главное – делало рассудительнее и самокритичнее. Он наконец убедился, что недостаточно одних его добрых намерений, недостаточно самому работать, надо уметь поднять, организовать людей. А это тоже не под силу одному. Его последняя попытка во время уборки урожая любыми средствами перегнать Лазовенку кончилась провалом. Он не мог ни убрать раньше «Воли», ни сдать поставки государству. «Партизан» вышел в передовые в севе озимых. В августе МТС подучила новые тракторы, и в колхозе теперь работал мощный «НАТИ». Больше половины площади под озимые было засеяно тракторной сеялкой. Адам Мигай, которому передали новый трактор, занял первое место по МТС. А довольный Михайла Примак пообещал:
– Я тебе теперь, Антонович, вздеру под зябь все, даже те пустыри, где не сеялось с сорок первого года. Засевай, только потом управляйся.
Сев озимых прошел сравнительно гладко, особенно если не считать стычек Максима с Машей из-за агротехники – норм высева, удобрений. Как-то в споре они наговорили друг другу неприятных вещей. А потом Маша спокойно сказала ему:
– Максим, если хочешь руководить колхозом, почитай литературу по агротехнике. Как другу тебе советую. Нельзя сейчас без этого руководить, пойми ты, чудак этакий!..
«Как другу», – это его разозлило. – Нашлась советчица!.. И без тебя знаю, да попробуй почитай, когда так вертишь-ся… Тебе легко говорить!»
Но, успокоившись, он задумался над её словами. «А почему ей легко? Нет, и ей нелегко. Однако она читает, успевает все-таки. И Лазовенка продолжает учиться заочно».
Отношение его к Маше менялось. Он перестал окидывать её оскорбительными взглядами. Постепенно ослабевало и чувство ревности, злобы к Василю, хотя изредка оно и вспыхивало вновь, в особенности когда кто-нибудь из руководителей начинал сравнивать, противопоставлять их работу.
Начались дожди. Долгие и скучные осенние дожди. Дождь на три дня остановил почти все работы, загнал людей в хаты. Застряв дома, Максим решил взяться за чтение. Прочитал газеты за много дней, взял книгу по агротехнике, просмотрел несколько глав и впервые почувствовал интерес к этой скучной, как ему раньше казалось, литературе.
Сынклета Лукинична наблюдала за сыном, удивлялась и радовалась, по дому ходила на цыпочках, чтоб ему не помешать. На четвертый день дождь утих, только изредка отдельные тучки, которые все ещё безостановочно плыли по небу, сеяли изморось.
Максим прошелся по колхозному двору, побывал в конюшнях, коровниках, в амбаре и увидел там такое количество недостатков, нарушений, какое никогда раньше не замечал, как будто дождь поднял их все на поверхность. Это испортило ему настроение. Подлила масла в огонь заведующая фермой Клавдя Хацкевич своими бесконечными требованиями одно сделать, другое переделать, третье достать, четвертое привезти. Раньше он просто отмахивался от нее, но теперь вдруг увидел, что все её требования справедливы, и от этого разозлился ещё больше.
«Фермы у нас самый отсталый участок. Надо будет и в самом деле попросить Гайную, чтобы продала нам породистых коров».
Вернулся домой, попробовал читать – не читалось. На дворе разгулялся ветер, и было слышно, как шумели под окном два молодых клена. Они роняли на землю желтые листья, ветер гнал их по улице.
«Быстро выросли, – подумал Максим о кленах. – Мать посадила их вместо старых, сгоревших в сорок третьем. Те сажал отец ещё мальчиком, вместе с дедом, с прадедом моим… Летит время…»
Вспомнились слова Клавди: «Ты бы спросил у людей, как батька твой ферму любил… Какие у нас коровы были до войны… А сейчас разве это коровы? Другая коза больше молока дает…»
От клена оторвался лист, прилип к стеклу.
«Почти зеленый ещё, должно быть, дождем сбило».
Максим повернулся к окну спиной, чтобы не смотреть на улицу, на клены. Все равно не читалось. Оторвался от мыслей о хозяйстве – стал думать о Лиде, об их отношениях. Сколько времени прошло, а он ничего не знает о том, как она к нему относится, и даже спросить не решается. Вот вчера, когда он вечером, несмотря на дождь, пошел к Ладыниным, Лида встретила его так холодно, насмешливо, что он счел за лучшее как можно скорее попрощаться. На душе остался неприятный осадок.
По двору мимо окон прошел Шаройка.
Максим встряхнулся, недовольно подумал: «Черт его несет… И минуты побыть одному нельзя».
Встретил Шаройку не очень приветливо, хотя тот зашел оживленный, веселый, как заходят к лучшему другу.
Максим сразу сбил с него веселое настроение коротким вопросом:
– Вернулся?
Шаройки долго, что-то больше месяца, не было дома, ездил к сыну в Горький.
– Вернулся, Антонович.
– Когда уже кончилась работа в колхозе, так?
– Антонович! Два минимума имею, даже с гаком, с гаком… Какие могут быть нарекания?
– Минимумы!! Пока бригадиром был?
– И после работал, сколько здоровье позволяло. Работал, брат.
– Здоровье! Здоровья у тебя на троих хватит. Шаройка неестественно закашлял, как бы желая показать, что здоровье у него и в самом деле слабое.
Он сидел на табурете против стола, сворачивал цигарку, рассыпая по полу табак.
– Обижаешь ты меня, Антонович, – и тяжело вздохнул. – Обижаешь, брат, а за что – не понимаю… Что я тебе сделал? Душа в душу жили. Хлеб-соль делили…
У Максима эти слова перевернули все нутро, ему казалось, что у него даже заклокотало в груди. Он покраснел, поднялся из-за стола, уставился взглядом на Шаройку. Тот опустил глаза, слюнил цигарку, делая вид, что не замечает его волнения.
Но Максим сдержался.
– Зачем пришел?
Шаройка чиркнул спичкой, закурил.
– Дозволь, Антонович, соломы взять, яму накрыть.
– На днях раздадим на трудодни.
– Бабы картошку из хаты в яму перенесли, теперь, понимаешь, хоть неси назад.
– Ладно. Возьми. Из незавершенной скирды, – и подумал: «Черт с тобой! Не надоедай только, без тебя тошно».
А когда Шаройка вышел, Максим спохватился, выругал себя: «Сколько раз мне уже за это доставалось! Нельзя раздавать колхозное добро, как свое собственное, как это делал Шаройка. Не выписав, не оформив через бухгалтерию… «Возьми». А кто знает, сколько такому хапуге вздумается взять? Он способен целый воз перетащить… А там, глядя на него, ещё кто-нибудь захочет… Непременно скажут: если Ша-ройке можно, почему нам нельзя? Нужно пойти запретить».
Однако гордость, самолюбие не позволили ему это сделать, и настроение у него стало ещё хуже.
Шаройка поленился дергать солому снизу и взобрался на скирду, развернул верхний мокрый пласт. Сбросить его он не решился, а набрать необходимое количество сухой соломы оказалось нелегким делом. Все равно пришлось выдергивать по пучку.
Работал и ворчал:
– Хозяева! Не могли завершить, полскирды промочило.
Он не видел остальных, хорошо укрытых скирд, порядка на току, какого при нем никогда не было. Он старался видеть только дурное и, когда находил его, злорадствовал: «Ага, нахозяйничали без Шаройки».
Внизу, под скирдами, ходили колхозные гуси, важно переваливались с ноги на ногу, искали зерна. Шаройка сбросил солому, они стали её разгребать. Он замахал руками, кинул в них соломой, но гуси только красиво выгибали шеи и продолжали свое дело.
Шаройка разозлился:
– Чтоб вас волки съели! Кшш! Пошли прочь, дьяволы!
Гуси отвечали дружным гоготом – все разом, как будто смеялись над ним. На горе, Шаройка увидел в соломе палку – половину расколотой ручки от веялки. Схватил её, швырнул изо всей силы. Палка ударила гусыню по голове, и та упала, задергала ногами. Остальные, закричав, вподлет кинулись в сад, где паслось все стадо. Гусыня не поднималась.
Шаройка испуганно оглянулся. Вокруг не было ни души. Он торопливо соскочил вниз, озираясь, как вор, засунул убитую гусыню под скирду, прикрыл соломой. Свою солому увязал вожжами, вскинул на плечи, прошел шагов десять, остановился, сбросил тяжелую ношу, ещё раз оглянулся. «Пропадет, если никто не наткнется. А тяжелая, жирная, килограммов пять чистого веса будет. А если найдут?.. Шум подымут… Допытываться начнут… Кто был сегодня на току? Амелька был…» Он даже вспотел от этой мысли.
«Лучше, чтоб никаких следов. Пока досчитаются… Их уже за сотню перевалило… Не обеднеет колхоз от одной гуски. Все равно не одну съедят начальники. Слава богу, знаем, как это делается».
Еще несколько дней назад Лесковец вдруг надумал сбрить усы, которыми он раньше так гордился. Но это оказалось нелегко: каждый раз, когда он подходил к зеркалу, ему становилось жаль усов, и он откладывал свое намерение. И вот теперь он твердо решил сделать это.
Но только он пристроился, направил на ремне бритву и начал намыливать щеки, как в хату, задыхаясь, влетел Федя Примак, младший сын бригадира тракторной бригады.
– Дядя Максим! Амелька убил колхозного гусака, спрятал в солому и несет домой!
Максим от изумления остолбенел.
– Какой Амелька?
– Шаройка! Давайте скорей, вы его переймете, он через Кацубов двор идет!
Максим вскочил, на ходу ладонью стер мыло и, в не-подпоясанной гимнастерке, выбежал следом за Федей на улицу.
Шаройка вышел со двора Кацубов и переходил улицу с объемистой охапкой соломы за спиной.
Максим бегом догнал его.
– Погоди, Амелька!
Тот обернулся, и лицо его сразу побелело.
– Развяжи солому!
У Шаройки жалостно передернулись губы; казалось, он вот-вот заплачет.
– Максим Антонович…
– Развяжи солому, сукин сын! – закричал Лесковец и рванул за вожжи, дернул охапку так, что солома полетела по ветру, а гусыня плюхнулась на землю.
Максим наклонился, поднял её за ноги, поднес Шаройке под самый нос.
– Что это такое, Амельян Денисович, а?
Шаройка молчал. У него нервно подергивались веки и дрожали руки, и сам он весь сгорбился, в одно мгновение постарел на много лет.
– Что это такое, я спрашиваю? – повысил голос Максим.
Минуту назад на улице было пусто. Теперь, неведомо откуда, появился народ. Бежали дети, женщины, перекидывались вопросами.
– Что там, Галя?
– Амельку поймали.
– Кого?
– Гусака словили!
Хохот. Пронзительный свист мальчишек, звонкий крик:
– Гу-са-ак!
– Шаройка – гусак!
– А я думала, горит где-нибудь, – смеялась за спиной у Максима Раиса, невестка Явмена Кацубы, – ан нет… Это дядьке Амельке гусятинки захотелось…
– Чего смеетесь, балаболки? Человек, может, давно не пробовал её. Сколько уж, как с председателей сняли!.. Понимать надо! – Голос у Грошика был как будто серьезный, сочувственный, а звучал язвительно.
Шаройка, не подымая головы, стоял, уставив глаза на солому, которую ворошил под ногами ветер.
«И правда смешно, – подумал Максим. – Самый крепкий хозяин в деревне, а до чего дожил!» И ему тоже захотелось пошутить:
– Вот что, Амельян Денисович, на, брат, твоего гуся и неси его в канпеляоию. Там разберемся.
Шаройка вздрогнул всем телом, повернулся и медленно поплелся к своему дому, едва волоча ноги, словно к ним подвесили пудовые гири. Жена его, Ганна, выглянула из калитки, открыла её настежь и сама спряталась, стыдясь показаться на люди.
На какую-то минуту установилась тишина.
И вдруг Федя Примак, сложив рупором ладони, крикнул на всю улицу:
– Гу-уса-ак!
9
– Погоди, я доктору скажу! Он с тобой поговорит!
– А ты сходи к доктору, он тебе все объяснит, напишет, куда нужно.
Человека постороннего могли бы удивить такие угрозы или советы, услышать которые зачастую можно было и в Лядцах, и в Добродеевке, и в Радниках. Но свои знали, что их доктор – не просто доктор, он – секретарь партийной организации. А потому шли к нему не только лечить простуду и физические недуги, а и с недугом душевным, с жалобой, приходили за советом и просто за теплым человеческим словом. И всем Игнат Андреевич помогал; разрешал самые разнообразные вопросы, развязывал самые сложные узлы. И для каждого находил он теплое слово. Случались, конечно, просьбы, которые он не мог выполнить сам. В таком случае он давал совет, куда обратиться, писал депутатам, в высшие органы. А если нужно было, прямо и сурово говорил человеку, что жалоба его, требование или претензия незаконны и не имеют никаких оснований. Иной раз даже как следует пробирал жалобщика.
Но вот с такими просьбами к нему ещё не обращались ни разу.
Он вел амбулаторный прием. Очередей у него почти никогда не бывало, люди болели редко. Игнат Андреевич этим гордился, и когда один неумный инспектор сделал ему замечание, что у него мало зарегистрировано амбулаторных больных, он возмутился страшно.
Пришла Настя Рагина перевязать палец, Игнат Андреевич хотел было поручить это своей помощнице, фельдшерице Раисе Васильевне, но, взглянув на Настю, понял, что не из-за этой маленькой ранки на руке пришла она. Он промыл ей палец, не спеша перевязал, спросил между прочим;
– Ну, как ваша свекла?
У девушки лицо просияло.
– Копаем. Не успевают отвозить. Вчера Тайная была, удивлялась, охала, взявшись за бока, ругала Лазовенку… Говорила, что наши бураки лучше, чем у них.
– Бураки у вас хорошие. Мне говорил Макушенка, что вы, кажется, вырастили рекордный для Белоруссии урожай…
Настя, не поднимая глаз, скромно улыбнулась.
– В будущем году лучший вырастим!
– Иначе и быть не может.
Девушка поднялась, поблагодарила за перевязку, оглянулась на фельдшерицу. Та поняла, что у пациентки есть ещё разговор с доктором, и поспешно вышла в другую комнату. Не впервой ей видеть эти взгляды!
– Ну, будьте здоровы, Игнат Андреевич, – попрощалась Настя, сделала шаг к двери, однако не уходила, нерешительно комкая уголок платка.
– Ты мне что-то хотела сказать, Настя?
– Хотела, Игнат Андреевич. – Она подошла к столу, понизила голос почти до шепота: – Игнат Андреевич, если, может, на орден будут подавать, очень вас прошу – меня не включайте. Не надо.
У Ладынина поползли вверх лохматые брови.
– Почему?
– Так. Не заслужила я. Только не говорите никому, что я просила. И ещё, Игнат Андреевич, простите, что я тогда наговорила на правлении про Лазовенку и Машу. Не подумала… До свиданья, Игнат Андреевич, – и быстро вышла.
Давно уже старый сельский врач, которому известны были все тайны деревенской жизни, знавший душу крестьянина, как свою собственную, не был так удивлен. Он вскочил и, взлохматив пальцами свои седые волосы, с укором подумал: «Это тебе, товарищ Ладынин, урок. Век живи—век учись распознавать людей. А ты на лучшую звеньевую махнул рукой, поверил, что она «на славе свихнулась». Нет, не в славе, как видно, дело… Как я не понял, что так работать, как работала она, может только человек, серьезно задумывающийся над целью и смыслом своего труда, над жизнью вообще. Однако чем вызвана такая странная просьба? Вот и ломай теперь голову, товарищ секретарь, если проглядел человека!..»
Ладынин долго не мог успокоиться. Забыл он о Насте и о её просьбе только тогда, когда в амбулаторию привезли тяжело больного мальчика из Радников. Мальчуган корчился и стонал от боли в животе. Игнат Андреевич поставил диагноз – аппендицит и сам пошёл к Лазовенке, попросил машину, чтоб скорей доставить ребенка в районную больницу. Машина возила картофель, и Василь задумчиво почесал затылок.
Игнат Андреевич наклонился над столом, положил на руку Василя свою.
– Василь Минович, нельзя, дорогой мой, раздумывать, когда речь идет о жизни человека. Если я боюсь посылать на лошади, значит, случай серьезный.
В этот же день обратились к нему ещё с одной странной просьбой, правда, не такой загадочной, как Настина.
Старая женщина вошла в амбулаторию решительно, с воинственным выражением на раскрасневшемся, должно быть от быстрой ходьбы, лице. Ладынин взглянул на нее и понял, что это тоже не больная; подумал, что, наверно, пришла с жалобой на какого-нибудь финагента. Жалоб на неправильное обложение сельхозналогом было очень много.
Игнат Андреевич, вежливо пригласив её присесть, спросил:
– Из Лядцев?
– Из Лядцев, товарищ Ладынин… Ивана Мурашки мать буду.
Игнат Андреевич поставил на стол бутылочку с лекарством, которую разглядывал на свет, повернулся к женщине, взяв в руки фонендоскоп.
– Итак. Слушаю вас. Что болит?
– Не больная я, доктор. Сердце вот только болит. С жалобой я к вам, товарищ Ладынин. Только вы мне можете помочь, потому – он же партийный, Иван мой. Вас он должен послушаться, никого больше не слушает – ни мать, ни отца… Хоть ты ему кол на голове теши… Приворожила она его, не иначе как приворожила. У нее и мать ворожея была…
– Погодите, – остановил её Ладынин. – О ком вы говорите?
– Да Клавдя Хацкевич, заведующая фермой… Это ж подумать только, что делается… Хлопец ещё дитя, можно сказать, только из армии вернулся, один сын у родителей. Вся надежда была, что женится, хорошую молодицу в хату приведет… А она? На шесть лет старше, у нее вон дочка в четвертый класс ходит… Разве она ему пара?.. Приворожила, не иначе. Да ещё и выхваляется… «Не пойду, говорит, к этой Калбучихе». Это она меня так называет… Он к ней в примаки собирается, как будто своей хаты у него нет… Срам какой, боженька милостивый. Страшно подумать! Помогите, товарищ Ладынин, поговорите вы с ним хорошенько, пригрозите по партийной линии…
Игнат Андреевич, с трудом сдерживая улыбку, глубокомысленно поглаживал наконечником фонендоскопа бровь. Просьба эта его даже несколько смутила, он не знал, что ответить, чтобы успокоить женщину.
– Поговорить я поговорю. Но если она и вправду приворожила… Боюсь, что не поможет тогда никакой разговор.
– Так вы не только с ним, вы и с ней поговорите. Пристыдите её. Как ей не зазорно жизнь хлопцу разбивать? Подумала б она своей дурьей головой: разве же она ему пара? У нее дочка невестой скоро будет.
– Ладно, поговорю и с ней, – пообещал Игнат Андреевич и, выпроводив женщину, рассмеялся, весело потирая руки.
«Чудная ты женщина. Встала тут передо мной, как из прошлого века, насмешила… Поговорю, да не так, как ты хочешь… Надо выяснить, всерьез у них это или… И если всерьез – уж тогда прошу извинить меня, уважаемая Кал-бучиха, или как там тебя, не выполню я твоей просьбы…»
На следующий день, придя в Лядцы, Ладынин направился к Клавде домой. Переступил порог, поздоровался и даже на миг остановился, приятно пораженный. В хате было, как перед большим праздником, выбелено, каждая вещица сверкала чистотой и стояла на своем месте. Хозяйка, тоже ка кая-то необычная, в праздничном платье, увидев его, засуетилась: схватила чистое полотенце, вытерла им до блеска вымытую и оттертую кирпичом табуретку.
– Проходите, Игнат Андреевич, садитесь, – и покраснела, как девочка.
Доктор окинул её пытливым взглядом. Она опустила глаза.
– Вот вы какая… Клавдия Кузьминична! А помните наш первый разговор у вас в хате?
– Помню, Игнат Андреевич.
– Вот я и гляжу. Видно, недаром мне одна женщина сказала, что вы ворожея.
Клавдя рывком подняла голову, сверкнула глазами.
– Калбучиха? Приходила, значит? И, конечно, наговорила на меня?
– Нет. Сказала только, что вы жизнь её сыночку разбиваете… что вы бабушка, а он ещё дитя совсем…
Клавдя беззвучно рассмеялась: заколыхалась под шелковой блузкой её красивая полная грудь.
– Так и сказала – дитя?
– Так и сказала: бедненький мальчик.
Она вдруг присела по другую сторону стола, подперла ладонью щеку и, грустно вздохнув, промолвила:
– Не улестить мне её.
Игнат Андреевич минутку помолчал, разглядывая горшки с цветами на окнах и скамейку. Потом встал, положил ей руку на плечо.
– Посмотрите на меня, Клавдия Кузьминична, – и, когда она взглянула ему в глаза, тихо спросил: – Любишь?
Она отвечала громко, весело, задорно тряхнув головой:
– Вы разве тоже меня старушкой считаете? Я ещё так полюбить могу!
– А он?
– Он? Он первый мне сказал…
– Серьезно это? Веришь ему?
Она снова опустила голову, опять покраснела и долго молчала.
– Я дитя его под сердцем ношу… – произнесла она шепотом и словно сама испугалась: до этих пор никто, кроме них двоих, не был посвящен в тайну их любви. Игнат Андреевич понял это и тоже смутился: нахмурил брови, кашлянул в кулак и взял в руки свой чемоданчик.
– Ну, коли так, то остается только пожелать вам счастья. А Калбучиху как-нибудь улестим… Простите, Клавдия Кузьминична, что вмешался в вашу жизнь.
– Что вы, Игнат Андреевич… Вы простите… Я рада, вы меня прямо успокоили. Посидите ещё… я вас медком угощу.
– Нет, нет…
Она проводила его до порога и тогда тихо сказала:
– А за нас вы не беспокойтесь. Мы сегодня в сельсовет идем. Поджидаю вот… его…
– Ну, в таком случае – давай бог ноги, а то ещё и по загривку достанется, – пошутил Ладынин.








