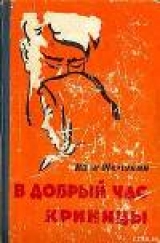
Текст книги "В добрый час"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
11
Каждый вечер Василь просил мать, чтобы она разбудила его пораньше. На рассвете она подходила к нему, любовно глядела, как он сладко спит, и жалела будить, как в те далекие времена, когда он, малышом, пас коров или ходил в школу.
«Пускай ещё немножечко поспит. Что в такую рань делать?» Но тут же будила неумышленно. Василь спал во дворе под навесом. За стеной, в хлеву, стояла корова. Её вздохов и даже мычания он никогда не слышал, но звон первой же струи молока о дно доенки будил его неизменно, независимо от того, когда бы он ни лег и как бы крепко ни спал. Подоив корову, мать выходила из хлева и удивлялась: у крыльца сын обливался холодной водой, брызгая во все стороны.
Она тяжело вздыхала.
– Не спится тебе, сынок. Замучает она тебя, эта работа.
Вон агроном как спит! (Шишков, правда, любил поспать.) А ты… хоть бы разок выспался как следует…
Она каждый раз это говорила, и Василь в ответ только улыбался. Но в то необыкновенное майское утро из хаты, через открытое окно, отозвался отец:
– Эй, старуха! Не сбивай ты его с толку. Ему спать долго не дозволено – он хозяин.
– Хозяин! Иной хозяин ещё дольше спит, – недовольно ворчала мать.
– Плох тот хозяин!. – не унимался Мина Лазовенка, высунув голову из окна.
Это был ещё довольно крепкий старик с аккуратной, белой, как у профессора, бородкой. Он был ранен в первую мировую войну и, как сам говорит, чуть не отдал богу душу в каком-то царском госпитале. Возвращение домой, к семье, работа на земле, которую он получил после революции, затем радостный труд в колхозе исцелили его. Несмотря на свои шестьде сят лет, он был лучшим в деревне косцом, пахарем, неутомим мым подавальщиком у молотилки; эту последнюю работу он особенно любил и уборки урожая ждал, как праздника.
Василь был благодарен отцу за то, что тот никогда не выказывал жалости, не утирал слез, как мать, при виде глубоких шрамов на груди и спине сына, не принуждал побольше отдыхать.
Наоборот, хозяйскими советами, колкими замечаниями, когда что-нибудь делалось не так, он как бы подзадоривал сына, заставлял работать лучше.
Василь собирался пойти ещё раз предупредить бригадиров, чтоб они не опоздали с выездом бригад на работу в Лядцы. Накануне было договорено, что рабочий день там они начнут не позднее, чем у себя, а то и раньше.
Но, увидев отца, он понял, что напоминать никому ни о чем не надо, тем более что раньше он никогда этого не делал, а бригадиры, которые выполняют все задания с почти военной точностью, могут просто обидеться. Вот отец уже давно собрался, и, как видно, с большой охотой.
Прихлебывая из солдатской кружки парное молоко, старый Лазовенкр хитро усмехнулся:
– Ну, сегодня мы покажем лядцевским лодырям, как надо работать.
Василя даже передернуло от этих его слов.
– Ты знаешь, отец, как это называется?
– Что?
– Вот это самое, что ты сказал. Зазнайство.
Старик вытер ладонью усы и бороду, потом смел в эту ладонь хлебные крошки со стола, кинул их в рот.
– Как хочешь называй, а мы свое дело сделаем.
Позавтракав хлебом с молоком, Василь вышел на огород. Тропинкой между огородами и лугом он прошел в другой конец деревни, наблюдая оживление, царившее уже на колхозном дворе и на улице.
Настроение у него со вчерашнего дня было необыкновенное, все такое же светлое, веселое. Хотелось с кем-нибудь перекинуться словцом. Хорошо бы с каким-нибудь шутником, вроде Примака.
На одном из крайних огородов он увидел склоненную женскую фигуру. Узнал старую Горбылиху.
«Рано бабка на своих грядках ковыряется», – подумал он и, вспомнив один случай, происшедший со старухой, рассмеялся. Было это в то время, когда установили локомобиль и начали проводить электричество в хаты колхозников. Старуха живет одна, сын её погиб на фронте, невестка работает на железной дороге проводницей, а единственный внук учится в городе. Свет ей провели в первый день. Сделали все как следует, ввинтили хорошую лампочку и оставили бабку радоваться, что не придется больше жечь керосиновую лампу, от которой у нее всегда болела голова. Наступил вечер. Незагруженная ещё электростанция дала такой свет, что в маленькой хате стала видна каждая пылинка и паутинка. Бабка сначала порадовалась, но потом почувствовала, что от этого непривычного света у нее начинают слезиться глаза; она еле начистила чугунок картошки. Наконец у нее разболелись не только глаза, но и голова, хуже, чем от керосина. Бабуся, правда с большим огорчением, решила потушить эту удивительную лампу и снова зажечь свою керосиновую. Но как потушить? Колхозные электрики не поставили выключателя и не объяснили ей, что в этом случае надо делать. Она что-то слышала о том, что надо вывинтить лампочку. Попробовала, но лампочка не хотела вывинчиваться, она нагрелась так, что прикоснуться к ней нельзя было. Бабуся долго блуждала по хате, натянув на глаза платок, вздыхала и охала, ругая и председателя и всех «осветителей». А голова у нее трещала и, казалось ей, вот-вот лопнет от этого безжалостного света. «Боженька мой, да столько света на всю деревню хватило бы. А чтоб вам пусто… хозяева неразумные… Должно, нарочно чертовы дети сделали, чтобы посмеяться над старухой… Хоть разбивай этот ваш пузырь». Наконец после долгих мучений додумалась. Схватила кувшин, осторожно подсунула его под лампочку. Эффект получился неожиданный. Опущенная в кувшин лампочка давала свет только вверх, образуя на потолке яркий круг. Вся остальная хата была в тени, окутанная мягким полумраком. Бабуся даже засмеялась от удовольствия и тут же привязала кувшин в таком положении к шнуру. Утром зашла в хату соседка, а у бабуси вместо лампочки кувшин посреди хаты висит. На неделю хватило смеху всей деревне.
…Василю пришла на ум эта история потому, что, увидев старуху, он вспомнил свой вчерашний разговор с Денисом Романом, главным механиком и электриком колхоза. Роман жаловался, что кое-кто из колхозников начал пользоваться потихоньку разными электрическими приборами: плитками, утюгами, чайниками. Он назвал имена и в их числе Горбы-лиху. Василь удивился:
– Горбылиха? – и засмеялся. – Ну, брат, если Горбылиха полмесяца печь не топит, а все готовит на плитке, так нам с тобой только радоваться надо.
– Невелика радость, Василь Минович. Сами знаете, не хватает энергии. Задыхаемся. Кроме того, не все умеют пользоваться плиткой, часто замыкание устраивают. А эта Горбылиха включит плитку, а сама на улице с бабами балабонит или корову доить идет. Того и гляди пожар устроит… Надо пока запретить, Василь Минович. Вот построим гидростанцию – тогда пожалуйста… Научим всех пользоваться, и жгите на здоровье.
Василь пообещал принять меры.
И вот она перед ним – первая «нарушительница общественного порядка», как назвал её Роман.
– Доброго утра, бабка Аксинья.
Она медленно выпрямилась, посмотрела на него, приложив ко лбу сухую, морщинистую, испачканную в сырой земле ладонь.
– А-а, Василек, соколик, дай тебе бог здоровьечка. – Они перекинулись несколькими словами. А когда бабуся.
снова наклонилась над своими бурачками, Василь неожиданно пошутил:
– Бабка Аксинья! А плитку?! Плитку выключить забыла?
Бабуся с несвойственной ей быстротой выпрямилась, всплеснула руками и бегом кинулась к хате.
– Ах, батюшки! Опять уйдет!
Но, сделав несколько шагов, обернулась и погрозила ему пальцем.
– Э-э, не шути, сынок, я её сегодня ещё и не втыкала, – и смутилась.
Василь от души расхохотался.
– Выдала, ты себя, бабуля. Сегодня же отнеси плитку Денису Роману, он её спрячет до поры до времени.
– А может, мне можно, Василек? Стара я, тяжело мне хворост из лесу носить…
– Дров мы тебе привезем, бабуля. В любое время и сколько хочешь.
12
Подходя к врачебному участку, Василь ещё издалека увидел Мятельского. У директора школы был очень странный вид. Босой, в нижней рубахе и в брюках от лучшего костюма, он беспокойно топтался возле палисадника. Всклокоченные волосы, бледное лицо с выражением страха и растерянности, нетерпеливые движения – все выдавало его крайнюю взволнованность. Он поглядывал то на окна квартиры Ладынина, то на школу. Больше он ничего вокруг не замечал. И Василя увидел только тогда, когда тот громко и весело поздоровался.
Мятельский метнулся к нему, схватил за руки.
– Лазовенка!.. Нет, ты рассуди, что это такое… Черт знает, что делается!.. Я не нахожу слов… Так может себя вести только врач с черствой душой, бюрократ… Там – человек… может быть… А он столько времени собирается… Занимается физзарядкой, чистит зубы… О-ох… А в это время, – Мятельский даже застонал и, приблизившись к окну, оклик нул дрожащим голосом: – Игнат Андреевич!
Василь ничего не понимал. Ему было странно, что Мятельский, который всегда уважал Ладынина, вдруг говорит о нем таким тоном.
– Что случилось? Какой человек?
– Нина Алексеевна… Ниночка, – в отчаянии прошептал он и вдруг прислушался. – Тише вы!.. – на лбу у него выступили крупные капли пота. – Кричит?
– А что с ней? – все ещё не мог взять в толк Василь. Мятельский уничтожил его полным презрения взглядом.
– Ро-оды!
Удивительное слово это электрическим током ударило в сердце. Василь почувствовал, как оно сильно забилось, как внезапно волнение Мятельского передалось ему.
«Роды», – и он уже сам осуждал Ладынина за то, что тот так преступно медлит с помощью женщине, которая вот-вот должна стать матерью. Он уже намеревался войти в дом и сказать об этом Ладынину. «Нельзя же так, в самом деле… Критиковать и подгонять других он умеет, а сам… Чистить зубы, когда рядом…»
Но в этот момент Ладынин появился в раскрытых дверях. Был он в белом халате, из-под которого выглядывал синий галстук и бледно-голубая рубашка. На губах его играла веселая улыбка. Мятельский бросился к нему.
– Товарищ Ладынин!
Игнат Андреевич обнял его за плечи.
– Рыгор Устинович, сохрани боже, чтобы тебя увидели сейчас твои ученики. В таком наряде! А что, собственно говоря, случилось? Ничего особенного. Доброго утра, Минович. Ты что, помогаешь Мятельскому волноваться, что смотришь на меня такими страшными глазами? Безусловно, большое событие… Рождается новый человек. Но зачем же так тревожиться, дорогой Рыгор Устинович? Все идет очень хорошо. Если бы что-нибудь было не так, Ирина Аркадьевна давно бы „меня позвала и я прискакал бы, как говорится, на одной ноге. А ты вдруг не доверяешь такой опытной бабке… Ты знаешь, сколько ребят она приняла за свою жизнь? Около двух ты-сяч, дорогой мой. Вот! – В голосе Игната Андреевича звучала гордость за жену.
Василю стало неловко оттого, что он, забыв об Ирине Аркадьевне, так дурно о нем подумал.
– Дай закурить, Минович!
Но Мятельского, как видно, не убедили спокойные слова Игната Андреевича. Услышав, что тот хочет ещё курить, будущий отец встрепенулся и устремил на Ладынина такой умоляющий взгляд, что доктор сразу же сдался.
– Ну, идем, идем… Что с тобой поделаешь! Учись, Минович, волноваться за жену. Когда-нибудь придется.
Василь пошел следом за ними, он был в плену овладевшего им нового и необычайно сложного чувства. Только после того, как Ладынин скрылся за дверьми директорской квартиры, а они с Мятельским остались стоять под окном, он подумал, что ему не совсем удобно здесь находиться, и, перейдя улицу, направился в колхозный сад.
Но под липами он остановился. Непонятная сила притягивала его к школе, к Мятельскому, который все ходил возле крыльца, подымался на ступеньки, на мгновение замирал в неподвижности, должно быть прислушиваясь… Возможно, в другое время Василь посмеялся бы над таким волнением обычно очень спокойного, флегматичного директора школы. Но сейчас у него самого как-то странно билось сердце – тревожно и радостно.
Всходило солнце. По небу плыли маленькие золотистые облачка, и можно было подумать, что гнали их первые солнечные лучи, потому что на земле ветра не было. Царила тишина. Алмазами сверкала роса на неподвижных листочках яблонь, на траве, на молодой картофельной ботве. Только липа чуть слышно шелестела, но, может быть, потому, что в гуще её листвы жила птичья семья. Над дорогой летали ласточки.
Василь всем своим существом ощущал неудержимую силу бытия, он видел и слышал, как жадно тянется все к свету, к солнцу, как рождается новая жизнь. Не просто жизнь… В этот миг рождается новый человек – владыка и творец всей красоты земли, всех её богатств. От этого в сердце у него звучал, ширился светлый, торжественный гимн. «Приходи, живи, радуйся, новый товарищ Мятельский! Все это – для тебя!» Он обвел взглядом вокруг и увидел не только то, что было у него перед глазами, – увидел, представил се$е все: густую рожь за садом и сахарную свеклу за рекой, штабеля бревен для гидростанции в Лядцах, бескрайнее море посевов, новые города, дворцы и школы, всю страну со всеми её неисчислимыми богатствами и неудержимым движением вперед, к вершинам человеческого счастья.
И вдруг взгляд его, как бы дойдя до какой-то черты, остановился, и перед ним встало минувшее. Один случай, один эпизод из тех времен, когда шло великое единоборство сил жизни с силами смерти. Многое он видел за годы войны: сожженные деревни и города, смерть близких друзей, горы трупов, людей, замученных фашистами, страшные печи Майда-нека – но этот маленький эпизод почему-то всплывал в памяти чаще, чем все другие. Было это в сорок четвертом, вот в такое же ясное солнечное утро. Только пора была более поздняя. Василь помнит: рожь, по которой они шли, уже перестояла, почернела. На рассвете его рота вышла на опушку леса. В километре от них горела небольшая литовская деревенька – хат пять. Горели все постройки сразу, пламя взвивалось в небо, а дым падал и плыл над землей, черный и горький, застилал солнце. Возле пожара никого не было видно, но фашистская артиллерия продолжала с какой-то нечеловеческой методичностью бомбардировать одно и то же место. Снаряды разбрасывали пламя, ломали деревья, выворачивали землю. Когда обстрел затих, Василь с группой бойцов ки нулся туда. Нигде – никого, никаких дзотов, никаких признаков, что тут вообще были солдаты. И вдруг он увидел то, что поразило его на всю жизнь. На дороге, между двумя сожженными хатами, лежала девчушка лет пяти, босенькая, в одной ночной сорочке. Оторванная осколком снаряда ручка её была отброшена в сторону, и посинелые пальчики сжимали башмачок… Тельце девочки было ещё теплым. Василь помнит, как он сидел возле нее на земле и… плакал, не стыдясь перед солдатами своих слез. А потом, когда её хоронили, на всю жизнь запомнились ему слова друга и заместителя по полит части Сергея Воронкова, который через несколько дней после этого умер у него на руках, смертельно раненный в бою на прусской границе:.
– Поклянемся, товарищи, что, отвоевав мир, мы никому не позволим отнять его у наших детей…
…Василь стоял, опершись грудью на яблоневую ветвь, в его ушах ещё звучал голос Воронкова.
Тяжелое воспоминание тенью легло на владевшее им светлое, торжественное настроение. Несколько минут толчки сердца были болезненны и гулки. Но продолжалось это недолго. На крыльцо школы вышел Ладынин. Что-то сказал, засмеялся. Мятельский кинулся к нему, обнял и поспешно бросился в дверь.
Василь с облегчением вздохнул и двинулся через сад в сторону Лядцев.
13
В Лядцах ни одного человека ещё не было на колхозном дворе, когда прибыли колхозники «Воли». Они приехали организованно – колонной, во главе важно шел владыка полей «НАТИ». Рядом с трактористом сидел Михаила Примак. Из руководителей «Воли» никого не было ни впереди колонны, ни в конце её.
Добродеевцы скромно, без выкриков и шуток, проехали через всю деревню и остановились у двора третьей бригады.
Со стороны казалось, что это необыкновенное происшествие никого не взволновало и не встревожило—все было как обычно в такой ранний час. Но на самом деле в Лядцах словно бомба разорвалась.
Почти все мужчины вдруг рассердились на жен за то, что те долго возятся у печки и торопливо, обжигаясь горячей картошкой и оладьями, кончали завтрак. Женщины отставляли из печек горшки, будили старших детей, отдавали им хозяйственные распоряжения.
– А ты куда, мама?
– На работу! Куда же ещё!
Бегали друг к другу, занимали вилы, корзины. Вскоре на улице начали собираться первые группы вышедших на работу людей. Встречались, коротко здоровались и отводили взгляды, как будто были в чем-то виноваты друг перед другом и теперь чувствовали себя неловко.
Переговаривались сдержанно, иногда со злостью. С полночи, должно быть, собирались, чтобы в такую рань явиться.
– Не знаешь, что ли, добродеевцев? Задаваки!
– Не кривите душой. Все мы отлично знаем, что у себя они не поздней выходят.
– И мы не задерживались. Еще роса не падет, как мы, бывало, уже в поле.
– Ну, чья бы, как говорится, мычала, а ваша б молчала. Не у тебя ли, тетка, председатель хотел печь залить?
– Хотел, да не залил. А тебя, поганец, во время работы сонного к кусту привязали.
Максима Лесковца приезд добродеевцев тоже застал врасплох. Он, правда, не спал и не завтракал. Он купался в речке недалеко от моста. Урчание трактора заставило его выйти на берег. Он увидел колонну и стал быстро одеваться. Руки его – от холодной воды, что ли? – дрожали, и он не мог застегнуть гимнастерку. Равнодушия, с которым он решил было, после разговора с Лазовенкой, встретить помощь, не было и в помине. Он почувствовал, что волнуется, и снова мысленно ругал Лазовенку, считая, что тот нарочно организовал этот «парад», чтобы «насолить» ему, Лесковцу.
Соглашаясь принять помощь, колхозники «Партизана» руководствовались одним желанием: скорее закончить сев. Вероятно, никто не усматривал и не искал в этой помощи каких-нибудь иных мотивов или хитрого умысла со стороны соседей.
Иначе все это представлялось Максиму. Он заранее знал, что добродеевцы покажут лучшую организованность и дисциплину, дадут большие нормы выработки, чем в «Партизане», лучше обработают почву. И все это Лазовенка использует, чтобы наглядно, на примере, показать, какой он, Леско вец, никчемный руководитель. Максим был твердо уверен, что между приездом в колхоз секретаря райкома и этой помощью есть определенная связь. Почему секретарь приехал именно к нему? И приехал не на денек, как обычно приезжают другие руководители, а расположился так, словно собирается прожить в колхозе неведомо сколько. Скорее всего, это тоже дело рук Лазовенки. И он использует этот приезд! Иначе почему он всю весну молчал и избегал встречи, даже на строительную площадку ходил не через деревню, а берегом? А теперь лезет со своей помощью!
У Максима в душе все кипело.
…На улице он столкнулся с Макушенкой.
Секретарь райкома шел в тот конец деревни, где остановились добродеевцы.
Заметив его и, должно быть, стесняясь встретиться с ним на улице или прийти позже него, мужчины и женщины огородами спешили на колхозный двор. Максим понимал их, по тому что и сам растерялся: секретарь подумает, что он до этих пор спал. Но, поздоровавшись, Макушенка просто спросил:
– Купались? Каждое утро так? Завидую. Ну, идемте, дайте людям работу. Используйте-на тех участках, где у вас прорыв.
У Максима снова вспыхнуло раздражение, и он, не скрывая злобы, ответил:
– У нас везде прорыв. Только и живем что милостями доброго соседа…
Секретарь укоризненно покачал головой:
– Эх, Лесковец, Лесковец! Максим покраснел.
– Откуда в тебе эта болезнь? Все тебе кажется дурным. Лазовенка тебя подсиживает, «топит»… Ладынин ему помогает… Секретарь райкома приехал в колхоз – тебе тоже чудится аллах ведает что! Опомнись, друг!
В первый вечер Макушенка зашел к Лесковцу. Он, собственно говоря, шел не к Максиму, потому что только что беседовал с ним у речки, он шел к Сынклете Лукиничне, так как считал долгом проведать жену своего партизанского друга.
Сынклета Лукинична была на огороде – варила ужин. В деревне существовал обычай-летом ужин готовить на костре где-нибудь в саду или в конце огорода, чтобы не топить печи на ночь. Быстрее, приятнее и даже вкусней; часто тут же у огня и ужинали.
– Увидев секретаря, Сынклета Лукинична и растерялась и одновременно обрадовалась.
– Простите, Прокоп Прокопович, угощать вас буду здесь, в землянку приглашать не стану.
Макушенка сел на траве. Сынклета Лукинична поспешно пошла к землянке. Темнело. Затихал вечерний шум деревни.
Макушенка задумчиво смотрел на маленькие язычки пламени, осторожно лизавшие чугунок. Два мальчика принесли стол и пару табуреток. Макушенка попросил их:
– Передайте тете Сыле, чтоб она не беспокоилась. Ничего не нужно.
– Ладно. Передадим. Да она не беспокоится, она на стойку цедит из этакой вот бутыли, – один мальчик развел руки.
Секретарь улыбнулся, посмотрел в сторону землянки. В глаза бросился черный дверной проем в белом срубе. Он почувствовал себя виноватым, что семья Антона Лесковца до сих пор живет в землянке. Непростительно, что он не вмешался в это дело. Ему рассказывали, почему Максим снял плотников. Зря снял, из-за самолюбия и ложной скромности.
– Когда же новоселье? – спросил Макушенка, как только Сынклета Лукинична вернулась. Она вздохнула. Он помолчал, наблюдая, как ловко она нарезает сало, потом неожиданно спросил: – Заплатить есть чем?
– Заплатить-то есть, да…
– Завтра я вызову бригаду, которая за пару недель сдаст дом.
Он решил снять часть бригады со строительства здания райкома.
«Если мы какую-нибудь лишнюю недельку пробудем в-старом помещении – ничего страшного не случится, а тут живые люди, семья героя-партизана», – рассудил он.
– У вас и так сколько хлопот, Прокоп Прокопович, а вы ещё будете нам плотников искать, – из вежливости сказала Сынклета Лукинична, но от него не укрылось, что она обрадовалась.
Шумно шипело сало, злобно стало оно трещать и брызгать жиром, когда хозяйка вылила на сковороду яйца. Белок сразу же сделался белым, вздулся пузырями. Яичница аппетитно запахла. Сынклета Лукинична, наклонившись, подкла-дывала под треножник щепки, они загорались сразу, жарко и светло. Макушенка не отводил от огня глаз. Любил он посидеть у костра, им в это время всегда овладевали партизанские воспоминания. Вот и сейчас он видел перед собой Антона Лесковца, слышал его простуженный, но бодрый голос: «Хорошо мы работали до войны, Прокопович, но после нее, думается мне, народ будет работать ещё лучше. Вот я, например… Да меня сейчас допусти к мирному труду – горы переверну. Разве я сейчас так бы руководил колхозом! Да я бы в нем такую жизнь создал, что любо поглядеть было бы! За войну мы её, нашу советскую власть, ещё крепче полюбили, умом и сердцем почувствовали, как много она нам дала, а потому хочется и ей все отдать, что можешь…»
Макушенка почти буквально помнил эти слова. Антон Лесковец говорил их летним вечером, вот у такого же небольшого огонька. Хорошо он умел мечтать о будущем!
Сынклета Лукинична видела, что секретарь задумался и, как бы догадываясь, о чем он думает, молчала, чтоб не помешать.
«Надо Максиму передать эти слова. Вообще, надо будет рассказать ему об отце, он, видимо, мало знает о том, как тэт работал. Хорошо было бы вот здесь, за дружеской беедой…»
– Где же это хозяин так задержался?
– Садитесь к столу, Прокоп Прокопович, не дождемся мы его. Он часто так – ужином завтракает.
– Что ж, дело молодое… Сынклета Лукинична вздохнула.
– Что так тяжко, Лукинцчна?
Не отвечая, она налила в рюмки настойку, подвинула ближе к гостю сковородку с яичницей, тарелку с хлебом.
– Кушайте, Прокоп Прокопович, а то находились за день…
– Не буду ни пить, ни есть, пока вы не сядете вот здесь, возле меня, – он подвинул ближе вторую табуретку.
Женщина села, чуть пригубила чарку и, утерев рот уголком платка, подперла ладонью щеку и заговорила:
– Давно мне хотелось побеседовать с вами, Прокоп Про-копович. Вот вы спрашиваете, чего я так тяжко вздыхаю… Да разве же я вздыхала бы, если бы он, как вы говорите, с ней ночки проводил… Это для материнского сердца радость! Глядишь, скоро и невестка в дом пришла бы… Соскучилась я одна… Да нет у него девчины… Не с ней он время проводит… Один шатается по полю или у Шаройки сидит, приятеля нашел… выпивает с ним. Неспокойно у него на душе, а отчего – не пойму. Вижу я, горит он на работе, болит его сердце, чтоб было сделано так, как у Василя, завидует он Василю, хочется ему, чтоб и наш колхоз такой был. Но не по-хорошему завидует… Василя считает чуть не врагом, Игната Андреевича избегает, в райком лишний раз заглянуть, посоветоваться боит ся, – как бы не подумали, что сам он ничего не знает, ни на что не годен. А разве ж так можно? Я ведь знаю, как отец его управлял. Райком для него был родней дома родного. Чуть в чем засомневается – сразу в райком едет, бывало.
Сынклета Лукинична умолкла, прислушиваясь к быстрому конскому топоту по плотине и по мосту. Весело заржал жере бец. За речкой на его голос отозвался весь табун.
– Приехал, – почти шепотом, как бы самой себе, сказала мать, но в голосе у нее была радость. – Орла в ночное повел.
Деревня давно уже уснула. Казалось, что вся жизнь переместилась туда, на болото: кричали деркачи, ржали лошади и где-то далеко, на пригорке у сосняка, горел большой костер. На его фоне время от времени мелькали силуэты людей.
Было тихо, ни один листок на груше, под которой стоял стол, не шевелился, но пламя зажженной Сынклетой Лукиничной свечи трепетало, кидалось во все стороны, как от испуга.
Макушенка слушал молча, изредка откусывая хлеб; и кидая вилкой в рот куски яичницы.
– Помогите вы ему, Прокоп Прокопович! – вдруг наклонившись к нему, горячо и быстро зашептала Сынклета Лукинична, как будто испугавшись, что кто-нибудь помешает высказать то главное, из-за чего она и начала этот душевный разговор.
Секретарь райкома вспомнил свою встречу с Ладыниным. Все то, что сказала ему мать о сыне, говорил и секретарь парторганизации.
Ладынин рассказал, что делает парторганизация, чтобы кипучую энергию этого молодого и невыдержанного коммуниста направить на настоящий путь.
– Мы немало уже сделали, – говорил Игнат Андреевич. – Мне кажется, что сейчас достаточно было бы одного удара, одного какого-нибудь случая, чтобы он сам осознал свои ошибки. А мы поможем ему.
Макушенка твердо верил в старого коммуниста Ладынина, а потому убежденно ответил матери:
– Поможем, Сынклета Лукинична.
Она не поблагодарила, ничего не ответила на его слова, а вдруг начала рассказывать о муже, неторопливо и просто:
– Антон мой, покойник, в молодости тоже был горячая голова. Неспокойный был человек!.. Как вспомню, так даже не верится. Кипело у него на душе, сила лишняя была, а приложить её некуда. Вот он и бунтовал. Чего только не выделывал! Первый забияка был на всю округу. Первый заводила во всех драках. В царское время у нас тут в праздники деревня на деревню стеной ходила, на кулачный бой. Добро-деевка на Лядцы, а чаще всего обе вместе – «хохлов» бить – на киселевцев или гайновцев. Боже ты мой, что творилось! – Сынклета Лукинична, представив, что тогда творилось, даже руками всплеснула. – А Антон мой всегда первым шел… Холостым он тогда был ещё… Однажды его чуть не замертво вынесли, живого места на нем не было. Не утерпела я тогда, кинулась к нему, стала к синякам снег да лед прикладывать. А он очнулся, смеется… С той поры у нас и началось… Через год он сватов прислал. Зимой женился, а весной на заработки ушел, в каменщики. Вернулся другим человеком….. Книжки начал читать.
Макушенка понимал её. Матери так хотелось оправдать сына, доказать, что и он может стать таким же добрым и умным, каким был его отец.
А сын в это время был недалеко. Придя домой, он увидел в саду под грушей огонек, услышал голоса матери и Маку-шенки и не захотел или не отважился (он и, сам не понимал) подойти. Тихонько забрался на чердак своей новой недо строенной хаты, где стал ночевать, как только потеплело, и лежал там, устремив взгляд в дыру для трубы, сквозь кото-: рую на него смотрели три далекие звездочки.








