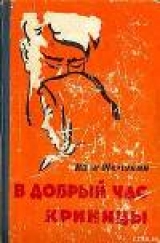
Текст книги "В добрый час"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
10
Еще издалека, с конца улицы, Максим заметил возле своей землянки подводы и людей..
«Что такое?» – удивился и даже встревожился он. Но, подойдя ближе, увидел, что люди укладывают в штабель бревна, и все понял. Шаройка выполнил свое обещание.
«Вот это по-моему: сказано – сделано. Как же это я забыл?» Ему стало неловко, что, покуда он гулял, люди на него работали.
По обе стороны землянки лежали два штабеля сухого соснового леса. К одному из них ещё подъезжали подводы; суетились люди.
Максима встретили шумно, весело.
– Здорово, Максим Антонович. Принимай работу!
– Гляди, сколько наворотили, пока ты гулял!
– Ну, Максим, с тебя, брат, магарыч!
– Ему, должно быть, и не снилось, что его хата сегодня дома будет.
– Тут не хата, а добрых две со всеми службами.
– Колхоз!
– Одному на полгода хватило бы возить.
– Амельян Денисович постарался! Он, когда захочет, из-под земли…
– Вот именно, когда захочет, – тихо отозвался кто-то за спиной Максима.
– Ну, хлопцы, берем последние!
Максим скинул шинель, взял самый большой дубовый кол, подхватил им комель толстого бревна.
– А ну нажми, хлопцы! Так-так! Взяли! Взяли! – громко командовал Иван Мурашка, и Максим подивился, откуда столько прыти у этого парня.
– Ещё раз! – гремел бас Андрея Грибача.
– Да раз-зок! – подпевал тоненький мальчишеский голос.
– Топ!
– Пошла!
– Лежи, милка, покуда плотник не потревожит.
Бревна были сухие, звонкие. Ударишь – весь штабель гудит, как приглушенный колокол. Пахли они смолой, лесной прелью, хвоей, примерзшей к угловатым комлям с белыми елочками подсечки.
Максим опьянел от работы. Он кричал вместе со всеми, командовал по-хозяйски, громко и решительно, перебегал с места на место. Под руку попался ствол молодой сосенки, только что срубленной в лесу. Кора на нем облупилась, и Максим запачкал руки и гимнастерку липкой смолой. Но зато как пахла она – эта свежая смола! Живым лесом! И в самом деле можно опьянеть, как пьянеешь весной в молодом сосняке, когда он весь осыпан желто-красным цветом.
Быстро рос второй штабель. Разгружали последние подводы.
Сынклета Лукинична топталась вокруг, с тихой материнской радостью и гордостью смотрела, как ловко работает её сын, и в то же время боялась, как бы он не надорвался. Ишь как хватает! Один поднимает колоду. Надо сказать, чтобы так не надсаживался. Потом она вспомнила о другом, испуганно всплеснула руками.
«Боженька мой! Людей же угостить надо. А я и не подумала. Век прожила, а ума не нажила. Угостить – это не задача. Слава богу, есть чем. А вот где?»
Увидев, что Максим на минуту оторвался от работы, чтоб вытереть пот, она подбежала к нему, отвела в сторонку.
– Максимка, людей-то угостить надо. Целехонький день на морозе…
– Само собой, мама.
– А где же, сынок? В землянке много ли поместишь? У кого, посоветуй. Может, у Маши? Хата у них теперь что твой клуб…
Максим сдвинул на лоб шапку, прикрыв козырьком глаза, и задумчиво поскреб затылок.
– Ну, что это тебе на ум пришло? У Маши! Черт знает что подумают!
И тут, как из-под земли, вырос перед ним Шаройка, вынырнул откуда-то из-за землянки, с огородов.
– А-а, и сам хозяин дома! Здорово, Максим Антонович. Что задумался?
Максим крепко пожал руку председателю.
– Добрый день, Амельян Денисович. От всего солдатского сердца благодарю.
– Ну, что ты! Долг, брат. Я свое слово крепко держу.
– А вот мать задуматься заставила. Где людей угостить?
– И-и-и… Это уже зря! Какое может быть угощение! Это у вас от Антона Захаровича. Отец был хлебосол на весь район. А тебе советую всех нас угостить на новоселье и на свадьбе. Там это будет кстати.
Максим взглянул на мать. Она вздохнула.
– Да ведь так принято… Таков уж обычай…
– Еще что скажете, Сынклета Лукинична! Сколько этих домов мы поперевозили – каждый день пьяные были бы… Другое дело, что вот приезд Максима не отпраздновали. Это так. А за то, что он три дня неведомо где гулял, накладываем на него взыскание. Сегодня празднуем у меня. Нет, нет, нет! И слушать не хочу. Ты что – вместо благодарности обидеть меня хочешь? Смотри, брат…
11
Дом Шаройки был построен по присланному в колхоз типовому проекту. Но внутри Шаройка распланировал все по-своему.
В одной половине, отделенной коридором, – просторная светлая кухня. Другая разделена на комнаты: продолговатую залу в три окна и две маленькие боковушки – спальни. В зале все сверкало чистотой. Недавно побеленные стены, старательно вымытый желтый пол, новая мебель, несколько неуклюжая, тяжеловесная, но сделанная на века – вся дубовая. На стенах портреты и без толку наклеенные плакаты: «Восстановим родную деревню» и «Все, как один, подпишемся на заем». На столе, застланном скатертью с замысловатыми узорами, ровными стопками лежали книги, ученические тетради, стоял открытый патефон: от блестящей головки его на черную крышку ложился зайчик. Все это Максим охватил одним взглядом с порога.
Он пришел один. Мать сперва вообще отказывалась идти, а потом пообещала прийти позже.
Амельян Денисович встретил его во дворе, цыкнул на двух больших лохматых псов, неистово рвавшихся с цепи, и сразу же повел в дом. Войдя в комнаты, Максим повторил ту же шутку, которая обидела Василя Лазовенку.
– Да, сразу видно, что хата председателя. Хозяин и гости засмеялись.
– Амельян Денисович – человек хозяйственный, – сказала кума Шаройки Марья Ахремчик.
– У тебя, Максим Антонович, будет не хуже. – Шаройка сел рядом, разгладил усы. – Теперь куреней не строят. Теперь народ вперед глядит, хочет, чтоб хата была как хата. Чтоб через какую-нибудь пятилетку-другую и электричество не стыдно было провести.
– Ого, кум, махнул! – воскликнул бригадир Лукаш Бирила. – Добродеевцы вон через год мечтают…
– Мечтать можно! Лукаш не отступал:
– А что ты думаешь? Год не год, а годика через два, глядишь, и пустят. Размах у них – ого-го. Да и темпы теперь не те. Помнишь, как у нас в двадцать втором пожар тридцать хат слизнул, целую сторону? Сколько строились? Три года. Потому что каждый сам со своей канителился. А теперь, считай, добродеевцы всю деревню за один год наново построили. А хаты какие! Хоромы! Сила, брат… колхоз!
– Да, сила большая, – многозначительно протянул Максим и покосился на Шаройку. Неудобно было прийти в гости и критиковать хозяина, хотя так и подмывало сказать и о тех двенадцати семьях, которые всё ещё жили в землянках, и о конях, и о хомутах, да и сад не обойти молчанием, – сравнить с садом в «Воле». Но именно потому, что все напрашивалось на сравнение с «Волей», он промолчал.
О чем ни заходил разговор, все, так или иначе, было связано с колхозными делами. Максим заметил, что Лукаш Бирила все время старается в замаскированной форме, намеком, шуткой, уколоть хозяина.
– Вы тут латефончик, патефончик… Что-нибудь веселенькое, – суетился Шаройка. – А я на кухню – баб подгоню.
– Гляди, как бы тебя самого бабы не погнали, – сразу же откликнулся Лукаш и хитро подмигнул Максиму.
Лесковец подошел к столу, начал заводить патефон и вдруг остановился. Отворилась дверь одной из спален, и оттуда вышла девушка. Модная, высокая прическа, заколотая блестящими шпильками, добела напудренное лицо, ярко-вишневые губы и дорогое бархатное платье – все это, казалось, так и кричало: «Вот и я! Смотрите, я какая!»
Максим не сразу узнал старшую дочь Шаройки, свою ровесницу, с которой тоже когда-то вместе учился. А узнав, он чуть не расхохотался.
«Ну и чучело! Только в коноплю воробьев пугать».
Она окинула комнату быстрым взглядом и, точно никого больше не видя, подошла к нему, величественно протянула руку.
– С приездом, Максим Антонович.
Он осторожно пожал её мягкую руку.
– Спасибо, Полина Амельяновна. А я вас едва узнал. Быть вам богатой.
– А разве сейчас я бедная? Да и вообще я считаю, что нам пора и слово это вычеркнуть из нашего лексикона. – Бе-е-е-едность! – презрительно протянула она. – Архаизм!
– О, безусловно! – напыщенно воскликнул Максим, а сам подумал: «Ну, кажись, доучилась до ручки».
Тут из кухни понесли угощение. Вкусно запахло жареным. Над горами мяса в глиняных мисках поднимались клубы пара. Отдельно, на тяжелом противне, был подан целый поросенок, блестящий от жира, с желтой, потрескавшейся на спине шкуркой, даже с хвостиком хрена в оскаленных зубах.
– Ого! – восторженно и удивленно воскликнул Бирила и старательно вытер ладонью усы.
Шаройка сам бегал на кухню, приносил вилки, ножи, хлеб, переставлял с места на место тарелки с закуской на столе и время от времени поглядывал на ходики, как бы поджидая ещё кого-то. Максим так и подумал, что ждут главного, самого важного гостя, для которого все и готовилось. Это его немного задело – ведь Шаройка говорил, что будут праздновать именно его приезд, значит, он главный гость. Но вдруг хозяин остановился между столом и дверью, развел руками, склонил голову и пригласил:
– Прошу к столу, дорогие гости. Начнем. Больше ждать никого не будем.
Тогда Максим с удовлетворением, оглядел присутствующих. Гостей было немного – человек десять. И всех их он ещё шесть лет назад называл дядями и тетями. Крайней от двери на низенькой скамеечке сидела Сынклета Лукинична. Она была в шелковой шали, которую он привез ей в подарок из Маньчжурии; розовая тень от платка ложилась на лицо, и оно казалось помолодевшим.
Максим поднялся и подошел к матери, чтобы за стол сесть рядом с нею, но Шаройка остановил его:
– Нет, нет, нет!.. Виновнику – почетное место. Вот сюда, – он показал на верхний конец стола.
Максим улыбнулся и позвал мать.
– А то, как в песне, все по паре, все по паре…
– А ваша где пара? – громко и, как показалось ему, с некоторым ехидством спросила Полина. – Где Маша? Мы вас ждали с Машей.
– Да-а, Маши нет? – Шаройка растерянно оглянулся, как будто Маша была и вдруг неожиданно провалилась сквозь землю. – Э-э, Максим Антонович, что же это вы!
– А я думала, что у вас уже все оформлено. Об этом же все село знает, что ты Машу туда забирать хотел… Да вот, слава богу, сам приехал, – пропела своим густым басом Бирилиха.
– Маша – девушка хоть куда. Первая работница в колхозе, – задумчиво и серьезно сказал Бирила.
Максим стоял, растерянно глядя на гостей.
Он видел, что все удивлены отсутствием Маши и совершенно всерьез требуют, чтоб он её пригласил. Но как это сделать, если он ни разу ещё не был у нее, хотя уже вторую неделю дома? И к тому же ещё эта чертовка Алеся, с кото рой у него не было никакого желания встретиться.
Он чувствовал, как ему становится жарко, а в душе растет злость против этой расфуфыренной обезьяны Полины. Но вдруг он встретил взгляд матери и подумал: «Она с ней в дружбе, за дочку считает… Вот пускай и разобьет этот лед…»
– Мама, сходи, пригласи её. От моего имени. Ну и, само собой разумеется, от имени хозяев.
Сынклета Лукинична намеревалась было что-то сказать, но смутилась и молча направилась к двери, сразу как-то сгорбившись, постарев. Но никто этого не заметил.
12
Сынклета Лукинична вышла из хаты в густую тень улицы и, оглянувшись, словно опасаясь, что кто-нибудь подслушает её, тяжело вздохнула. Упругий морозный воздух ударил в лицо. И, может быть, от него, от ветра, выступили слезы на глазах, на миг захватило дыхание. Она постояла немного, смахнула слезу и медленно пошла на огонек в хате Кацубов. Впервые шла она туда с такой неохотой, с такой тяжестью на душе.
Сынклета Лукинична знала, что Маша откажется от приглашения и, больше того, непременно обидится, оскорбится и, может быть, даже на нее: как она, старая дура, согласилась прийти с таким приглашением? Но и не выполнить поручения сына сразу же после его возвращения мать тоже не могла. Что тогда подумает о ней Максим?
Сынклета Лукинична ещё раз вздохнула.
«Сынок, сынок! Разве ты не понимаешь, что так делать нельзя? Обижаешь ты девушку».
Она подошла к хате и заглянула в окно – дома ли Маша? Хоть бы не было её дома – было бы легче, не пришлось бы ни говорить с ней, ни врать сыну. А разве она могла ему соврать?
Но Маша была дома. Она ходила по комнате, кутаясь в теплый платок, и говорила о чем-то горячо, громко, так что и сквозь двойные рамы голос её долетал на улицу. За столом сидела Алеся.
Сынклета Лукинична отошла, чтобы, сохрани боже, не услышать, о чем они говорят. Никогда в жизни она не подслушивала чужих разговоров.
Она взошла на крыльцо с резными столбиками и с лавочками по бокам. Присела и долго сидела. Если б она знала, что в это время в хате говорили о её сыне, она, верно, так и не отважилась бы зайти.
А в хате и в самом деле говорили о Максиме. Днем к Маше прибежала работница фермы, комсомолка Гаша Лесковец, двоюродная сестра Максима, с жалобой. Утром Шаройка пришел на ферму и забрал четырех гусей и лучшего поросенка. Сказал, что все это – для чествования героя.
Низенькая толстая Гаша каталась по комнате, как футбольный мяч, и взволнованно строчила, как из пулемета:
– Что ж это такое получается? Без году неделя, как вы шло постановление, сколько говорили о нем, сколько говорили и всё забыли уже, всё по-старому. Опять Шаройка растаскивает колхозное добро. Мне не жалко гусей. Гусей много, их все равно планируем продавать. Вот пускай и заплатит по рыночной цене, а поросенок? Только завели свиноферму, первый приплод… Мы этих поросят на руках носили, как детей. И вдруг – на тебе! И самого лучшего! Самого красивого! «Героя чествовать»! – передразнила она Шаройку. – Скажи на милость, какой герой! Две медали нацепил – и герой! Да лопнет он, хотя бы и герой, если столько съест! – Гаша вдруг сообразила, что наговорила лишнего, вспомнила, кто такой для Маши Максим, и кинулась к ней, порывисто обняла – Ты меня прости, Машенька, я, дурная, наговорила чего и не надо! Но ведь нельзя же так! Скажи ты им, Максиму скажи. Разве ему это нужно! Разве он такой человек? Да и тетка Сыля против этого будет. Скажи, чтоб он откач зался от такого угощения, пусть Шаройке будет стыдно.
Тяжело было у Маши на душе все эти последние дни, после приезда Максима. Неловко она чувствовала себя перед, людьми. Положение у нее было ложное, оскорбительное. Вся деревня говорит о свадьбе, а на самом деле какое-то странное недоразумение. И вдруг, точно в насмешку, – чтоб она сказала Максиму! Маша, спокойная, рассудительная Маша, не сдержалась. Она резко отстранила подругу и отрубила:
– Ты ему двоюродная сестра, ты и скажи!
Гаша была девушка несдержанная, шумная. И спуска никому не давала.
– Ага, вот как! – со злостью и словно обрадовавшись, крикнула она. – Говорить о нарушениях устава ты умеешь а как до дела, так в кусты. А-а? Жениха боишься задеть? Хорошей хочешь быть? Ладно же, я поговорю где надо. Я к доктору схожу! – крикнула она и, громко хлопнув дверью, выскочила из хаты.
…Алеся аппетитно хлебала суп и исподлобья наблюдала за сестрой, рассказывавшей ей все это. Время от времени Алеся улыбалась, но как-то странно – одними губами, глаза же её были серьезны, задумчивы. Маша заметила её улыбку и остановилась пораженная:
– Ты смеешься?
– Очень уж по-медвежьи на этот раз залез Шаройка в колхозный карман. Грубая работа. Раньше он это делал чище.
– А теперь ему ни к чему хитрить. Он знает, что председателем ему осталось быть недолго, и, видимо, пронюхал, что Максим думает работать если не в колхозе, то в районе. Вот и подлизывается. И дом – в один день, и встреча как настоящему герою. Оправдаться ему легко будет. У кого хватит духу сказать что-нибудь против сына Антона Лесковца? Я уж представляю, как Шаройка будет выступать перед собранием. – Маша стала напротив Алеси, разгладила воображаемые усы, оперлась кулаками о стол, надула щеки. – Кто такой Максим Лесковец? Сын Антона Захаровича Лесковца, который шесть лет был председателем нашего колхоза, который… И пошло, и пошло…
Они обе засмеялись.
Маша отошла, прислонилась спиной к горячей печке.
– Но обиднее всего, что Максим пошел на эту удочку… Обидно и тяжело…
Алеся наклонила миску и вылила остатки супа в ложку, как это делают дети, когда еда им по вкусу.
– Эх, вкусный суп… Много он воображает о себе, твой Максим.
– Мой?!
– А чей же?! И ты должна, не откладывая, встретиться с ним и вправить ему мозги. Что это за такие деликатности? Две недели живут на одной улице и не могут встретиться. Да я бы с ним уже семь раз повидалась и поговорила.
Маша задумалась. И в самом деле, почему бы ей самой не повидаться с ним и не поговорить? Разве после семилетней дружбы, после тех писем, которые они писали друг другу, она не имеет на это права?
В дверь постучали. Сестры переглянулись, и Алеся быстро побежала открывать.
Вошла Сынклета Лукинична. Маша смутилась и, поздоровавшись, долго молчала, не зная, с чего начать разговор, о чем спросить, как держать себя. До этого они встречались так просто и сердечно, по нескольку раз на день ходили друг к другу. А теперь… Было заметно, что и Сынклета Лукинична чувствует себя неловко, волнуется и тоже не знает, как начать разговор. Она присела к столу, взяла в руки книгу, заглянула в другую, раскрытую, заметила:
– Сразу видно, кому что… У Маши – «Агрономия», у Алеси – стихи… – и опять умолкла.
Разговор начала Алеся, и начала, как говорится, с лобовой атаки.
– А мы думали – Максим, – как будто совсем безразлично, перелистывая книгу, сказала она.
– А мне вы уже и не рады? – попыталась пошутить Сынклета Лукинична, почувствовав себя легче оттого, что разговор начался в нужном ей направлении.
– Что вы, тетя Сыля! – воскликнула Маша, недовольно взглянув на сестру.
– А я по поручению сына.
– Раззе он уже дома? – лукаво спросила Алеся, хотя отлично знала, что он уже вернулся.
– У Шаройки. Вечер там. Чествуют его. И вот он послал меня, чтоб я, Машенька, тебя пригласила… Там все тре…
– Что-о? – Маша не дала ей окончить.
Она произнесла это тихо, удивленно, и Сынклета Лукинична испуганно умолкла.
Маша сделала шаг от печки вместе с этим протяжным «что-о», секунду постояла неподвижно и вдруг, почувствовав какую-то странную слабость, села на кровать. В первый момент на сердце у нее стало холодно, а потом все внутри залила жаркая боль. Кровь застучала в висках. Она сцепила пальцы и крепко прижала ладони к груди. И, может быть, поэтому стало трудно дышать.
В одно мгновение она вспомнила, как несколько дней тому назад она представляла себе его приезд, свою первую встречу с ним.
«Максим приехал!» – принесет в хату радостную весть какая-нибудь бойкая любопытная соседка или не менее любопытная девчонка. (Так оно потом и случилось.) Понятно, он сначала зайдет к матери. Но через полчаса, ну, пускай через час, он непременно придет к ней, сюда, в эту новую светлую хату, построенную для них государством… Она будет одна, празднично одетая для встречи. (Она так хотела, чтобы в этот момент не было никого дома: ни Петра, ни Алеси.) Она нарочно станет спиной к двери, будет смотреть в окно Или в книгу, будто она ничего не знает, никого не ждет и не видит его. Он тихо окликнет: «Маша!» Она обернется: «Максим!»
Они пойдут друг другу навстречу, медленно, но она не утерпит, она бросится и порывисто обнимет его. Потом она будет глядеть ему в глаза – каким он стал? – гладить его щеки, шутя дергать за усы. «Максим!»
Может случиться, что она заплачет. Разве стыдно в такую минуту заплакать? Ведь она шесть лет ждала его.
Ждала…
Маша вздрогнула и представила себе другое: как она, одетая по-праздничному, ожидала его в день приезда и как они с Алесей готовились к его приходу. Стыд, горечь и обида обожгли ей сердце.
И вот наконец он вспомнил о ней. Нет, ему напомнили… И он… прислал мать позвать её… Куда? На вечер… К Шаройке… Маша подняла голову, встретила нетерпеливые взгляды Сынклеты Лукиничны и Алеси и поняла, что она слишком долго молчит, что от нее ждут ответа. Она поднялась, подошла к столу и, сдерживая волнение, тихо, но отчетливо произнесла:
– Скажите вашему сыну, что он… – она поискала нужное слово, не нашла и, махнув рукой, отвернулась к окну.
Сынклета Лукинична опустила голову и долго молча перебирала складки платья. Потом виновато сказала:
– Машенька, родная. Разве ж я… – и тоже не окончила – прослезилась.
Маша опомнилась и быстро повернулась к старухе.
– Не надо, тетя Сыля… Простите меня, – и у самой на ресницах заблестели слезы.
13
Вместо снега, которого ждали с особой крестьянской тоской, западный ветер пригнал дождь. Он пошел неожиданно, под утро, когда ещё не отпустил мороз. Все – земля, деревья, крыши – покрылось звонкой ледяной коркой.
Маша забеспокоилась: наледь может погубить посевы озимых. Она перелистала книжки своей небольшой сельскохозяйственной библиотеки, но ничего о том, как бороться с этой бедой, не нашла. Надо расспросить у стариков. Правда, с тех пор как она стала серьезно интересоваться агрономией, она убедилась, что часто практические наставления старых мудрецов, вроде Шаройки, расходятся с наукой. Однако Маша не пренебрегала и советами практиков.
Но сегодня ей не хотелось идти в канцелярию, где обычно в непогоду собирались колхозники. Она боялась встретиться с Максимом. Как несколько дней назад она жаждала этой встречи, так теперь избегала. Ей стыдно было признаться себе, что она боится. Нет, нет, она не боялась. Это было какое-то другое чувство, более сложное и, может быть, потому более мучительное. Нельзя сказать, чтобы ей было очень больно. Скорей – стыдно было перед людьми. Что теперь будут говорить об их отношениях? Кого будут винить – его или её?
Однако тревога за посевы взяла верх. Такой уж у нее был характер. Всегда душа болела за колхозное добро, любой ущерб, нанесенный колхозному хозяйству, переживала она как свою личную потерю. И потому так часто и непримиримо ссорилась и ругалась с Шаройкой. Она знала, что за это Амелька ненавидит её, хотя внешне ненависть его ни в чем не проявляется: всегда вежлив, спокоен, слушает внимательно, часто соглашается, даже советуется. Маша никогда не испытывала к нему злого чувства. Наоборот, даже питала к нему некоторое своеобразное уважение и часто защищала от незаслуженных обвинений.
В канцелярии и впрямь было многолюдно. Мужчины, должно быть, рассказывали анекдоты, не предназначавшиеся для женских ушей, так как сразу замолчали. Её уважали. Не каждый мужчина столько делает, сколько она, и не каждый прожил такую трудную жизнь. Но к её беспокойству за посевы отнеслись с безобидной крестьянской иронией. Шаройка учел настроение большинства и тоже насмешливо ухмыльнулся, оскалив крупные белые зубы.
– Я, Павловна, гляжу на тебя и все удивляюсь. В кого это ты пошла? Отец твой и мать были такие спокойные люди. Никогда, бывало, воды не замутят. Вон Антон Лесковец, так тот и спал, а людям покоя не давал. И если Максим в отца, так оно понятно…
Маша, не желая, чтоб начали говорить о Максиме, прервала председателя:
– Вы, Амельян Денисович, всегда отвечаете не на то, о чем у вас спрашивают.
– А-а, ты об озимых? Ничего с ними не станется. Первый раз, что ли? И при дедах наших и при отцах…
– Вот и плохо, что мы по дедовским законам живем. Деды снимали по двадцать пудов с десятины – и рады были. А теперь вон наши соседи по сто берут.
Шаройка понял, каких соседей она имеет в виду, и, недовольно передернув усами, возразил:
– По сто не по сто, только ещё думают. А если у нас по двадцать, так ведь какой год был? Чего ты хотела в такой год?
– Засуха, – вздохнул кто-то из колхозников.
– Засуха – это ещё ничего, а вот война что наделала. Словом, не в один день Москва построена.
– Павловна, ты лучше нас на свадьбу пригласи, а то потом в спешке забудешь.
Маша вспыхнула и сразу, оставив Шаройку, повернулась к колхозникам.
– Позову всех, никого не забуду.
– А покраснела девка, – заметил Лукаш Бирила. Она почувствовала, что щеки запылали ещё ярче. – Маша, не вздумай только из своей хаты в землянку идти, мы для тебя её строили.
– Ты его в примаки возьми.
– Ого! Пойдет он! Этот черт в батьку. Гордый.
Люди говорили серьезно, без лишних шуток, и Маше удалось скрыть свое смущение. Но разговор опять больно кольнул по сердцу, и оно сжалось, заныло. Из канцелярии она пошла через огороды в поле – не могла удержаться, чтоб не поглядеть на озимые.
Сразу за огородом – молодой сосняк.
Хрустела под ногами ледяная корка. Сосны понуро опустили до самой земли обледенелые ветки. Дул легкий ветерок – и весь лес жалобно звенел, роняя радужные сосульки. Они разбивались, земля под соснами была покрыта мелкими осколками льда, но не прозрачного уже, а белого.
За сосняком – один из озимых клиньев колхоза. В конце его, на границе с полями «Воли», – семенной участок, на котором Маша с группой комсомольцев взялись вырастить стопудовый урожай.
Сколько сил она отдала этому участку! Шаройка поддерживал только на словах, красиво расписывая её замысел на собраниях да на совещаниях в районе. А когда дошло до дела, так он все никак не мог перебросить с другого клина трактор, дать рядовую сеялку. Чуть ли не последним засеяло звено свой участок. И все-таки, несмотря на это, всходы пошли дружные, веселые, перегнали все соседние, где рожь была посеяна по старинке, без минеральных удобрений, без добавочной обработки.
Маша вышла из лесу.
Всходы полегли, приникли к земле, примерзли. Куда девалась густая, ласкающая глаз поросль, пушистым зеленым ковром устилавшая землю всю осень!
У Маши даже похолодело сердце. Она наклонилась, растопила ладонью ледяную корку, расправила пальцами несколько слабых побегов.
Её заставил вздрогнуть треск в сосняке. Через минуту оттуда, нагнувшись, выбрался Василь Лазовенка. Он приветствовал её доброй дружеской улыбкой.
– Беспокоишься, хозяйка? Поздновато. Теперь уже ясно, что за день растает. Видишь, ветер повернул. А я на рассвете вскочил и людей послал разбивать корку. Хлопцы мои уже и приспособление изобрели, чтобы выполнить эту работу конной тягой.
Маша пошла ему навстречу, первая подала руку.
– Что ж это ты на занятия не являешься? Два раза уже пропустила…
– Все некогда было…
– А-а, понимаю, – сказал он.
Они, не замечая этого, тихо шли через лесок по направлению к лугу.
– Когда свадьба?
Машу резануло это как ножом: «Опять свадьба». Она украдкой взглянула на него: серьезно спрашивает или в шутку? Василь: задумчиво смотрел куда-то вдаль, покусывая губу. «Нет, не шутит». И она коротко ответила:
– Скоро.
– Люблю свадьбы. Только чтобы свадьба была по всем правилам. Не терплю, когда это делается кое-как… Такой торжественный случай бывает раз в жизни, и запомниться он должен на всю жизнь. Моя мать и сейчас начнет рассказывать о своей свадьбе – заслушаешься, – он взглянул на девушку и усмехнулся.
Маша смотрела на него с удивлением. Никогда раньше она не слышала от него таких слов и считала человеком суховатым, не по годам серьезным, даже хмурым.
– Особенно приятно – на тройке, с бубенцами, с гармоникой, с песнями… Сзади снег вихрится… Дух захватывает. Словно летишь ты наперегонки с собственным счастьем. В народе свадьба спокон веку была большим праздником… Пригласите – лучшую тройку пригоню.
– Признаюсь, не знала, что ты такой… поэт, – усмехнулась Маша. – Как моя Алеся!
Василь смутился и, должно быть, чтоб скрыть это, начал закуривать.
Прикурил, осторожно перевернул спичку и, послюнив пальцы левой руки, взял за обугленную головку. Спичка догорела и наклонилась в Машину сторону. Маша улыбнулась. Он, видимо, заметил её улыбку, так как быстра смял сгоревшую спичку, вытер пальцы о ватник и продолжал свою мысль:
– Свадьба и ещё родины… Меня, например, всегда обижает, когда рождение нового человека проходит незаметно. Ведь это событие!
Маша удивлялась все больше и больше…
«Сколько лет приятели, а я и не знала, что он такой… чудной…»
– Когда у меня родится первый ребенок, я такой пир закачу…
Он с улыбкой посмотрел на свою спутницу, видимо ожидая, что она ответит на это шуткой. Но Маша даже не улыбнулась, и это снова смутило его.
Минуту тянулось неловкое молчание. Он объяснил его по-своему.
– Ты прости за то нелепое сватовство… Поверь, я тут ни при чем. Это выдумала мать… Глупо, правда? Конечно, глу по… Да и с нашей стороны тоже дико… Неужели мы, взрослые люди, друзья, не могли сами договориться?
Он вдруг остановился, повернулся к Маше и тихо произнес:
– Хотя, собственно говоря, к чему бы это привело? – и двинулся дальше; на ходу отломил сухую сосновую ветку, начал мять и теребить её пальцами. – Но знаешь, мне все-таки давно хотелось поговорить с тобой вот так… по-дружески… Понимаешь… Как бы это сказать тебе попроще? Ну-у, – он на миг смутился, бросил веточку вперед и вместе со взмахом руки сказал – Все-таки я тебя любил…
– Любил?!.
– Да… И чувство это старое. Оно возникло, пожалуй, ещё до войны. Помнишь, я приехал на каникулы: мы вместе с тобой шли со станции? Мне кажется, что уже тогда… Но осознал я это только на фронте. Знаешь, когда лежишь в землянке или в окопе… Мокро порой, холодно, время тянется медленно… И начинаешь вспоминать самое хорошее, такое, знаешь, светлое, из мирной жизни… И мне чаще всего вспоминалась ты. Или в госпитале… Это страшно – лежать прикованным к постели. Черт знает какие мысли лезут в голову! Но я вспоминал тебя, и становилось легче. Я думал о тебе часами и забывал обо всем. Я потому и письмо тебе написал в тот же день, как только прочитал, что наши деревни освобождены. Спасибо, что отвечала… Получу их, твои письма, и теплей делается на душе.
– А Настя? – с лукавым девичьим любопытством спросила Маша. – Она тебе чаще писала.
Василь вздохнул.
– Не могу обманывать ни себя, ни тем более её. Не лежит душа. Жалко мне её. Она человек горячий, правда, слишком уж упряма и настойчива. Да это, может, и хорошо. Я ей откровенно сказал. Обиделась. Полгода не разговаривает…
Они приближались к концу сосняка. Дальше в болотной низине рос ольшаник. За ним начинался луг, блестела извилистая лента реки.
Заговорились мы с тобой, Маша. Прощай, я к стогам.
Говорят, к ним ваши коровы наведываются. В пятницу занятия. Придешь?
– Обязательно.
Он быстро двинулся через ольшаник, а она стояла и долго смотрела ему вслед. Правда, думала она не о нем. Она опять вернулась к мыслям о своих отношениях с Максимом, и на этот раз они почему-то показались ей совсем не такими уж сложными.








