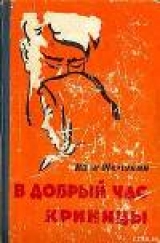
Текст книги "В добрый час"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
5
Алеся уехала в Москву сдавать экзамены в университет.
Петю правление откомандировало на курсы трактористов и комбайнеров. Дом опустел, и Маша должна была перебраться, в Лядцы, чтоб приглядеть за хозяйством, которое нужно было сберечь для Пети.
В первый вечер, проводив взволнованную Алесю на станцию, она долго ходила по просторной хате, по двору, по огороду и не знала, за что взяться. Стало грустно. Она с нетерпением ждала Василя. Он пришел, когда уже стемнело, как всегда возбужденный, веселый. Крепко обнял её, поцеловал.
– Вот и разлетелась наша семья, – невесело улыбнулась Маша. – Все сразу.
– Грустно? – понимающе спросил её Василь.
– Грустно и радостно, Вася. Перед ними – такая жизнь! – А перед нами?
– И перед нами, – она ласково прижалась к нему.
– Ну, идем ужинать. Красивая у нас с тобой жизнь. Ночевать будем в Лядцах, обедать – в Добродеевке. Настя опять тарарам подымет, что пьем молочко от двух коров. Чудачка!
Маша легко вздохнула:
– Тебе смешно. А меня это так тогда поразило, что я и сейчас ещё успокоиться не могу. Обидно, что люди не понимают. В наше время… Наши ровесники…
– Ничего, Маша. Не делай ты из ерунды политики. У неё были свои причины, только она ничего умнее придумать не могла. А так, при всех её чудачествах, она славная девушка. Не ревнуешь? Я верю, что она первая будет у нас героиней. С её настойчивостью…
Окна были раскрыты, и в комнату тусклыми матовыми звездами глядела душная ночь. Пахло спелым зерном – запах этот плыл с полей, – геранью и розами, росшими в палисаднике.
Они сидели за столом друг против друга, уставшие за день, но счастливые, довольные тем, что остались наконец наедине. Не спеша ужинали, тихо разговаривали. Им хотелось сидеть так и сидеть. Время летело незаметно. Давно уже затихла деревня, и даже голосов молодежи не было слышно.
– Все спят. Пора и нам, Маша. Завтра мне надо подняться часа в четыре. – Василь завел будильник, чтоб не проспать. – Надо начать жать до солнца, чтобы к обеду снопы подсохли, а со второй половины дня запустить молотилку. А вообще, промахнулись мы с этими вырубками. Простить себе не могу. Надо было непременно осенью выкорчевать пни… Теперь пустили бы комбайн, жнейки…
– Не все сразу, Вася. Какой ты ненасытный! Никто не знал, что там поспеет раньше…
– Вот это и плохо, Маша, что мы мало ещё знаем. Обязаны были знать.
– Мы в Глинищах сеяли позднее, а поспело там раньше. Вот тебе и законы!
Маша уже постлала постель, закрыла окна, когда вдруг в дверь постучали.
– Кто это так поздно? – удивился Василь. Маша пошла открывать.
Вошли Лесковец и Михаила Примак.
Максим со странным любопытством, торопливо и жадно оглядывал хату. Потом, должно быть почувствовав неуместность своего любопытства, он заметно смутился и попросил извинения:
– Поздно мы вас побеспокоили.
Михаила Примак, не дожидаясь приглашения, уселся за стол и устроился, как дома. Хозяев это не удивило, они знали, что только за столом он мог одной рукой свернуть цигарку. И в самом деле, он сразу же вытащил кисет с махоркой, газету и довольно ловко и быстро скрутил большую цигарку. Василь протянул ему спичку.
– Устроились, хитрецы, как на даче. Вот, Максим, чтоб тебе не спалось, завидуй, не хотел жениться… Живут, как графы в своей загородной вилле. Все условия, чтоб каждый год по дитенку, а, то и по двое… Маша возмутилась:
– Постыдился бы, Михаила! Голова уже седая, а ты… несешь неведомо что.
Примак не унимался.
– У меня душа молодая, Маша… Погоди… А почему ты на меня кричишь? Ты мне каждый раз, как я зайду, поллитровку ставить должна. Без меня вы, злодеи, ещё пять лет бы не поженились. Скажите спасибо…
Василь засмеялся.
– Ну и мастер же ты врать, Миша! Чужие заслуги себе приписываешь.
– Хо! Сказал! А в чем твоя заслуга? Пустое дело, говорил мой батька, нехитрое. Заслуга! Подожди немножко… ты заслужишь… Как начнет тебя эта пила каждый день пилить, так ты от всех заслуг откажешься… А она, брат, может. Культурно, этак, с нажимом, только опилки посыпятся…
Василь любил этого человека, шутившего неизменно, в любых обстоятельствах.
Маша хотела всерьез на него рассердиться, но тоже не могла, – только хмурилась.
Она следила за Максимом и видела, что ему неприятно слушать эти шутки, он, правда, тоже улыбался, но улыбка была какая-то кислая, деланная. Наконец Максим не выдержал и сказал серьезно и решительно:
– Давай о деле, Алексеевич. Людям пора спать.
Примак повернулся к нему, надув щеки, внимательно посмотрел ему в глаза, потом с шумом выпустил изо рта огромный клуб дыма.
– О деле? Ну что ж, давай о деле…
Как видно, Максим ожидал, что говорить будет Примак, но бригадир придвинул к себе газету и склонился над ней.
Тогда Максим повернулся к Лазовенке.
– Слушай, Василь, ты начинаешь жать на вырубках… Комбайн там не пойдет. А у меня поспело на Глинищах. Дай мне на первые два дня комбайн.
Василь пожал плечами.
– Вы меня, друзья, удивляете. Сидит, можно сказать, прямой хозяин комбайна – бригадир МТС, и ты с такой просьбой ко мне. Я имею к комбайну такое же отношение, как и ты.
Примак поднял голову от газеты и погрозил ему пальцем.
– Вася, не прикидывайся младенцем. Ты отлично знаешь, почему мы пришли к тебе. Самовольно комбайн я перебросить не могу. Крылович в Минске… Я говорил по телефону с Масловской, она поддерживает. Но только, если согласуем с тобой… Без твоего согласия никто на это не решится. Комбайн по графику должен в первую очередь работать в «Воле», убрать урожай, на который в районе возлагают большие надежды. И если перекинуть без твоего согласий и вдруг что-нибудь такое, ты же съешь любого. До обкома дойдешь.
Василь встал и задумчиво прошелся по комнате. Маша в волнении следила за ним. Как он решит? Что ответит?
Конечно, ей хотелось, чтобы комбайн поработал у них в колхозе. Это дало бы им возможность оказаться в числе, передовых. Но она понимала, что это может создать условия, при которых «Партизан» первым начнет сдачу хлеба, получит первую квитанцию. При всей преданности своему колхозу она не желала этого, потому что это было бы, по её мнению, несправедливо. Такая честь должна принадлежать тому, кто завоевал её своим трудом. Все говорят, что «Воля» должна занять в этом году первое место по району. Так пускай будет первой во всем!
«Понимает ли это Вася? Думает ли об этом?»
Никогда ещё Маша не была в таком затруднительном положении: за кого подать ей голос, за какой колхоз, оба они стали ей одинаково близки.
Василь остановился перед Примаком.
– А если что-нибудь такое, как-ты говоришь?
– Что? Поломка? Ну, что ты! Новая машина. Сам ни на шаг не отойду. Мне не веришь?
– Смотри! Сорвешь хоть один день уборки – не попадайся на глаза.
– О-о! Что я, не знаю твоего характера!
Максим поднялся, сдержанно и официально поблагодарил:
– Спасибо, Василь Минович. – Участок подготовишь?
– В три часа косари выйдут. Маша, дашь из своей бригады человек трех… Надо бы их сейчас предупредить.
– Я сделаю.
Прощаясь, Максим ещё раз окинул взглядом комнату. На лице его отразилось сложное чувство. Одна Маша заметила это.
Василь, проводив гостей, стоял посреди комнаты и довольно усмехался. Маша подошла, заглянула ему в глаза, как бы желая угадать, о чем он думает.
– Ты учел, что мы можем первые начать сдачу хлеба?
– Учел. И что же?
– Я тебя не понимаю.
– Дело в том, Маша, что я враг этой игры в первую квитанцию. В прошлом году Белов приписал мне за такие мысли чуть не антипартийные взгляды. На бюро ставил вопрос. Хорошо, что Макушенка у нас – светлая голова. Я утверждал и утверждаю, что главное – вырастить богатый урожай и своевременно без потерь убрать… А государству нужно сдать в точные сроки, как этого требует партия. И не выдумывать игры в первую квитанцию. А то бросают все силы на хлебосдачу, а на поле хлеб гниет, как это было у вас при Шаройке. Сдают все рожью, потому что гречиха ещё цветет, а потом эту же рожь везут назад как ссуду, чтобы посеять озимые. Я в прошлом году писал в ЦК по этому поводу…
– Ложись спать, Вася, – ласково предложила Маша, чтобы его остановить, так как знала, что, заговорив на эту тему, он не скоро успокоится.
– Пожалуй, верно, – согласился он и стал раздеваться. – Знаешь, мне радостно, что он пришел с такой мирной и разумной просьбой. Мне кажется, что это начало нашей новой дружбы.
6
Возле колхозного сада на открытой площадке, залитой глиной, сушили зерно. Максим издали увидел стоявшую в стороне автомашину, людей и, оглянувшись на Ладынина, зашагал так быстро, что Игнат Андреевич едва поспевал за ним.
– Что случилось, Антонович?
– Не выехали! До сих пор не выехали! Вот, пожалуйста, товарищ Ладынин! Попробуй выйти в передовики с таким народом. Я знаю, почему они тянут… Кацуба… – И тут же поправился: – Лазовенка…
На двух площадках толстым слоем было насыпано зерно. Маша с группой девчат из своей бригады перелопачивали его: подбрасывали вверх, и зерна падали золотым дождем.
Маша издали увидела Максима, все поняла, насторожилась, но держала себя спокойно – оперлась на лопату и ждала. Максим, тяжело дыша, остановился поодаль, как бы боясь подойти ближе.
– Почему не повезли? – процедил он сквозь зубы. Маша поздоровалась с Ладыниным и ответила:
– Не примут. Сырое.
Игнат Андреевич зачерпнул пригоршню зерна, пересыпал с ладони на ладонь, взял одно зерно на зуб.
Максим подскочил ближе, тоже схватил горсть зерна.
– Кто сказал, что сырое?
– Я говорю. Не первый год сдаю.
– У тебя что? Лаборатория в кармане? Скажи прямо, по-партийному: ты не хочешь, чтобы мы были первыми… Скажи… Я ведь тебя понимаю, меня не перехитришь, – он покачал головой, голос у него был ровный, даже как будто спокойный, но язвительный и такой напряженный, что, казалось, вот-вот сорвется, перейдет в крик. – Какая это к черту работа, когда руки здесь, а сердце там, – махнул он рукой в сторону Добродеевки.
Маша вспыхнула, покраснела, Насторожились девушки из её бригады.
Максим, верно, и в самом деле раскричался бы и наговорил невесть чего, если бы Ладынин его не остановил.
– Иди, пожалуйста, сюда, Максим Антонович, я скажу тебе что-то, – неожиданно и как бы шутя пригласил его Игнат Андреевич, отходя в сторону. А когда они оказались за машиной, один на один, сурово произнес: – Если ты, неугомонная твоя душа, ещё хоть раз кинешь Маше такой упрек, я буду говорить с тобой иначе. Как не стыдно! Когда ты, наконец, научишься понимать людей?
– Погорячился, – неожиданно виновато сознался Максим. – Погорячился. Гляди же!
Ладынин попрощался и пошел в деревню к больным. Максим ходил вокруг тока, молчаливый, хмурый, придирчиво осматривал все, потом пошел к стоявшему в саду амбару. Когда он через несколько минут вернулся назад, девчата поспешно насыпали зерно в мешки и грузили в машину.
– Я повезу, – спокойно сказала ему Маша. – Но если не примут – пеняй на себя.
Зерно не приняли. На складе «Заготзерно» шутили:
– Хотели первыми. Напрасно спешили, уже четыре колхоза сдали.
Но среди этих четырех не было «Воли», и это задело Машу больше, чем то, что их зерно не приняли.
Она оставила девчат досушивать зерно на складе, хотя у нее и было недоброе желание привезти его обратно – Лесковцу. Верх взял хозяйский расчет. С тяжелым чувством возвращалась она домой. Она понимала вздорность своих огорчений: необязательно же во всем «Воля» должна быть первой! Да, наконец, и сам Василь ведь говорил, что он против игры в первую квитанцию.
Но Маше все равно было обидно: почему сдают худшие колхозы и не мог сдать Лазовенка, лучший председатель в районе?
И вдруг из-за поворота дороги вылетели навстречу машины – три грузовика, наполненные мешками. Над первым развевался красный флаг. Она узнала машину «Воли» и увидела в кабине мужа. Шофер свернул в сторону, давая дорогу. Маша толкнула его.
– Не останавливайся!
Шофер кинул на нее удивленный взгляд, рванул машину. Василь тоже узнал её, замахал рукой, остановил свой грузовик.
Она услышала, как Василь крикнул «Маша!» и, оглянувшись, увидела, что он стоит на дороге и удивленно смотрит вслед. Тогда она поняла, как ему неловко перед своими людьми, перед девчатами, которые её, конечно, узнали, и разозлилась на себя, чуть не заплакала от огорчения.
«Как девчонка… Срам… Добродеевцы бог знает что подумают. Почему я не остановилась?» Она сама не понимала своего поступка. Не понимала, почему ей было стыдно встретиться с Василем.
Шофер Степан Лавренбвич, молодой и молчаливый паренек, относившийся к ней с большим уважением, проехав несколько километров, осторожно спросил:
– Что, поругались уже? Маша ответила шуткой:
– Нет, собираюсь поругаться.
Степан долго молчал и только возле самых Лядцев сделал глубокомысленный вывод:
– Все вы такие… женщины… Непонятные. «Непонятные… Правда что непонятные», – несколько раз в этот день вспоминала Маша его слова.
Она не пошла больше ни на ток, ни в поле: она плохо себя чувствовала. Еще утром ей было нехорошо, и она боялась: не захворала ли? Днем стало как будто лучше, и она забыла обо всем, увлекшись сушкой и подготовкой к сдаче первого зерна. Теперь, после поездки в район, опять стало тяжело на сердце, разболелась голова. Она понимала, что дело не только в том, что она переволновалась. Было ещё что-то, что вызывало это беспокойство, но что – она не знала. Она попробовала заглушить его работой. Постирала белье, вымыла пол, хотя совсем недавно его мыла, подмела во дворе, убрала каждый уголок, как перед праздником. Но она никогда не возвращалась домой так рано: уже и работы больше не находилось, а солнце только ещё зашло за хаты. Правда, осталось ещё одно дело – приготовить ужин, но топить печь в такую пору, когда люди ещё на работе, было неловко. Маша решила испечь блины. Открыла дежу, вдохнула приятный, кислый запах квашни и вдруг почувствовала, что ей страшно хочется… квасу. Холодного, крепкого хлебного квасу. Она долго стояла неподвижно, мысленно наслаждаясь этим чудесным питьем. Счастливая улыбка как-то необыкновенно осветила не только её лицо, но и все существо, казалось, женщина в один миг расцвела, как цветок. А желание напиться квасу не проходило. Она выпила простокваши, развела блины, а запах кваса, его кисло-сладкий вкус все больше и больше дразнили её. В поисках дела она вышла на огород и увидела издалека Сынклету Лукиничну. Старуха копошилась у себя на грядах. Маша после замужества как-то стеснялась её и избегала встреч, да и Сынклета Лукинична, столкнувшись случайно, кивала не очень приветливо.
Маша долго колебалась и наконец не выдержала, потому что хорошо знала, что у нее должен быть квас. Она незаметно подошла к забору, несмело поздоровалась. Сынклета Лукинична с усилием выпрямила спину (она копала картошку-скороспелку), проницательно посмотрела на Машу, затаила непонятную усмешку – чуть шевельнулись морщинки в углах рта, но на приветствие ответила ласково.
– Добрый день, Машенька. Ты сегодня какая-то… светленькая.
– Тетя Сыля, дайте кружку квасу, если у вас есть, – попросила Маша и сама испугалась: как неожиданно все получилось!
– Квасу? – Сынклета Лукинична сначала как будто не поняла, потом лицо её вдруг смягчилось, подобрело, материнской лаской засветились глаза. Она засуетилась, стала торопливо вытирать о фартук руки. – Квасу?.. Машенька, милая… Погоди минуточку, побегу принесу. Садись вот тут, на мешок…
Она принесла полный кувшин пахучего пенистого квасу. Маша пила прямо из кувшина. Пила жадно, не переводя дыхания. Две янтарные струйки бежали по щекам, по шее, стекали на кофточку.
– Хватит, глупая! – Сынклета Лукинична отобрала у нее кувшин.
Маша засмеялась.
Сыяклета Лукинична поставила кувшин в борозду и неожиданно обняла её, привлекла к себе:
– Славная ты моя!..
Минутку они, обнявшись, молча сидели на меже. Маша, осторожно освобождаясь из объятий, спросила:
– Вы на меня не сердитесь, тетя Сыля?
– За что я буду на тебя сердиться? За то, что ты счастье свое нашла?
Поезд приходил на рассвете, когда чуть начинала светлеть полоска на востоке. Еще не проснулся станционный поселок и даже в конторе «Заготзерно» не горел свет. Только возле склада – длинного кирпичного строения, вытянувшегося вдоль пути, – и у вагонов, стоявших против него, переговаривались люди и немного подальше разводил пары маневровый паровоз. Алеся проводила взглядом красный огонек последнего вагона, оглянулась и увидела, что вышла она одна. На платформе больше никого не было, только к зданию станции плыл зеленый фонарик дежурного, фигура его чуть вырисовывалась в предутренней тьме. Алеся на миг заколебалась, раздумывая, что делать – идти или подождать, пока рассветет. Но, поглядев на восток, потом почему-то на верхушки высоких тополей, пиками упиравшихся в небо, она продела косынку в ручку чемодана, вскинула его на плечо и решительно перешла полотно. И тут, возле горы шлака, она неожиданно встретилась с Павлом Кацубой. Увидела его – и удивилась.
– Ты тоже этим поездом приехал?
– Нет. Я пришел тебя встречать.
– Меня? А как ты узнал, что я сегодня приеду?
– Я приходил и вчера и позавчера… Три раза…
– Три раза?.. – Алеся опустила чемодан, довольно сильно стукнув им о землю, и, порывисто протянув ему обе руки, тихо и ласково поздоровалась:
– Доброго утра, Паша… Он крепко сжал её руки.
– Доброго утра, Алеся. Сдала?
– Сдала. Сдала. Паша! Сдала, мой славный рыцарь, – и она, не помня себя от радости, от счастья, которое не покидало её всю дорогу от Москвы и ещё больше, ещё светлее стало сейчас, в эту минуту, сжала ладонями голову Павла и крепко поцеловала в губы. И сама страшно смутилась. И его смутила. Забыв о вещах, она быстро пошла по дорожке, покусывая уголок косынки. Павел поднял чемодан и молча пошел следом. Долго Алеся не оглядывалась. Она злилась на себя и даже на него, а за что – не знала. Ей хотелось, как прежде, смеяться, шутить; раньше она никогда его не стеснялась: подтрунивала, заставляла выполнять все свои желания и капризы. Она знала, что он её любит, и сама в глубине души испытывала нечто не совсем обычное, но относилась к этому беззаботно, шутливо, несерьезно. И вот это утро, его неожиданное появление и ещё более неожиданный поцелуй все изменили. Алеся почувствовала, что она больше не может, не имеет права вести себя по отношению к нему так, как прежде. И, возможно, потому и злилась.
Но постепенно она замедлила шаг и наконец оглянулась, поджидая его. Когда Павел приблизился, виновато улыбнулась.
– Тебе тяжело? Давай я понесу.
– Ну, что ты! Нисколечко не тяжело, – запротестовал он, хотя лоб у него был мокрый.
– Я там накупила всякой всячины… Дойдем до сосняка, выломаем палку и понесем вдвоем. Хорошо? Какие у тебя новости? Тебя, конечно, зачислили без экзаменов?
– Нет, был конкурс. Сдавали математику. Я сдал на «отлично», первым кончил письменную.
Она с гордостью посмотрела на него и тоже похвасталась:
– Я тоже хорошо выдержала… Даже самой не верится, что я так много знаю.
Они вышли на дорогу и шли уже не друг за другом, а рядом.
Шли и чувствовали себя неловко оттого, что не знали, о чем говорить. Никогда раньше этого не бывало: у них всегда находились темы для бесконечных разговоров по пути от районного центра до Лядцев. Только когда они в самом деле, по требованию Алеси, выломали палку и понесли чемодан вдвоем, он робко не то спросил, не то сказал:
– Алеся, мы будем переписываться?
Она удивилась и даже как будто возмутилась: к чему он задает такие нелепые вопросы?
– А как же иначе! Мы ведь с детства дружим…
– Я тебе каждый день писать буду.
Она ответила не сразу, они молча прошли добрую сотню метров. Было душно. На сухой траве – ни росинки. Неподвижно застыла листва на березках, росших вдоль дороги и уже, как золотыми каплями, расцвеченных первыми желтыми листочками.
– В первый год Максим писал Маше каждый день, – сдержанно, со вздохом произнесла Алеся, как бы сама себе.
Павел даже остановился, вздрогнул, лицо его залилось краской.
– Я не Максим, Алеся! Ты меня ещё плохо знаешь. Я тебе докажу, какой я! Ты увидишь!.. – Голос его задрожал.
Алеся, понимая, почему так разволновался её друг, ласково попросила:
– Прости, Паша. Это я так… Машу вспомнила, соскучилась я по ней.
День вступал в свои права решительно, быстро. Уже рассвело, и восток горел ярким пунцовым пламенем.
В Добродеевке гудела молотилка. Они вышли из сосняка я увидели за добродеевским садом столб пыли, немного подальше дымила «силовая». Такой же столб пыли поднимался и над Лядцами.
Дни стояли знойные. Редкое лето бывает такая жара в середине августа. Даже ночью было душно, вода в речке не успевала остыть, не было по утрам туманов в низинах.
Кончили уборку. Сдавали последние тонны зерна государству. По предложению Маши молотилка работала круглые сутки. В ночную смену стали люди из Машиной бригады, по большей части парни и девчата, не связанные домашним хозяйством. Работали дружно, в короткие перерывы отдыхали весело: смеялись, дурачились, прятались в соломе, парни посмелее тайком целовали за скирдами девчат.
Но в эту ночь передышек почти не устраивали. Молотили пшеницу с лучшего участка. Участок этот был гордостью всей бригады и в особенности Маши. Здесь они показали, как много может уродить земля, если на ней провести весь комплекс агротехнических мероприятий. Однако сколько собрано пшеницы с гектара – считали по-разному, и потому молодежи не терпелось скорее закончить молотьбу и выяснить точно. Но не только потому работали так вдохновенно и слаженно: приятно было молотить такую пшеницу. Золотое при желтом свете фонарей, необычайно крупное зерно непрерывным потоком лилось из приемника. Девчата едва поспевали уносить полные мешки и подвешивать пустые. Маша не выдержала и всю ночь проработала сама: сначала подавала тяжелые снопы барабанщику, ей хотелось их все передержать в своих руках. Но после перерыва Сынклета Лукинична (единственная пожилая женщина среди работавших) заставила её бросить эту работу и стать на более легкую – отгребать полову.
Ровно гудела молотилка, глотая сноп за снопом. Ритмично похлопывал ремень, ведущий от маховика трактора. Тракторист Адам Мигай был, казалось, единственным человеком, который работал в эту ночь без напряжения, не проливая пота, как все остальные. Он ходил от трактора к молотилке, вслушивался в ритм мотора и изредка командовал, обращаясь к барабанщику:
– Недогружаешь. Больше давай! – или, когда тот вдруг закладывал слишком большую порцию и молотилка начинала злобно реветь, кричал: – Не слышишь, что ли?
– Слышу, слышу! Не первый год! – но голос доходил только до подавальщиц, стоявших по обе стороны мостика.
Барабанщик – Рыгор Лесковец – возвышался над всеми, как капитан корабля. Был он не намного старше остальных парней, но на молотилке работал и в самом деле не первый год.
Он обижался на замечания тракториста, хотя и сам чувствовал, что иногда сбивается с ритма – никогда ещё ему не приходилось иметь дело с такой пшеницей. Он не скрывал своего восхищения и, когда Мигай долго не отпускал замечаний, весело покрикивал:
– Эх и пшеничка!
Увлеклись работой так, что и не заметили, как был подан последний сноп. Молотилка вдруг, как бы вырвавшись на свободу, загудела легко, с металлическим звоном.
Мигай быстро выключил трактор. Воцарилась непривычная тишина. За деревней всходило солнце. Оно уже позолотило вершины дубов за речкой, старых лип на улице и берез на шляху. В деревне мычали коровы, скрипели колодезные журавли, переговаривались хозяйки.
– Кончили! – крикнул кто-то, и это послужило как бы сигналом: все вдруг собрались вместе и, должно быть, только сейчас почувствовав, как они устали, повалились на солому. Однако никто не забыл о главном: чуть не в один голос закричали:
– Леша! Вези скорей!
– Да скажи кладовщику, чтоб он вешал побыстрее. Люди ждут.
– А то он, верно, спит там в амбаре.
– Некогда ему было спать. Все допытывался, скоро ли кончим.
В это время к току подошли Алеся и Павел. Предложила зайти на ток Алеся, узнав, что работает Машина бригада. Павел немножко стеснялся, но он теперь готов был идти за ней хоть на край света.
Девчата увидели Алесю, кинулись к ней, тесно обступили, стали здороваться. Маша едва пробилась к сестре, обняла.
Никто не спрашивал, сдала ли она приемные экзамены в университет. И так все поняли, как только увидели её. Алесю поздравляли, обнимали.
– Молодчина, Саша. Ты у нас всегда впереди!
– Счастливая ты, Алеся, – с завистью вздыхали подруги, учившиеся с ней вместе в семилетке.
Алесе в эту необыкновенную минуту хотелось поблагодарить Машу за свое счастье. Это Маша дала ей возможность окончить десятилетку, это она чуть не силком заставила её продолжать учебу, когда в тяжелый год Алеся хотела бросить школу. Но, очутившись на людях, она не знала, как выразить сестре свою благодарность. Ей не давали слова сказать, засыпали вопросами, да и Маша уже стояла поодаль, не сводя с нее глаз и по-матерински ласково улыбаясь.
Павел нерешительно подошел к парням, все ещё боясь намеков и насмешек. Но только один Гришка Грошик, самый злой шутник, тихо и как будто даже серьезно сказал:
– Поставь, Паша, крест на своей любви. В Москве она найдет и не такого, как ты, тихоня.
– В тихом омуте черти водятся, – ни к кому не обращаясь, произнес Рыгор Лесковец, с наслаждением нюхая табак (курить на току было запрещено) и чихая.
– А тихая вода гребли рвет, – дружески подмигнул Павлу обычно молчаливый Федя Лобан, высокий, нескладный парень с вечно облупленным носом, который он умел очень смешно морщить.
Девчата в это время продолжали наседать на Алесю.
– Да рассказывай ты скорей. Чего ты смотришь по сторонам, точно десять лет Лядцев не видела?
– Ну, какая она, Москва? Рассказывай, пожалуйста, все-все.
Алеся на минуту закрыла глаза, как бы для того, чтобы ещё раз представить Москву, вспомнить все, что она там видела. Потом тряхнула головой, окинула всех быстрым взглядом, засмеялась.
– Не могу, девочки… Вот закрою глаза, и стоит она вся передо мной: улицы, метро, Кремль, Москва-река, университет наш… А рассказать не умею, не знаю – с чего начать…
– А ты по порядку… Как приехали, куда ходили…
– Ну, приехали мы с Ниной Беловой… У дяди её остановились… К дяде её трамваем ехали с вокзала. Потом поехали в университет… В метро… Ой, девочки, если б вы видели, что это за чудо – метро!
Она долго, подробно, с детским восторгом рассказывала о метро: про каждую станцию, про эскалаторы, о том, какое ощущение возникает, когда поднимаешься или опускаешься, про поезда: «…едешь – только огоньки в туннеле поблескивают, мимо окон толстые провода летят, а по вагону ветерок гуляет»…
Поднялось солнце, залило золотыми лучами скирды, а молодежь не расходилась, слушала Алесю.
Пригнали лошадей с ночного, и колхозный двор наполнился топотом и криком. За садом послышался громкий голос Максима – он кого-то пробирал.
Но и на это хлопцы – любители по любому повопустить шутку – не обратили внимания, забыли они и про усталость, про тяжелый ночной труд.
– …А в тот день, когда сдали последний экзамен, пошли мы на Красную площадь всей группой, все, кто вместе сдавал. Вечером пошли, когда Москва вся в огнях, а Красную площадь прожекторы освещают… На Спасской башне каждые четверть часа куранты бьют… Подошел седенький старичок в теплом пиджаке, в сапогах, как дед Кацуба… За руку девчушку ведет лет семи… Издалека снял шапку, а подошел ближе, низко поклонился Мавзолею. Потом пришла какая-то французская делегация… Один француз сказал своим товарищам: «Мы – дети Ленина». Отошли и тихо, вполголоса, запели «Мы – дети Ленина». Стояли мы в тот вечер на Красной площади до тех пор, пока куранты не пробили двенадцать… А потом до самого рассвета по Москве ходили…
Неизвестно, сколько бы ещё рассказывала Алеся, если бы не вернулся Алеша Примак, возивший зерно в амбар. Он ещё издалека закричал:
– А ну, отгадайте: сколько?
И слушатели впервые отвлеклись от Алесиного рассказа, начали угадывать, сколько дала с гектара эта необыкновенная, выращенная ими пшеница:
– Шестнадцать! – Двадцать!
– Семнадцать!
– Никто не угадал! Двадцать один и три десятых. Во! Качать бригадира!
Маша замахала руками, отступая к скирде:
– Ну, ну, не дурите!
Алеся подскочила и крепко обняла сестру.








