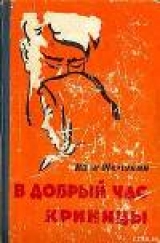
Текст книги "В добрый час"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
4
На заседании правления в Добродеевке должен был обсуждаться план уборки урожая, и Маше захотелось послушать, как будут разрешать этот важный вопрос в лучшем колхозе, чтобы перенять опыт и перенести его в свою бригаду, в свой колхоз.
Заседание было многолюдное, как вообще все заседания и собрания в «Воле». Колхозники заполнили просторное помещение новой колхозной конторы, ещё не законченной, с незастекленными рамами, без двери в будущий кабинет председателя, с дырами в полу и потолке в тех местах, где должны быть поставлены печи.
До начала заседания, пока Лазовенка, Ладынин и Шишков, склонившись над столом, о чем-то совещались, было шумно; так бывает всегда, когда собираются люди, связанные общим трудом, общими интересами, до мелочей знающие жизнь друг друга.
Но как только Василь, с карандашом в руке, встал, сразу установилась тишина. Маша с гордостью за него подумала, что у них в колхозе Лесковцу всегда стоит немалых усилий утихомирить людей в начале собрания. Она невольно залюбовалась мужем. Он говорил спокойно и, должно быть, намеренно негромко, – так, что те, кто стоял у дверей, напряженно вытягивали шеи. Однако никто не крикнул «громче», как это обычно бывает, когда у ораторов не хватает голоса. Все слушали молча. Голос Василя постепенно крепчал, старики отнимали ладони от ушей. Он прочитал план подготовки, утвержденный на одном из предыдущих заседаний, месяца два назад, и коротко рассказал о его выполнении – о ремонте конных жнеек, о строительстве крытых токов, о машинах МТС, которые будут работать на уборке.
– Урожай мы вырастили, товарищи, неплохой.
– Добрый урожай, что там говорить! – перебил его бригадир Вячера.
Василь, оглянувшись на Ладынина, улыбнулся:
– До хорошего урожая нам ещё далеко, товарищи.
– Далеко? Ишь ты!.. А это ты знаешь, что отцам нашим и не снился такой урожай, – возмутился Мина Лазовенка. – Ты скажи, что не всякий год такой удается.
– Не мешай, батя… Вашим отцам не снился, а мы ещё и не такой увидим. И притом выращивать мы его будем в любой год. Но урожай этого года может действительно в масштабе нашего района стать хорошим… – Василь сделал паузу, оглядывая колхозников, – в том случае, если мы соберем его своевременно и без потерь. Хороший урожай зависит не только от хорошего посева, удобрений, присмотра, но и от хорошей уборки. Уборка – дело сезонное, убрал своевременно – выиграл, пропустил время – проиграл. Вот это мы не должны забывать. Ни на минуту, товарищ Гоман, – повторил Василь, повернувшись к бригадиру строительной бригады.
Тот подскочил на месте как ошпаренный:
– Опять Гоман! Везде Гоман!
– Шум и гомон! – крикнул от дверей, какой-то молодой шутник.
Там засмеялись.
Василь постучал по столу карандашом:
– Словом, если через два дня не будет закончена постройка тока в третьей бригаде, и в самом деле будет шум и гомон, уважаемый Иван Иванович. Не забывай о предупреждении, которое мы тебе сделали…
– Прикинь ещё один денек, Василь Минович, – вытирая рукавом лысину, плаксиво попросил Гоман.
От дверей снова прокатился дружный смех.
После выступления председателя отчитывались бригады.
Маша, как только начал говорить Михей Вячера, сразу же насторожилась. Все, что он говорил о подготовке бригады к уборке, очень мало походило на тот отчет, который она готовила для своего правления.
Вячера, по сути, делал доклад. Начал с того, что охарактеризовал весь бригадный массив в целом и каждый участок и культуру в отдельности.
Все у него было подробно и научно обосновано и подсчитано. Он уверенно называл дни когда можно будет начать жать рожь на бугре, ячмень – на торфяниках, пшеницу – за сосняком. В соответствии с этим у него был составлен план уборки, в котором все было рассчитано до мелочей: затрата трудодней на каждую культуру и на каждый рабочий процесс, необходимое количество людей, коней, жнеек, даже серпов, кос и граблей.
Бывший партизанский командир говорил об уборке, как о наступлении, план которого составлен с учетом возможностей каждой боевой единицы, каждого человека и машины. Все в этом плане было предусмотрено – любая неожиданность и случайность.
Слушали Вячеру внимательно. Маша даже ревниво подумала, что более внимательно, чем Василя. Бригадир третьей бригады Артем Городец, молодой парень с болезненным лицом, что-то быстро исправлял в своей толстой тетрадке, спешно перелистывая странички. Он подносил ко рту химический карандаш, и на губах его все больше и больше расплывалось фиолетовое пятно. Маше тоже захотелось записать главное из плана Вячеры, чтобы завтра по этим заметкам составить такой же план для своей бригады. Она достала из кармана маленькую записную книжку, но, увидев, что несколько человек поглядывают на нее с непонятной усмешкой, застеснялась, повертела книжечку и незаметно спрятала её в рукав.
Вячера критиковал строителей за недоделки на току, кузнеца – за плохой ремонт конных жнеек, предъявлял требования правлению, просил помочь людьми.
– Все здесь, – он постучал пальцами по обложке блокнота, – намечено, так сказать, с запасом мощностей, а вот расчет людей – с максимальной нагрузкой на каждого человека. И если заболеет человек или ещё что-нибудь случится, машина моя может начать давать перебои, – обернулся он к Василю.
Выступали со своими планами и другие бригадиры.
Маше казалось, что планы бригадиров безупречны, что о них ничего уже не скажешь, можно только похвалить, и потому она была удивлена, когда их стали критиковать, выправлять.
Выступали члены правления, сами бригадиры, Байков, Тут же все уточняли, делали перерасчеты, рациональнее расставляли Людей и тягло.
Из уточненных бригадных планов рождался общеколхозный план.
Василь подводил итоги.
– Планы мы составили хорошие. Теперь главное – выполнить их, а это целиком зависит от нас. Людей у нас действительно мало. И нужно, чтобы каждый человек, живущий в деревне, работал.
– Увидим! – прозвучал в тишине скептический возглас Наташи Гоман.
– Надо организовать школьников, студентов…
– Снять бригаду с гидростанции! – крикнул кто-то из мужчин.
– Конечно! – поддержали его.
– Другие колхозы все равно снимут своих. А нам что, больше всех надо?
– Дело правления, товарищи, но я буду против того, чтобы снимать бригаду с гидростанции на все время уборки, – запротестовал Василь. – Хорошо бы, если б мы могли совсем их не трогать… Ну, если такое дело, так в самое горячее время – на неделю… Не больше!.. Звено свекловодов Рагиной будет работать в третьей бригаде в Кривцах. Седая со своим звеном станет на вывозку хлебопоставок. Почетное задание тебе, Наталия Николаевна!.. В самый короткий срок должны мы рассчитаться с государством…
Василь хотел было уже перейти к обсуждению других дел, как неожиданно поднялась Настя Рагина.
– Разрешите мне, – она энергичным жестом поправила свою цветастую косынку и твердо, подчеркивая каждое слово, произнесла: – Мое звено на уборку не выйдет!
Если б вдруг заговорил сидевший тут немой Цимох, это, верно, удивило бы присутствующих меньше, чем такое заявление.
Все головы повернулись к ней, её разглядывали так, как если бы она только что свалилась с неба. Настя покраснела, смутилась и села.
Колхозники загудели, кто – возмущенно, кто – насмешливо:
– Высказалась!
– Генерал девичьего войска.
– Ты что спряталась? Говори, выкладывай, что это за звено у тебя такое?
– Как твои бураки полоть, так всем колхозом ходили.
– Я вас не просила! – Она снова встала, уже бледная, с лихорадочным блеском в глазах.
– Мы тебя тоже не просим! Может, прикажете в ножки вам поклониться, Анастасия Ивановна? Она не пойдет! Ишь ты какая! – возмущался Михей Вячера.
– Не пойду! Пускай раньше жена председателя пойдет.
Люди сразу притихли и повернулись от нее к столу, за которым, спокойно улыбаясь, стоял Василь Лазовенка. Кое-кто задержал взгляд на Маше, и она почувствовала, что ей вдруг стало душно.
– Жена председателя работает, – заметил кто-то.
– Не видим мы её работы! – закричала Наташа Гоман.
– Где это видано, чтоб вышла колхозница замуж и работала не там, где муж, – послышался от дверей голос пожилой женщины.
Но Наташа не давала рот раскрыть ни сторонникам своим, ни противникам:
– Хороша работа! Муж каждое утро на лошади отвозит, вечером привозит, как барыню какую…
– Выходи и ты за председателя! Тебе завидно? Раздался смех. Шутникам и зубоскалам – отличный случай блеснуть своими талантами.
– А ты знаешь, кто за кого замуж выходил? Может, он за нее?
– Знаем мы эти штучки. Выгодно сразу в двух колхозах быть! Две коровы, две усадьбы…
Слова эти огнем обожгли сердце Маши, стало обидно до слез. Как они могут так обижать Василя, который столько времени, столько сил отдает колхозу? Да он и не думает никогда о своей усадьбе!
Она посмотрела на Василя, он чуть побледнел, но по-прежнему улыбался спокойно, весело. Неужто эта клевета не трогает его, не оскорбляет?
Когда Наташа наконец умолкла, он насмешливо спросил:
– Ну? Кто хочет ещё? Только давайте по порядку. Мгновенно установилась такая тишина, что стало слышно, как бьются о лампочку мотыльки.
Поднялся Иван Рагин, отец Насти, сурово взглянув на дочь:
– Все, что настрекотали тут эти сороки, ерунда, конечно… Ты прости, Василь Минович, и ты, Маша, тоже… Но тут дело такое… слышал я эти разговоры и от людей постарше, особенно от женщин… Не понимают они, почему женка твоя, Василь Минович, работает не в своем колхозе… Разве нам самим не нужна такая работница? Или в «Партизане» без нее никак не обойдутся? – Он оглянулся, как бы ища поддержки, и сел.
Василь обернулся к жене.
– Объясни, Маша…
Но Ладынин его перебил:
– Погоди. Я объясню, – он поднялся, как всегда, немножко чересчур стремительно, но потом сделал длинную паузу, отошел от стола, внимательно вглядываясь в лица людей. – Я понимаю вас… Затронуто ваше самолюбие. Как это, мол, так: нашелся человек, который не пожелал перейти в ваш, лучший, колхоз, а остался в худшем. Да, кое-кому ещё трудно это понять. Трудно потому, что живут они ещё по старой поговорке: рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
Нет, товарищи, передовой советский человек не ищет, где лучше, а строит его, это лучшее, там, где ещё не все хорошо, борется за лучшую жизнь не для себя одного… Товарищи, как видно, забыли, что Мария Павловна – коммунистка и поступила она, как подобает коммунисту, осталась там, где она действительно больше нужна. Партийная организация одобряет её решение.
Старики согласно закивали головами: понимаем, мол, дорогой Игнат Андреевич.
Кто-то даже выкрикнул:
– Правильно! Молодчина, Маша!
Но Маша видела, что Настину команду и большинство женщин не удовлетворило и объяснение Ладынина. Они переглядывались, перемигивались и бросали на нее довольно неприветливые взгляды. Она не рада была, что пришла на заседание. Лучше бы ей всего этого не слышать. Ей было обидно не за себя – за мужа…
Дома она сказала:
– Мне прямо страшно, Вася! Я всегда понимала людей, и они меня понимали. А тут…
– Ну, Настя и её звено – это ещё не все люди… Ты успокойся. И не волнуйся за меня: мой авторитет Насте поколебать трудненько.
Но Маше нелегко было успокоиться. Она росла, окруженная уважением односельчан, никто никогда не мог упрекнуть её в какой-нибудь хитрости или корыстных намерениях. А тут вдруг такое обвинение… И в придачу к этому ей выпало ещё одно испытание.
Странные сложились у нее отношения с Максимом.
После того тяжелого вечера, когда он узнал о её замужестве, и после разговора с Ладыниным он как-то сразу успокоился, от души пожелал ей счастья, не испытывая ни ревности, ни злобы к Василю. Правда, боясь насмешек, щадя свое самолюбие, он не пошел на свадьбу, а нарочно уехал в этот день в гости к сестре. Даже к Машиному желанию остаться бригадиром он сначала отнесся спокойно.
Но это продолжалось недолго.
Вдруг больно и тревожно заныло сердце. Случилось это после разговора с Лидой на лугу. Странно двоились его чувства, странно, непонятно и мучительно: он хотел думать о Лиде, а думалось о Маше. Несколько раз он видел, как Василь встречает Машу после работы, как они идут полем, весело разговаривая, смеются, иногда целуются, и ему сделалось ещё больнее. Снова вспыхнула ревность.
Однажды он услышал, как разговаривали женщины: – Маша прямо расцвела. Любо поглядеть на молодицу!
Он присмотрелся и сам заметил, что Маша и вправду похорошела, даже как будто помолодела. Это вызвало у него никогда раньше не испытанное по отношению к Маше чувство. Теперь он при встрече не мог отвести глаз от её лица, от пышной груди, от сильных загорелых ног. Это не могло укрыться от любопытных женщин, да и от самой Маши. Взгляды эти оскорбляли её женское достоинство; она терялась, сгорала от стыда и прилагала все усилия, чтобы пореже встречаться с ним. Но он был председателем, а она бригадиром, и им приходилось вместе работать… Это были очень трудные для нее дни. С одной стороны, нарекания колхозниц «Воли», с другой – Максим. И самое тяжелое в этих взаимоотношениях с Максимом было то, что она не могла решиться, стеснялась рассказать об этом Василю. Все чаще и чаще приходила к ней мысль – бросить бригадирство, перейти в «Волю» на скромную работу рядовой колхозницы. Но и это было невозможно: она дала слово бригаде, Ладынину. Как-то она встретила Максима в поле один на один. Маша, увидев его, сперва испуганно отшатнулась, потом разозлилась и возмущенно спросила:
– Что ты таращишь на меня свои бесстыжие глаза? Только сейчас разглядел, что ли?
Он понурил голову и неожиданно с виноватым видом попросил:
– Уходи из колхоза, Маша. Чтоб я тебя не видел. Пойми, тяжело мне.
– Фу, противно на тебя смотреть. Тяжело тебе? А мне вот стало легко. Успокойся и знай – никуда я из колхоза не уйду. А станешь выживать – скажу Ладынину, и тебе придется объясняться на партсобрании.
Только эта угроза несколько утихомирила его. Работала Маша хорошо. Даже, может быть, лучше, чем до замужества: стала ещё активнее, настойчивее, многое перенимала от мужа, и, возможно, поэтому и бригадиры и колхозники прислушивались к её советам больше, чем к советам председателя. Этого не мог не заметить Максим, и, естественно, это тоже вызвало в нем ревность и обиду.
Усложнялись и его взаимоотношения с Шаройкой.
Шаройка, после того как его сняли с бригадирства, затаился, притих, даже на улице редко показывался. На требование Маши выйти на колхозную работу он принес справку от врача районной больницы о том, что у него больное сердце и физическая работа ему не разрешена. Между прочим, справка эта страшно возмутила Ладынина. Выступая на очередном совещании в райздраве, Игнат Андреевич сказал врачу, который её выдал:
– Я не сомневаюсь, Злотников, да и колхозники об этом говорят, что справочка крепко подмазана Шаройкиным маслом. Глядите, чтоб масло это не выступило грязными пятнами на вашем белом халате. Скажу прямо: если мне удастся доказать ваш грязный поступок юридически, разговор наш продолжится в другом месте. Запомните это.
Злотников кричал, клялся, что привлечет Ладынина к судебной ответственности за оскорбление, но вместо этого через неделю перевелся в другой район.
Шаройка вышел на работу на следующий день после того, как узнал, что Маша выходит замуж за Лазовенку. Встречая колхозников, чуть ли не каждому объяснял:
– Думали, Шаройка лодырь какой-нибудь, Шаройка никогда не сторонился и не будет сторониться колхоза. Чуть почувствовал себя лучше – и вот, видите, сразу потянуло на работу. И докажу, что Шаройка не разучился работать. Нет, не разучился… Не разучился, скажу я тебе…
Люди прятали усмешки, тайком лукаво подмигивали друг другу. В самом деле, Шаройка взялся за работу не шутя: на сенокосе каждый день выполнял по две нормы, вызывал на соревнование молодых.
Максим, кивая на него, шутил довольный:
– Оказывается, и Шаройку можно перевоспитать. – И хотя не было у него прежнего уважения к лучшему хозяину в деревне, но иногда он опять с ним советовался, тем более что теперь ничего не решался делать один, без того, чтобы не спросить мнения людей.
Шаройка раболепно угождал председателю и настойчиво приглашал его к себе. Максим твердо решил не поддаваться ни на какие уговоры и не ходить. Несколько раз он отказывался, но однажды поздно вечером Шаройка встретил его возле своего дома и чуть не силком затащил к себе.
– Не обижай старика, Максим Антонович. Дела делами, а старый друг, как говорится… На минуточку… Посидим, покалякаем.
У Максима было дурное настроение, он опять видел, как шли садом Василь и Маша, и ему не хотелось идти домой.
В горнице не было никого, Шаройка, усадив гостя, сразу же протянул ему письмо.
– Прочитай, Максим Антонович. От сынка, от Феди. Шесть страниц настрочил, что твой писатель. В звании его повысили: майор! – Он с гордостью произнес последнее слово, выбежал на кухню и уже за дверьми ещё раз повторил: – Майор!
Максим не успел прочитать и странички, как из спаленки важно выплыла Полина, ещё сонная, в красивом шелковом халате, с высокой, явно наспех сделанной прической. Она приветливо и якобы стыдливо поздоровалась и села против него на диван.
– Ты меня, Максим, извини, что я в таком виде встречаю гостя.
От нее пахло какими-то крепкими духами. У Максима от этого запаха закружилась голова и почему-то опять вспомнилась Маша, он представил себе, как обнимает и целует её Василь.
Пола халата отвернулась и оголила красивое, белое колено и край сорочки. Максим понимал, что Полина сделала это нарочно, и разозлился, почувствовал себя оскорбленным. Еще больше он обозлился, когда она заговорила, то кокетливо играя глазами, то печально вздыхая. Он ненавидел это кривлянье. И её ненавидел с тех пор, как убедился, что слова матери справедливы. Шаройка действительно давно мечтал женить его на своей дочери и не раз пилил Полину за непредприимчивость: «Не маленькая, слава богу. Не век же тебе в девках сидеть, хоть ты и учительница. Была бы ты уродом, а то такая краля». Но тогда Полина ещё мечтала о большой, настоящей любви – такой, как в романах, да и Машу она уважала, совесть не позволяла становиться на её пути. А теперь, когда Маша замужем… Теперь можно попробовать приворожить его… Бывает, что любовь приходит потом, после сближения… Заодно она отомстила бы Лиде Ладыниной, которая, говорят, стала тоже заглядываться на Максима.
Максим не выдержал – встал и демонстративно отошел к окну, повернулся к ней спиной.
«Ну и дура! На черта ты мне нужна! За кого ты меня принимаешь, фефела ты этакая?»
Шаройка вскочил в комнату с большрй сковородкой в руках, на которой шипела яичница:
– Прошу к столу, Максим Антонович. Опрокинем по маленькой…
– Спасибо. Я не пью, – ответил Максим, повернувшись от окна.
Шаройка взглянул на дочь, увидел её сконфуженное лицо и, зло сверкнув глазами, кинулся к Максиму, заискивающе обнял за плечи:
– Нет, нет, брат Максим, из моей хаты так не уходят. Не пущу! На пороге лягу!..
Полина незаметно скрылась. Они сели за стол. Разговорились о колхозных делах, и Максим успокоился, разговор был интересный.
Говорили об урожае, об уборке, до начала которой оставались считанные дни. Но вдруг Максим опять насторожился: Шаройка завел знакомую песню.
– Да-а, урожай вырос неплохой… Лето славное. Золотое лето. Слава богу, будем с хлебом… Только, Максим Антонович, послушай меня, старого воробья… Не очень ты кидайся на эти эмтээсовские машины. Говорят, ты ругался в районе, что комбайна не дали. На что он тебе? У нaс сил хватает… Коли не хватает их – дело другое… Я, брат, когда управлял, глядел вперед. Глядел, брат, глядел… Сегодня у тебя лошадок больше, чем в прославленной «Воле». А это – сила. Лошадка да жатка… Серпок тоже ещё не отжил свое…
Максим положил на стол вилку, выпрямился, сунул руки в карманы:
– Гнилые твои советы, Амелька.
Шаройка вздрогнул, как будто его полоснули плетью по спине, втянул голову в плечи, криво улыбнулся:
– А-а-а? Гнилые, говоришь? Что ж, бывает… Бывает, браток, бывает. Видать, сам начинаю гнить.
– Видать, начинаешь.
Улыбка сошла с Шаройкиного лица, он помрачнел, закусил губу, глаза его загорелись злыми огоньками. Человек самолюбивый, он был мстителен и никогда не прощал обиды.
А Максим, почуяв свою силу, свое превосходство, хотел уколоть его как можно больнее.
– Да, гниешь, Амелька, – он потянул носом. – Гниешь!
– Эх, Максим, Максим, не твои это слова. Чужие слова, – Шаройка тяжело вздохнул, словно ему очень жалко было Максима. – Да я не обижаюсь. Не обижаюсь, браток. Молодость! Выпьем? Не бойся, не воняет, из магазина…
– Выпью. Последнюю… За то, чтоб больше с тобой никогда не пить.
– Не плюй, говорят, в колодец…
– Из гнилого колодца не пьют, Шаройка.
Хозяин замолчал, поняв, что гостя ничем не улестить. Со страхом он увидел перед собой не Максима, а отца его, один Антон Лесковец говорил ему в глаза такие жгучие, как крапива, жестокие слова.
Быстро разлив водку, он поднял рюмку, но Максим выпил не чокнувшись.
Шаройка наклонился и спросил ласковым голосом:
– Давно хотел спросить у тебя… Кацубиха так всё у нас и будет?
– А тебе что? Не нравится?
– Мне? Мне все равно. – Шаройка откусил половину малосольного огурца, громко захрустел им и, проглотив, вдруг заговорил совсем другим тоном, злобно, чуть не шипя – А вообще не нравится. Нет! Потому что не я загниваю, не я… Зря ты напраслину возводишь! У меня душа за колхоз болит, может, больше, чем у тебя. И вижу я больше. А тебя ослепили. Иди, послушай, что люди говорят. Вся деревня звонит, что колхозом теперь руководишь не ты, а Кацубиха. Ну, а Кацубиха – значит, Лазовенка. Вон оно как обернулось! Хе-хе…
Максим спокойно встал, подошел к окну, снял с гвоздя шапку, хлопнул ею о ладонь, чтоб стряхнуть известку.
Шаройка тоже поднялся:
– Так люди говорят, Максим Антонович… Лесковец шагнул к нему и бросил прямо в лицо:
– Так говорит только сукин сын! – и быстро вышел, хлопнув дверью.
На улице он остановился, оглянулся на окна Шаройкиной хаты и засмеялся. На душе вдруг стало легко и весело, как будто он навсегда порвал с неприятным прошлым.








