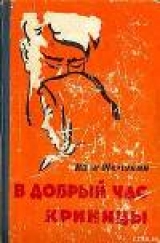
Текст книги "В добрый час"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
14
Плотники явились неожиданно и дружно взялись за работу. Максим ничего не знал об их приходе, и пока вернулся с поля, сруб приобрел все черты настоящего дома, не хватало разве только трубы. Плотники, как будто нарочно, в первую очередь подогнали подоконники, вставили новенькие рамы, навесили двери. Издалека трудно было заметить отсутствие стекол, а на трубу мало кто обращал внимание, – и дом выглядел совсем готовым.
Максим, увидев это, так удивился, что, подойдя к зем лянке, не решился зайти в дом, где разговаривали люди, стучали топоры, свистели фуганки. Из трубы землянки тянулся в небо жаркий прозрачный дымок. Мать, раскрасневшаяся, в новом платочке, встретила его на пороге.
– Что это такое, мама? – спросил он.
– Прокоп Прокопович вызвал бригаду, которая райком строит.
«Выпросила», – хотел было он упрекнуть её, но сдержался, глядя на её довольное лицо и побоявшись обидеть старуху мать.
– А доски? – кивнул он головой на груду, лежавшую у входа.
У него не хватало материала на настилку пола, и он, не желая обращаться к Лазовенке, не раз задумывался, где, кроме «Воли», можно бы распилить бревна.
– Василь одолжил, сам привез на машине. А бревна забрал. Распилит.
Максим не то чтобы разозлился, а как-то странно растерялся. Раньше мать ни одного шага не делала, не посоветовавшись с ним. И вдруг… Он воспринял это как своеобразный протест, бунт против него. Стало обидно и больно.
– Ишо, Максимка, глины привезти. Завтра печник придет, – ласково заговорила мать, с тревогой наблюдая, как бледнеет его лицо. Но никакая ласковость уже не могла его удержать.
– У меня все лошади на севе. И мне не до глины.
Мать укоризненно покачала головой и не пожалела его, хотя знала, что ему тяжело.
– Тогда я Василя попрошу. Пускай тебе стыдно будет, – она повернулась и пошла в землянку. – Думаешь, авторитета у тебя прибавится, когда ты глины себе не привезешь и в землянке жить будешь?
Максим, ничего не ответив, тоже повернулся и пошел назад, в поле. Все спуталось у него в голове в эти горячие дни, все чувства сплелись в какой-то темный клубок. Настороженно встретил он появление в колхозе Макушенки, думал, что тот приехал ревизовать его работу, искать ошибки. С раздражением принял помощь Лазовенки, связывая её с приездом секретаря райкома. Но вот уже третий день работали добродеевцы на полях «Партизана», и никакого «подкопа» не было, ни в чем не мог он его обнаружить. А все, что делалось, делалось на пользу колхозу и, значит, в помощь ему, председателю. Секретарь райкома совсем не вмешивался в его повседневные дела. Он все больше ходил один, знакомился с хозяйством, просто и сердечно разговаривал с людьми в поле, на ферме, заходил к колхозникам в хаты, сидел на уроках в школе. На третий вечер сделал доклад о международном положении, закончил его спокойной беседой о делах колхоза, призывал скорее строить гидростанцию и подумать об осушке болота.
Узнав, что в лавке нет соли и женщины должны бегать за ней в Добродеевку, Макушенка на рассвете вызвал заспанного, перепуганного Гольдина. Через два часа соль была уже в лавке. Лазовенка показался только раз – в первый день работы. Был он приветлив, весел, на прощанье крепко, дружески пожал Максиму руку. Колхозники его сеяли и обрабатывали землю, как на своем собственном поле – добросовестно, старательно. Максим не мог не видеть, что эта неожиданная помощь, пример добродеевцев в работе, пребывание секретаря райкома, его беседы с колхозниками, соревнование между бригадами всколыхнули людей, зажгли энтузиазм. Казалось, другие люди работают в поле. Это даже Шаройка заметил и истолковал по-своему, по-шаройковски:
– Хитрый у нас народ, Максим Антонович. Хитрый, брат, ой хитрый. Гляди, как стараются при секретаре. Работают как черти. При такой работе бригадиру делать нечего, в окошки стучать не приходится…
Максим ничего не ответил.
Скоро кончится сев. Быстрое завершение весенних работ и радовало его и почему-то тревожило. В тот день тревога приутихла, но неожиданно появившиеся плотники, разговор с матерью снова подняли в душе бурю.
Как он должен ко всему этому относиться? Не обращать внимания на чуткость секретаря райкома, на щедрость Лазовенки? Сделать вид, что это его не касается и мало интересует, что все это делается ими для его матери, вдовы партизанского командира Антона Лесковца?
Но Максим понимал, что это было бы более чем глупо – отделять себя от семьи, в которой, по сути, останется тогда одна мать, от светлой памяти отца.
Ему достаточно уже надоела жизнь в землянке. Он избегал даже заходить туда и завидовал, когда приходилось бьн вать в хороших, уютных хатах. Мысли о своем незаконченном доме иной раз не давали ему уснуть до утра. И вдруг все разрешается так просто и быстро. Через несколько дней он будет в собственной хате, и никто не попрекнет его, что он построил её, использовав свое положение председателя (он очень боялся такого попрека). Да, он не может не быть благодарным и Макушенке и Василю. Но высказать эту благодарность словами он, разумеется, был не в силах.
…Взяв в конюшне лопату, Максим незаметно пробрался в карьер у старой мельницы, где издавна брали глину, спустился в самую глубокую яму и за какой-нибудь час-два выбросил наверх глины не на одну печь, а на добрых три. Привез он её домой вечером, когда уже совсем стемнело.
15
Весь день Ладынин, Макушенка и Максим ходили по полям, осматривали посевы, беседовали с колхозниками. Под вечер они возвращались домой.
Настроение у Максима было скверное, он все никак не мог примириться с тем, что Лазовенка ему помогает, и помогает не на шутку. К тому же ещё пришлось выслушать от Маку-шенки несколько неприятных замечаний, которые он расценивал по-своему – как первый шаг к определенным выводам о нем, неудачном руководителе. Вдобавок он за день очень устал, больше, чем обычно.
День был знойный, пекло, как в июле. И земля была сухая, будто в середине лета. Пыль, тонкая, словно пепел, устилала дорогу, ноги тонули в ней. На черный костюм Макушенки и сапоги Лесковца лег светло-серый налет.
Макушенка поглядел на дымное небо, где не было ни облачка.
– Эх, дождика бы!
– Сегодня должен быть непременно, – уверял Ладынин. – Я всегда безошибочно чувствую его приближение. Ноги гудят.
Возле моста – стойла. На берегу – черный квадрат выбитой скотиной земли. На нем тесно лежали и стояли коровы, некоторые из них вошли в воду и помахивали хвостами, хотя ни мух, ни оводов ещё не было, а комары попрятались от жары.
Среди стада виднелись фигуры женщин с ведрами и подойниками; каждая находила свою корову, поднимала и отгоняла в сторону. Немного дальше, под вербами, у изгороди, отделявшей стойла от посевов, доили колхозных коров. Доярки были в белых косынках и синих передниках. На самом берегу сидела заведующая фермой Клавдя Хацкевич, перед ней, до половины погруженные в воду, стояли бидоны.
– Какой у вас дневной удой? – повернулся Макушенка к Максиму, в морщинках у него под глазами пряталась лукавая усмешка. Максим смутился: все цифры перепутались у него в голове, хотя Клавдя ежедневно бомбардировала его ими. Может быть, потому они и не запоминались, что слишком много она говорила об этих цифрах. Как разойдется на заседании правления, так одним духом сообщит все: и сколько молока давали коровы до войны, и сколько можно было бы иметь этого молока, если б выполняли все её, Клавдины, требования, и каждый раз о соседях – об удоях в «Воле» и у Гайной.
Макушенка укоризненно покачал головой.
– Председателю стыдно не знать таких вещей. Запомни, что это не мелочь – молоко. В колхозе нет мелочей… Ты должен знать продуктивность каждой коровы, не то что… Иначе управлять нельзя. А представь себе то недалекое время, когда у тебя будет сто… двести дойных коров. Что тогда?
«Опять начинается», – Максим вздохнул и вытер со лба пот. Макушенка предложил пройти к стойлам.
«Ну, сейчас она натарахтит – только слушай, – подумал Максим о Клавде, неохотно сбегая следом за Макушенкой с насыпи плотины вниз на луг. – Все на меня свалит, трещотка чертова».
Он вспомнил, как хитро и упорно уговаривал его Шаройка заменить Клавдю кем-нибудь другим. Делал он это всегда после того, как Клавдя доводила председателя до кипения. В такие минуты Максим соглашался со своим советчиком, но потом, поостыв, успокоившись, оставлял по-старому; он понимал, что лучшего заведующего фермой найти трудно. Чувство справедливости превозмогало все остальные.
Клавдя спокойно встала, свернула в трубку самодельную тетрадь из синей бумаги, сунула её в карман. На губах её оставил довольно заметный след химический карандаш, и это фиолетовое пятнышко, так же как и короткий, не по росту, белый халатик, как-то молодило её, делало похожей на девочку-подростка. Но руки она пожала всем смело, просто и не по-женски крепко. А Максиму тайком задиристо подмигнула: «Погоди, вот я тебе сейчас покажу». И правда, как всегда, сразу же повела наступление:
– Удои? Повышаем, товарищ секретарь. День и ночь кормят их мои девчата, – она кивнула в сторону колхозных коров: перед каждой действительно лежала кучка свежей травы. – Все межи пообщипали… Но трудно нам… Выпас дрянной, коровы голодные… А вот наш председатель считает, что ферма – это пустяк…
– Когда это я так считал? – разозлился Максим.
– Всегда… Сколько я тебе доказывала, что у коровы молоко на языке…
– Как у тебя вранье!
– Лесковец! – возмутился Ладынин.
– И просила, и требовала, чтоб для подкормки коров было посеяно хоть что-нибудь, как вон в «Воле». Пускай до «зеленого конвейера» мы ещё не доросли, но ведь можно было бы хоть четверть этого конвейера сделать…
Макушенка одобрительно кивал головой и улыбался. Улыбнулся на «четверть конвейера» и Ладынин. Но Клавдя говорила все это совершенно серьезно, без тени улыбки.
Доярки с ведрами молока стояли возле коров, прислушивались к беседе, стесняясь подойти. Коровы тоже поворачи вали головы, большими влажными глазами смотрели на незнакомых людей, на свою хозяйку и, как бы понимая, что она защищает их, вздыхали.
– Ты, Максим, все ещё по дедовским законам хочешь жить. Снег – с поля, скотину – в поле, и всем заботам конец. Когда-то батька мой так делал, так, помню, при двух коровах никогда свежего молока не пили, а сметаны и в глаза не видали ни он, ни мы, дети. Сколько раз я тебе говорила, чтоб отделил колхозных коров от общего стада! А ты Шаройку слушаешь…
– Можно подумать, что Шаройка у тебя теля съел, – уже спокойно заметил Максим, не совсем удачно перефразируя поговорку.
– Моим теленком он бы подавился, а вот колхозного не одного съел. Потому и ферма маленькая.
Максим знал, что Клавдю лучше не задевать, потому что она на каждое слово десять ответит, и потому отвернулся, заглянул в бидоны.
– Ни в одном колхозе так к ферме не относятся…
Он не мог этого больше терпеть и, чтобы хоть чем-нибудь отплатить этой въедливой женщине, сказал как бы между прочим:
– Ты бы бидоны лучше помыла. Грязные.
Клавдя поперхнулась на полуслове. Это замечание в присутствии доктора было для нее самой тяжкой обидой.
– Грязные?
– Эй, девочки! Председатель говорит – бидоны грязные! – пропел позади зычный бас Гаити, его двоюродной сестры, и вмиг все три доярки оказались возле Максима. Закричали в один голос:
– Покажи хоть пятнышко! Где она – эта твоя грязь? Растерявшись от такого натиска, Максим сердито отмахнулся:
– А ну вас к черту!.. – и быстро пошел к дороге, сгоняя с места коров.
А девчата все ещё возмущались:
– Нас на пункте в пример ставят, а он – грязь… Лошади небось не дал, мы на волах возим, и то у нас молоко ни разу не скисло.
Отойдя, Макушенка и Ладынин понимающе переглянулись и рассмеялись.
Максим ждал их у дороги; опершись плечом о ствол ста рой согнутой вербы, он курил, жадно затягиваясь.
– Не уважаешь ты критику, Лесковец, – сказал Макушенка, подходя.
– Какая это к черту критика!
– А интересно, как ты её себе представляешь, критику? – хитро прищурился Ладынин.
– Разъелась на ферме, вот и зыкает, бесится, как корова… Ей… – Он осекся, увидев, как нахмурился секретарь райкома.
У Ладынина брови сошлись в одну линию, он повернулся к Максиму и сурово произнес:
– Ты чего на людей клевещешь? Слушать тошно! Да после таких твоих слов тебя не только она уважать не будет – вся деревня отвернется…
Максим покраснел и замолчал.
– У нее душа болит за доверенное ей дело, и это надо уметь ценить, поддерживать, а не ставить выше всего свой гонор, свое дрянное самолюбие.
Возмущенный Ладынин перешел на другую сторону дороги.
– Да-а, боишься критики, – продолжал свою мысль Макушенка. – И в этом твое несчастье. Боишься критики – значит боишься людей. Боишься хороших людей, которые болеют о колхозе и искренне желают тебе помочь…
Максим минуту шел молча, опустив голову. Потом повернулся к секретарю райкома и тихо сказал:
– Да, боюсь… И хватит с меня такой критики. Прошу поставить вопрос о перевыборах. Хватит! – И вдруг с яростью крикнул: – К дьяволу такую работу! – и быстро пошел вперед.
Макушенка недоуменно взглянул на Ладынина… – Ничего, успокоится, – уверенно сказал доктор. – Вызови ты нас с ним на бюро, послушай… Только чтоб не было там тех субъектов, которые любой партийный разговор сводят к угрозам отдать под суд..
Через некоторое время Максим сидел в хате у Шаройки за столом, сжав ладонями виски. Перед ним стояли бутылка самогону, тарелки с хлебом, огурцами и ломтями старого тол стого сала. Напротив расположился хозяин, выражение лица у него: было кислое.
– Так, говоришь, кончают сев?
– Кончают, Антонович.
– Ну и пускай кончают… Пускай работают… И руководят пускай Кацуба, Ладынин – кто хочет… А с меня довольно! Я наруководился!
Шаройка укоризненно покачал головой. – Эх, молодость, молодость! А ещё закаленные, говорят, войну прошли. Легче всего бросить, отступить… Нет, ты свое докажи… Докажи, что ты хозяин не хуже других… – И льстивым голосом продолжал: – Да ты знаешь ли, как любит тебя народ, Антонович? И Лазовенка никогда таким уважением не пользовался…
– Любит? – с явной иронией спросил Максим, но Шаройка не заметил этой иронии.
– Ей-богу, любит… Сына Антона Лесковца да чтоб не любили!.. И ты умей, где надо, отступить, признать свои ошибки… В наше время без этого нельзя… Но там, где надо, будь как сталь!:. Лазовенка хочет все колхозы в один объединить… А ты докажи, что народ не желает этого. В райкоме докажи, напиши в центр…
– И докажу! – вдруг на диво спокойно и уверенно заявил Максим. – Шаройка прямо засиял весь, торопливо налил чарки.
– Правильно! А ты бросать хочешь! Из-за чего? Почему? Бороться надо, как говорится, до победного конца. Выпьем!
Но Максим, как бы что-то вспомнив, отодвинул свою чарку, и совершенно трезвым голосом сообщил:
– По предложению Макушенки комиссия твой приусадебный проверила. Что-то больше гектара намерили, вместо тридцати соток.
Шаройка поставил чарку на стол, и самогонка перелилась через край – рука его заметно дрогнула. Он изменился в лице, зашептал, как заговорщик:
– Не может быть!..
– Все может быть, Шаройка, – все так же спокойно и даже как будто безразлично отвечал Максим. Этот его тон немного успокоил и Шаройку.
– И что? – спросил он уже без дрожи в голосе.
– Думаю, ты сам лучше меня знаешь, что бывает за незаконный захват общественной земли.
Шаройка наклонился над столом, угодливо заглянул Максиму в глаза.
– Ничего особенного не бывает. Но… Максим Антонович, дорогой мой, что-то надо сделать… Это больше неприятностей тебе, чем мне. Мне что, а тебе…
Лесковец, оглянувшись, чтоб убедиться, что в хате никого нет, показал хозяину кукиш.
– А этого ты не видел? Я за твою усадьбу с партбилетом расставаться не желаю. Да и все уже решено: есть приказ гнать тебя из бригадиров, а усадьбу отрезать вместе с посевами.
Шаройка рукавом вытер со лба пот и придвинул ближе к себе тарелку с салом, как бы не желая больше, чтобы Максим ел его, это сало.
16
Закончив сев, колхозники обоих колхозов собрались у молодого соснового леса.
Ладынин и Макушенка решили воспользоваться этим, чтобы поговорить с людьми, провести нечто вроде летучего митинга. Сожалели только, что нет Лесковца.
Нещадно пекло солнце. Сосновый лесок, на опушке кото-рого происходило собрание, дышал горячим ароматом смолы. Колхозники сидели, лежали ничком, на боку, опираясь на локти, в редкой тени молодых сосенок. Запыленные с ног до выгоревших волос бороновальщики – все молодые хлопцы – похожи были на шахтеров, добывающих какого-то необыкновенного цвета уголь. Глаза у хлопцев горели веселыми огоньками и шныряли по сторонам, ища, кого бы задеть, над кем бы пошутить. Однако это не мешало им внимательно слушать. Присутствие секретаря райкома сдерживало их. Более спокойно и солидно сидели мужчины – пахари и сеятели. Они были не так безжалостно пропылены, у многих на головах красовались вылинявшие военные фуражки. Совсем тихо, скромно, в стороне от парней, сидели девчата. Женщин было мало, они ушли домой, чтоб в обеденный перерыв накормить детей, подоить коров.
Девчата сидели кучкой, прижавшись друг к другу, при крывая подолами платьев запыленные ноги. Но только на первый взгляд казалось, что они спокойны. А если понаблюдать за ними, можно было заметить, что под застенчиво опу-щенными ресницами светились такие же задорные огоньки, как и у парней.
В сосняке фыркали лошади. Они спрятались от жары и, как по команде, мотали головами. Только некоторые из них, более охочие до еды, ходили по полю и щипали траву. На дороге стояли возы, лежали перевернутые вверх зубьями бороны, пускали веселых зайчиков зеркально отполированные землей лемехи плугов.
Народ расселся так, что ораторам приходилось стоять на самом солнцепеке. Василь Лазовенка пошутил по этому по-воду:
– Нет, сегодня любители длинных речей не смогут злоупотреблять нашим терпением. Чаще бы их на такую трибуну выставлять.
Однако собрание затягивалось. Говорили не подолгу, но много было желающих выступить.
Тепло, проникновенно сказал Лазовенка об укреплении дружбы между колхозами, об объединении усилий для того, чтобы сделать оба колхоза-соседа передовыми.
– Колхозы у нас небольшие, и каждый сам по себе никогда не мог бы осуществить, например, строительство гид ростанции. А общими силами мы её – построим! Построим! Есть немало мероприятий, связанных с электрификацией и механизацией хозяйства, с подъемом урожайности, которые можно выполнить сообща. Например, осушка Голого болота…
Это была его новая идея. Он подробно рассказал, как можно было бы лучше организовать это дело, какие потребуются средства – у него все было уже точно рассчитано – и какие выгоды получат колхозы от осушки. Слушали его внимательно.
Самую короткую речь сказал Михей Вячера.
– Дорогие товарищи колхозники колхоза «Партизан», разрешите вам пожелать, чтобы бы всегда так работали, как работали эти три дня.
– Лучше будем работать! – крикнул откуда-то из сосняка молодой голос. – Не подначивай, старая лиса!
– Мы вас ещё на буксир возьмем!
– Еще вам помогать приедем! Вячера-поклонился.
– Милости просим. Встретим с дорогой душой. Где-то далеко за сосняком глухо загремело.
– Гром! – радостно крикнул кто-то из хлопцев. Прислушались.
– В ушах у вас гром! На станции грохочет…
Но через минуту все уже поняли, что действительно гремит гром. Несколько человек быстро побежали в поле, подальше от опушки, чтобы посмотреть, что делается на го ризонте.
– Туча! – послышались обрадованные голоса. Колхозники заволновались.
– Тише, товарищи! – уговаривал председатель. – Давайте закончим наше собрание. Слово имеет товарищ Ладынин.
– Я коротко, товарищи!
– Почему коротко? Говорите подольше, Игнат Андреевич. Боимся мы дождя, что ли? Ждем.
Вскоре туча показалась и с другой стороны, над далеким лесом, синевшим там, куда уходила пойма реки.
– Вот кабы они встретились над нами, – переговаривались между собой колхозники, поглядывая в сторону леса, – да полили как следует.
– Ничего не выйдет. Дождик будет над лесом. Лес притягивает влагу, – говорили «теоретики».
А туча все росла и росла. Сначала их было две, верхняя и нижняя. Верхняя – белая, с ровными краями, спокойно и быстро плыла, поднималась все выше по небосводу. Нижняя – темно-синяя, почти черная у горизонта, вставала над самым лесом; казалось, зацепившись за него, она не могла оторваться. По краям она вихрилась причудливыми синими клубами, рвалась вперед и гневно кидала на лес извивающиеся как змеи молнии. Но вот после одной молнии, прорезавшей небо почти у самой земли, туча стремительно рванулась вперед и вскоре догнала свою белую сестру, закрыла её. К земле протянулись длинные косые нити дождя, освещенного лучами солнца.
Люди вздохнули. Сзади, из-за сосняка, приближаясь, гремела вторая туча.
Колхозники не спешили запрягать. Они стояли и следили за удивительной игрой в небе. Туча, которая плыла с запада, закрыла солнце. Сразу же зашумели сосны, прокатилась синяя волна по всходам ячменя в низине.
Упали первые крупные капли, глубоко пробивая пыль. Казалось, по дороге пробежали странные неведомые зверьки и оставили маленькие круглые следочки. Люди притихли, жадно вглядываясь в небо. Крепчал ветер. На миг перестали падать капли.
– Разгонит, – вздохнул кто-то.
Но вот закапало снова. И вдруг блеснула молния, оглушительно ударил гром, и удар этот как бы разорвал тучу: хлынул ливень.
С криком, с гоготом запрягали лошадей, вскакивали на повозки как попало.
Маша с девчатами случайно оказалась в повозке Василя. Он сам правил, весело покрикивая, и откормленный жеребец вмиг обогнал все остальные повозки. А дождь становился все сильнее. За его плотной завесой не было уже видно ни сосняка, ни дубов у речки, ни деревни. Девчата прикрывались корзинами, жались друг к другу. Но через несколько минут платья их насквозь промокли и прилипли к телу. Когда п Одъ-езжали к деревне, гром уже не грохотал, а устало ворчал вдалеке. Дождь немного утих, стал ровнее, но лил все ещё споро.
Девчата на краю деревни соскочили с повозки и огородами побежали каждая к своей хате. Машу Василь подвез к самому крыльцу.
– Бежим в хату, Вася, – пригласила она.
Он закинул вожжи за столбик палисадника и быстро взбежал на крыльцо. На обоих, как говорится, нитки сухой не было, вода стекала с них ручьями.
Маша засмеялась.
– Не смотри на меня. Она отпирала замок.
Василь повернулся лицом к улице.
– Ах, как хорошо спрыснули окончание сева! Какое богатство падает с неба, Маша!
– Это на мое счастье. – Она опять засмеялась и исчезла в сенях.
Он снял кепку, выжал её. Провел ладонями по груди. Гимнастерка стала точно кожаная, нижняя рубашка прилипла к спине. Но это не было неприятно, наоборот, тело наливалось бодростью. Он жадно вдыхал насыщенный озоном воздух и радостно улыбался, любуясь дождем. По улице текли ручьи. Из дворов выскакивали мальчишки в закатанных по колено штанах, бегали по воде, хохоча и распевая:
Дождик, дождик, припусти!
Растут во поле кусты…
Василь не вникал в смысл слов, хотя когда-то в детстве не раз повторял их. Но и ему хотелось вместе с ними петь – попросить дождь, чтоб лил сильнее и дольше.
– Заходи в дом, Вася.
Он обернулся. Маша стояла в сухом платье, с распущенными мокрыми волосами.
– Надо подождать Игната Андреевича.
– Разве он не узнает твоей лошади?
Василь послушно пошел за ней. Прошел через кухню в комнату и смутился, увидев, что оставляет на чисто вымытом полу мокрые следы.
– Хочешь, Вася, я дам тебе сухую рубашку? Петину.
– Ну, что ты!.. Я сейчас поеду.
– А чего тебе спешить? Посиди. Ты ведь первый раз у нас в гостях.
Она говорила это просто, как близкому человеку, и он даже растерялся, не зная, как быть: отказаться или принять приглашение.
А Маша тем временем достала из сундука черную сатино-1 вую рубашку и протянула ему, и у него не хватило решимо сти отказаться.
Он вышел в кухню, чтобы переодеться. Рубашка была тесновата, с короткими рукавами, и Василь почувствовал себя в ней совсем юным. Когда он вернулся, Маша приветливо улыбнулась.
– Ну вот, какой ты молоденький! Подожди меня минутку. Она направилась в кухню. Там загремело корыто, ведро, полилась вода. Он открыл дверь.
– Что ты делаешь?
– Сполосну твою гимнастерку и сорочку, У него загорелись уши.
– Ну, что ты! – Он попытался было отнять гимнастерку, но она решительным движением отстранила его.
Случайно взгляд его остановился на её ногах, стройных, красивых, бронзовых от загара. Ему стало неловко, и он поспешно вернулся в комнату, подошел к окну. Сердце его громко стучало. По той стороне улицы прошли Макушенка и Ладынин. Он проводил их взглядом и опомнился только тогда, когда они зашли во двор к Прокопу Лесковцу: ведь он должен был их окликнуть. Не услышал он также, как вошла Маша.
– Ах, какой дождь! Просто счастье!
Она стояла почти рядом, смотрела в окно и ловкими пальцами заплетала косу.
– Если б ты знал, какое у меня настроение! Почему ты хмуришься?
– Я? Наоборот. – Он засмеялся. – У меня тоже замечательное настроение.
– Ты хорошо говорил на собрании.
– Да нет… Хотелось сказать куда лучше… Столько думал…
– В мыслях всегда лучше получается, – согласилась Маша.
И вдруг они, почему-то смутившись, умолкли и долго стояли так, не отводя глаз от окна, за которым шумел дождь.
Потом Маша отошла к столу, достала с полки толстую книгу, раскрыла. Она вынула из книжки листок бумагу взглянула на Василя, неуверенно проговорила:
– Вот… хочу показать тебе… первому. Он прочитал, и глаза его загорелись.
– Молодчина!.. Давно пора. Написать, правда, можно было бы короче.
– Что ты! Как же можно короче! У меня и так очень коротко. Гляди, какая автобиография. Два дня писала и вот столечко написала. Стыдно показать такую автобиографию.
– Глупости! Дело не в этом, Маша. Есть биографии длинные, да путаные. А твоя что вот эта капля дождевой воды. Без пылинки. Сегодня же передай все Ладынину.
Маша вздохнула.
– Боюсь.
– Чего?
– А если не оправдаю? Ты представь, дадут мне люди рекомендацию, я вот в заявлении слово партии даю, как клятву, а потом…
Василь сел за стол, пытливо посмотрел на нее и тихо спросил:
– У кого ты просила рекомендации?
– Ни у кого ещё.
– Я первый поручусь за тебя. Дай бумагу. – Он взял Алесину тетрадку, аккуратно вырвал чистый листок.
Маша стояла по другую сторону стола, как школьница на экзамене, и не отводила взгляда от его руки, которая старательно выписывала простые, но волнующие слова.
«Знаю Кацубу Марию Павловну…»
Василь поднял голову.
– С каких пор я тебя, Маша, знаю?
В хату шумно вошел Петя, ещё с порога закричал:
– Маша!.. Сухое! – но, увидев Василя, замолк, только удивленно нахмурился, узнав на нем свою рубашку.
Маша отошла к сундуку и стала искать ему белье. Петя занял её место у стола и бесцеремонно заглянул в тетрадь. Прочитав первые слова, молча повернулся и, взяв белье, на цыпочках вышел в кухню.
Дождь не утихал. Все небо было затянуто тучами.
Написав рекомендацию и отдав её Маше, Васлль, встал, пошутил:
– В гостях хорошо, а дома лучше. Пойду позову Ладынина. Они у Прокопа.
Маша проводила его до сеней, держа рекомендацию в руках. На крыльцо она не вышла. Прислонившись к наружной двери, смотрела, как он отвязал лошадь, как ловко вскочил на телегу и быстро переехал через дорогу. И вдруг она почувствовала, что у нее не по-обычному бьется сердце – чаще и громче – и горят щеки. А когда она вернулась в комнату, ей почему-то вспомнились слова, недавно сказанные ею Сынклете Лукиничне: «Он гордый, а я, по-вашему, не гордая? Нет, тетя Сынклета, я тоже гордая…»
В поле, между Лядцами и Добродеевкой, они встретили Соковитова. У инженера был такой вид, как будто он только что вылез из речки, но шел он не спеша. Увидев на повозке Макушенку, засмеялся и закричал:
– Буду с вами ругаться, Прокоп Прокопович! Хитрый вы человек!
– Что случилось? – Все трое притворились удивленными, хотя и Ладынин и Лазовенка уже знали, с какой целью секретарь райкома направил Соковитова в обком.
– Не хитрите, братцы. Знаю, что вам все было известно раньше, чем мне, – и шутливо представился: – Главный инженер областной конторы «Сельэлектро» Соковитов, Сергей Павлович.
– С чем вас сердечно поздравляем, – с улыбкой пожал ему руку Макушенка.








