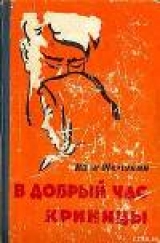
Текст книги "В добрый час"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
8
«Газик» быстро проскочил через переезд (дежурная пропустила одну райисполкомовскую машину и закрыла шлагбаум), круто повернул на шоссе, идущее вдоль железной дороги, и сразу же забуксовал, попав в глубокую, разбитую машинами колею, полную густой весенней грязи. Мотор злобно фырчал, колеса разбрызгивали грязь, и она летела Белову на сапоги. Он придвинулся ближе к шоферу и, обернувшись к Макушенке, сидевшему на заднем сиденье, засмеялся:
– Ты, Прокоп, хитрец. Я думал, ты из скромности туда забрался.
– Как же, буду я под твою грязь садиться.
– Под мою?
– Показатель работы твоего дорожного отдела. Машина рванулась и снова забуксовала.
– Напрасно ты нападаешь на дорожников. Они немало сделали.
– Но вот эта дорожка под самым, как говорится, носом у райкома и райисполкома – позор и для них, и для нас с тобой. Ты слышал, как колхозники нас поминают, когда подъезжают к этому месту? Советую послушать.
– Не все сразу. Всему свой черед. И так, посмотри, сколько сделано за три года! Вон зерносклад – любо поглядеть! – он показал рукой на длинное кирпичное строение под шиферной крышей. – А в сорок пятом – помнишь? – все хлебопоставки вот в этаком сарайчике помещались.
Секретарь райкома неодобрительно покачал головой.
– Увлекаешься ты, Леонович, своими достижениями. Не забывай: это вредная болезнь.
– Ну, брат, и прибедняться, как ты, не буду. Мы—третий район по области. И нам нет необходимости открывать, выносить на люди наши недостатки, как это сделал ты на областной конференции. Недостатки – они есть у всех. Сами мы, конечно, не должны о них забывать, но…
Машина попала в яму, и Белов стукнулся лбом о переднее стекло. Рассердился на шофера. – Ты что, в первый раз едешь, что ли?
Парень покраснел и поехал медленней, хотя после этой ямы дорога пошла ровная, сухая.
– Перед партией хитрить нельзя, Николай Леонович. На наших ошибках, как и на наших достижениях, должны учиться другие.
Белов, отвернувшись, поморщился. Но Макушенке хорошо было видно его лицо в маленькое круглое зеркальце.
– Ты говоришь так, как будто Белов когда-нибудь хитрил. Я двадцать лет в партии.
Макушенка промолчал, занятый какими-то своими мыслями.
По обе стороны дороги лежала старая вырубка с остатками редких трухлявых пней. Дальше, справа, широкой гладью блестело между ольховых кустов залитое вешней водой болото. Впереди, в каком-нибудь километре, начинался сосняк.
– Вот где наше богатство, Николай Леонович. Надо заставить Крыловича поднять осенью эту целину болотным плугом.
Белов молчал. Машина приближалась к лес.
– А про дорожку ты не забывай и мне напоминай. А то просохнет, и мы опять забудем до осени. Надо в первые же дни, как отсеемся, заняться ею.
Въехали в лесок, и дорога сразу стала песчаной. Мотор снова начал сердито фыркать, стрелять, из-под шин ручьем стекал сухой, как зола, песок.
Белов обернулся, проникновенно посмотрел Макушенке в лицо.
– Послушай, Прокоп Прокопович, я человек простой и люблю рубить сплеча. Твоего выступления на последнем бюро я не понимаю.
На лице секретаря райкома на миг отразилось удивление, он едва заметно пожал плечами и стал поправлять и без того безукоризненно завязанный галстук.
– Ты плечами не пожимай, а скажи по-партийному откровенно: недоволен?..
– Чем? Земельным отделом и отделом колхозного строительства – да. Я ведь сказал на бюро…
– Нет. Вообще… – Белов повернулся к секретарю лицом и показал пальцем на себя.
– Если б было так, как ты думаешь, то уверяю тебя, я не постеснялся бы уже давно сказать об этом во весь голос.
– Тогда за что же ты нас так распесочил? Погоди. Я работаю председателем райисполкома двенадцать лет, с разными секретарями работал и почти со всеми жил дружно…
– Разная бывает дружба, Леонович. Я хочу, чтобы у нас с тобой была настоящая, большевистская дружба.
– Я понимаю. Но знаешь, выработался уже некий этикет. Секретарь и председатель обо всех недостатках, разногласиях договариваются между собой.
Макушенка щелкнул языком, покачал головой.
– Этикет не совсем партийный, Николай Леонович. Однако, если хочешь, пожалуйста, договоримся с глазу на глаз. Но когда дело идет о путях развития района, уж прости, я буду говорить, критиковать любого работника на любом партийном заседании или собрании. И плох тот работник, кто на это обидится.
Белов отвернулся, сел прямо; лицо его приняло обычное выражение – веселого оживления. После долгой паузы сказал:
– Я, Прокоп, за критику никогда не обижаюсь. Солнце подымалось прямо против них и своими яркими майскими лучами било в лицо, слепило лаза. Здесь, на сухом песке, среди сосен, осыпанных желтым цветом, оно казалось особенно жарким.
– Эх, дождик, – вздохнул Белов, вглядываясь в затянутый туманной полосой край неба. – Подводит, Прокоп Прокопович.
– Да, сухая весна. Надо скорей заканчивать сев.
– Вот именно скорей. А для этого надо штурмовать всеми наличными силами. Вызывать отстающих председателей на бюро и давать им, как говорят, жизни, чтоб прочувствовали и уразумели. Вот я сейчас Рыгоровичу прочищу мозги так, что надолго запомнит…
Белов не видел, с какой усмешкой слушал его секретарь райкома.
– А под вечер доберусь до Дубодела… А тебя я не понимаю. В такое горячее время первый секретарь отправляется в один колхоз. И в какой колхоз? В отстающий? Нет. В колхоз, который выбился в хорошие середняки, за который теперь можно особенно не беспокоиться… Знаешь, Лесковец мне больше нравится, чем этот твой профессор Лазо-венка. Простецкий хлопец, энергичный… Я как-то заезжал к нему, посмотрел и порадовался.
– А тебе не показалось, что он похож на некоторых наших районных товарищей? – хитро усмехаясь, спросил Макушенка. – Тоже энергичные работники, но их нужно держать под контролем и поправлять, а иначе они наломают дров.
Белов незаметно взглянул на шофера, потом повернулся к Макушенке и рассудительно произнес:
– Контролировать, Прокоп Прокопович, нужно всех. Без партийного контроля любой умник может ошибиться.
– Вот я и поеду, поживу, присмотрюсь к молодому председателю, помогу ему, а там, гляди, и сам научусь чему-нибудь.
– Но в районе без малого сотня колхозов. И если в каждом проводить по три дня…
– Но в районе, Николай Леонович, не один только секретарь. Давай подсчитаем наших руководящих работников! На все колхозы хватит. Одним словом, я вижу, что нам надо будет как-нибудь серьезно поговорить о стиле руководства. Пора начать борьбу против гастрольных наездов.
– Правильно! – согласился Белов. – Но если вообще говорить о стиле, то мне хочется с тобой поспорить. Не все мне нравится и в твоем стиле.
– Вот это и хорошо, – засмеялся Макушенка, довольно потирая руки, – что тебе хочется поспорить.
Машина выехала на высокий взлобок, с которого как на ладони была видна Добродеевка. Там, где кончался сосняк, дорога раздваивалась. Шоссе, с телефонными столбами на обочине, вело в Добродеевку, проселочная, по опушке березовой рощи, – в Лядцы.
– Тебе прямо в «Партизан»? – спросил Белов.
– Нет, заедем к Ладынину. Проведаем старика. – Минуту помолчав, Макушенка прибавил – Жаль, что он заболел в такое горячее время. Был бы он здоров, за один сельсовет можно было бы не беспокоиться.
9
– Мне – помощь? – Маша увидела, как сразу переменился в лице Лесковец. Неестественно вытянулась шея, на которой вдруг вздулись вены – как будто ему стало трудно дышать. Он стоял, опершись ногой о толстое бревно, и курил трубку. Услышав эту неожиданную новость, выхватил трубку изо рта, снял с бревна ногу, выпрямился, не сводя глаз с секретаря райкома.
Макушенка сидел на другом бревне рядом с Лукашом Би-рилой и, казалось, целиком был занят тем, что сворачивал цигарку из самосада, которым угостил его заместитель председателя. Только Маша, стоявшая рядом, видела, как внимательно следит он исподтишка за Лесковцом, и догадывалась, что секретарь понимает его чувства, его душевное состояние не хуже, чем понимала это она.
Может быть, один лишь старый Лукаш встретил это известие безразлично. В ответ на взволнованный вопрос Максима Макушенка, как бы между прочим, не поднимая головы, заметил:
– Не тебе. Колхозу.
Максим перешагнул через бревно, махнул трубкой, засыпав всех табачным пеплом, искрами.
– Не нужна мне такая помощь! Не так помогать надо! Помощь доброго соседа! Лазовенка славу свою умножить хочет!.. – Он, должно быть, хотел выругаться, но вспомнил о Маше, повернулся к ней, со злобной иронией спросил: – Это что… ты просила помощи?
Впервые Маша растерялась под его взглядом и не знала, что ответить. Внезапная мысль, что и в самом деле получается так, будто она выпросила эту помощь, обещанную Лазо-венкой, смутила и даже испугала её. В ином свете видела она теперь свое утреннее посещение Ладынина. Имела ли она право одна, ни с кем не посоветовавшись, не попробовав выправить положение собственными силами, бежать к секретарю парторганизации?
Ведь есть же, в самом деле, какая-то гордость, какой-то своего рода колхозный патриотизм… А вдруг весь колхоз встретит эту помощь так, как вот встретил её председатель?
«Нет, нет, глупости это все! Я обязана была рассказать о наших делах Ладынину. А помощи я не просила. Но если помогут – скажу спасибо и уверена, что и все так же».
Как бы в поддержку её мысли раздался спокойный голос секретаря райкома:
– Я не понимаю, Лесковец, чего ты горячишься. Тебе помощь не нужна, а колхозу она, возможно, нужна. Ты у колхозников спроси, посоветуйся. Почему ты все решаешь сам?
– Правда, Антонович, – неожиданно отозвался Бирила, – давай посоветуемся с людьми. Помощь соседа – не стыд. Сегодня – они нам, завтра – мы им.
Максим отчаянно махнул рукой и отошел в сторону, к берегу реки, стал над самым обрывом, широко расставив ноги и задумчиво устремив взор в воду.
Бирила вздохнул.
– Эх, молодость!
Макушенка улыбнулся ласково, спокойно, вкусно затянулся дымком цигарки.
– Скорей кончайте сев да беритесь за станцию. Секретарь, Маша и Бирила поднялись и тоже подошли к реке.
– Да… работенки тут, товарищ Макушенка, хватит. Сколько человек работало больше месяца – и, поди ж ты, никаких следов не видать, – говорил Бирила, оглядывая площадку.
– Почему ж! Следы есть.
Они шли по берегу… Заходило солнце. Огромный огненный шар поднялся над добродеевскими липами, вершины которых выглядывали из-за пригорка, и покатился по лугу, по мягкой, золотой от солнечных лучей траве. Алым пламенем горели заречные дубы; в этом удивительном освещении они казались какими-то сказочными богатырями, Деревенские ха-ты, находившиеся в тени пригорка и соснового леса, выглядели, наоборот, маленькими, прижатыми к земле. А в вышине над ними расстилался бескрайний светлый простор. Было тихо. Не шевелился ни один листок на вербе, ни одна травинка. Воздух был неподвижен, душен, прозрачный над лугом и дымный от пыли над деревней и полем.
Максим догнал их, почти по-военному спросил:
– Я вам не нужен, товарищ Макушенка?
– Пожалуйста… Если у тебя дела – иди, занимайся ими. И вы, товарищи, не стесняйтесь, – обратился он к Маше и Бириле. – Я один здесь поброжу. Красиво у вас.
Макушенка пошел берегом вверх по течению и далеко за деревней в кустах неожиданно наткнулся на Соковитова. Инженер лежал в густой траве, смотрел на воду и задумчиво покусывал травинку.
Макушенка издали потихоньку наблюдал за выражением его лица и подумал с усмешкой: «Бьюсь об заклад, что тебе уезжать отсюда не хочется. Жаль бросать начатое дело. Ла-зовенка был прав. Что же, поможем тебе остаться…»
Он вышел из-за кустов. Соковитов увидел его и встал, чтоб поздороваться.
– А я вас весь день ищу, Сергей Павлович.
– Меня? – удивился Соковитов. – На что я вам? Макушенка, не отвечая на вопрос, предложил сесть, достал папиросы, поднес спичку.
– Красивое место, Сергей Павлович, – он кивком головы показал за речку, где стояли дубы и видна была зелень озимых.
– Место ничего. Но я вот пришел попрощаться… У меня болезнь – быстро и крепко привязываюсь к хорошим людям и красивым местам…
– Значит, уезжаете? Когда?
– Послезавтра. – И, со злостью хлопнув себя по щеке, чтоб убить комара, стал как бы оправдываться: – Уезжаю. Не могу. Не мой это размах. Я такие плотины за неделю строил, а тут… людей сняли… Один только Лазовенка и думает о строительстве. Да при этом, представляете себе, какое у меня положение. Ни определенной должности, ни оклада… Так… инженер-любитель, на иждивении у колхоза…
– Да-а, жаль, – протянул Макушенка.
– Что – жаль?
– Жаль, что вы послезавтра уезжаете. Первый секретарь обкома очень просил, чтобы вы к нему заглянули…
– Я? По какому делу?
– Точно не знаю.
– Хотите задержать? Признайтесь откровенно. Да ведь я на временном учете… Теперь уже никто и ничто меня не задержит. Я упрямый и решаю один раз.
Макушенка усмехнулся.
– Ей-богу, ничего не знаю, дорогой Сергей Павлович. Но жаль…
– Я могу задержаться и съездить.
– Если можете – пожалуйста… Я с вами письмо передам Павлу Степановичу…
Они после этого долго ещё лежали и беседовали о разных вещах – о севе, о международном положении, возмущались «доктриной Трумэна» и кровавыми расправами фашистов в Греции.
Разошлись, когда уже стемнело.
Максим, отойдя от секретаря райкома, направился в конюшню, быстро оседлал жеребца и тропкой, задами двинулся в сторону Добродеевки. По деревне ехал шагом, а в поле погнал лошадь вскачь. В груди у него кипели непонятные чувства: какая-то сложная смесь оскорбленного самолюбия, обиды, злосги и упрямства и ещё чего-то, чему и названия не найти.
«Помощь. Ничего себе помощь! Засеют десять гектаров, а потом год будут пальцами тыкать: за вас Лазовенка сеял. Ну, дружок, не думал я, что ты хитрее самого черта. Но на мне не проедешь: где сядешь, там и встанешь. Я сыт по горло твоей высокоидейной помощью».
Он ехал с твердым решением поговорить «начистоту», выложить все, что он о нем, Лазовенке, думает, и не попросить, нет, потребовать, чтобы он отказался от своего намерения помочь «Партизану» закончить сев.
Возле сельмага мальчишки сказали ему, что председатель только что прошел за речку, в поле.
Наступала ночь, уже довольно сильно стемнело. Народ давно вернулся с работы, и Максим не понимал, что понадобилось Василю в такой час в поле. Его решимость поколебалась, и даже изрядно. А не унизит ли он себя перед Лазо-венкой этим разговором? А разумно ли то, что он собирается сделать? Не даст ли это повода для новых насмешек и подкопов с его стороны?
Он повернул лошадь назад… Но, доехав до конца сада, передумал и через сад выехал к речке, переехал её вброд. Издалека увидел одинокую фигуру человека, медленно идущего по тропке; светился огонек папиросы.
Максим соскочил с коня, повел его в поводу.
Лазовенка обрадовался Максиму и нисколько не удивился, как будто ожидал его.
– Жаль, что ты приехал, когда уже стемнело, а то я показал бы тебе наши бураки. Отлично растут. Напрасно ты к нам не заглядываешь, мы в этом году интересные эксперименты проводим. Знаешь, вот сейчас ходил и подсчитывал, что одни бураки и овощи дадут нам возможность покрыть затраты на гидростанцию. Так что можешь не беспокоиться о финансировании. Возьму на себя, как обещал. Давайте только людей. Разозлился я на вас с Гайной, когда вы сорвали народ со строительства. Эх, думаю, черт с вами!..
– И потому решил помочь мне сеять?
– Да-а. Сев вы затянули. Надо все силы мобилизовать.
– Так вот что. Помощь твоя мне не нужна!
– Не нужна? – Василь наклонился ближе, чтобы увидеть выражение его лица. Но в этот миг где-то заржали кони, и жеребец звонко откликнулся, рванув повод. Максим повернулся, ударил его ладонью по морде и ловко вскочил в седло.
– Так что можешь не беспокоиться. Посеем без тебя. Но Василь ухватился за повод, потом за стремя и придержал коня.
– Погоди. Это решение лично твое или правления? Твое, конечно. Гонор и все такое… Так слушай, что я тебе скажу. Брось свой гонор и спроси у людей, хотят они, чтоб им помогли, или нет. Я у своих колхозников спросил. Больше того, парторганизация тоже одобрила мое предложение… За колхоз и за урожай не один ты отвечаешь. Теперь, само собой, слово за колхозниками «Партизана». И пускай их председатель не берет все на себя. Бывай здоров, Лесковец!
Он выпустил повод. Максим, ничего не ответив, повернул коня и поехал медленно, шагом. Василь стоял, глядел ему вслед и какое-то-мгновение был уверен, что он вернется. Ему очень хотелось, чтоб он вернулся. Но скоро очертания лошади и человека растаяли в темноте.
Василь вздохнул.
10
Утром, задолго до восхода солнца, когда над речкой ещё стоит туман и на каждой травинке, на каждом листочке висят тяжелые капли серебряной росы, Василь Лазовенка выходил в поле. Шел по борозде между посевами, по луговым тропкам. И каждый раз у него была определенная цель: Много дней подряд ходил он на пары и до восхода солнца осматривал их: ползал на коленях по мокрой земле и подсчитывал появившиеся за ночь побеги сорняков на квадратном метре. Так определялись сроки обработки паров. Затем, почти таким же образом, он ежедневно осматривал всходы льна, потом огород, площадь которого в этом году ещё увеличилась.
В последние дни внимание его привлекал участок сахарной свеклы. Что ни день наведывался он туда, выкапывал первые, слабые ещё растеньица вместе с землей, приносил домой, внимательно следил за их ростом, записывал свои наблюдения в тетрадку. Но он никогда не делал этого вечером и даже редко когда выходил в такой поздний час в поле. В тот вечер его просто потянуло погулять, побыть одному, помечтать, и на болоте он очутился совершенно случайно.
Встреча и разговор с Лесковцом почему-то приятно взволновали его и ещё подняли и без того хорошее настроение. Между прочим, в колхозе все замечали (да и сам он это чувствовал), как постепенно менялся у него характер. Если год назад он был молчалив, хмур, кроме работы и хлопот по хозяйству, казалось, ничего не знал и знать не хотел, то теперь он стал разговорчивей, любил пошутить, особенно с жен-шинами и девчатами. Это дало женщинам основание для единодушного вывода:
– Ну, председателю нашему пришла пора жениться. Не проморгайте, девчата.
…Василь шел и вспоминал. Мысль о выращивании свеклы зародилась у него, ещё когда он в первый раз побывал у Гайной. Соседи-украинцы сажали свеклу уже много лет и получали недурные для северных районов урожаи. Свекла давала большие деньги, и хитрая Гайная любила при случае похвастаться ею. Из года в год увеличивал колхоз площадь под свеклу. Василь сразу же решил перенять опыт соседей. Члены правления встретили его предложение без особого энтузиазма. Правда, не возражали (они обычно не возражали, когда он предлагал что-нибудь новое), но отнеслись как-то равнодушно.
– Можно посеять на пробу… Но ведь у нас же не украинский чернозем, Василь Минович?
Это замечание бригадира Вячеры удивило Василя.
– В семи километрах от нас растут чудесные бураки… Так неужто у нас не та земля, не тот климат… не те же условия?
Он твердо решил доказать и Гайной, и своим членам правления, и всем, кто в этом сомневается, что свекла с успехом эудет расти и на земле «Воли».
Его замысел поддержали Ладынин и Шишков, особенно горячо агроном. Они вместе в течение зимы перечитали десятки книг по агротехнике, раза два наведались в украинский колхоз, поговорили там с лучшими мастерами по выращиванию свеклы.
С приближением весны стали думать о подборе людей. Василю хотелось поставить во главе этого дела человека, который мог бы загореться новой идеей так же, как он, который сумел бы заинтересовать людей, сделать выращивание сахарной свеклы своей профессией и если не в этом году, то через год, через два вырастить такой урожай, который принес бы славу всему колхозу. Такой человек был, он думал о нем с самого начала. Настя! Но после случая в поле со щитами для снегозадержания ему трудно было с ней разговаривать. Наконец, откинув гордость и все прочие соображения, он однажды вечером, в мартовскую завируху, дедом Морозом ввалился к ней в хату. И очень всполошил Настю и её родителей: они почему-то решили, что он пришел свататься. А потому, когда он заговорил совсем о другом – о каких-то там бураках, – его встретили довольно неприветливо. И слушать не захотели – ни Настя, ни её отец Иван Рагин, председатель ревизионной комиссии колхоза.
Настя, казалось, готова была накинуться на него с кулаками, лицо её то бледнело, то краснело от гнева и волнения.
– А рожь?
– Да такой урожай ржи, какой взялись вырастить вы, мы должны получить по всему колхозу.
– Должны! Кто это его вырастит? Ты сам, что ли? Не заговаривай мне зубы! Я тебя насквозь вижу. Ты давно мечтаешь все, что я сделала, отдать другим. Больно умен!..
«А что ты такое сделала, задавака чертова?» Василь еле удержался, чтоб не сказать этого вслух.
Её бестактность возмутила отца. Старик сердито стукнул ладонью по столу.
– Настя! Не забывай, с кем говоришь!
– Не забываю! С женихом своим, – со злобной иронией отчеканила она и, засмеявшись, быстро вышла из хаты.
Эта её дерзость смутила и Василя и старого Ивана. Ва-силя она к тому же ещё и обидела.
Выругав себя дураком за этот неуместный визит, он вежливо попрощался с Рагиным, но в душе у него бушевала буря. «Жених! Пускай на тебе черт женится, шалая!»
Шишков хохотал до слез, когда Василь в тот же вечер откровенно рассказал ему о своем разговоре с Настей.
– Знаешь что? Позволь мне с ней поговорить, – весело предложил он.
– Почему я должен позволять? Пожалуйста.
– А вдруг приревнуешь?
– Да ну, отвяжись хоть ты!
Дня через два Шишков провожал Настю из кино, и они долго простояли возле её дома, невзирая на холодный, сырой мартовский ветер. Назавтра все бабы у колодцев говорили об этой новости: «Агроном ухаживает за Настей»;.
А через неделю Шишков сказал Лазовенке, что он собирается съездить к знатным свекловодам на Киевщину.
– Хочу перенять лучший опыт.
– Чудесно! – обрадовался Василь. – Позвоню Макушенке и поеду вместе с тобой.
– Думаешь, мне очень интересно с тобой ехать? Василь от удивления вытаращил глаза.
– У меня есть более приятный напарник, – Шишков как будто смутился.
– Настя?!
– Чему ты так удивляешься? Даже в лице переменился. Я, брат, знаю, как её сагитировать.
– Начинаю верить, что ты её сагитируешь не только бураки выращивать… Что ж, желаю успеха.
Вернувшись из поездки, Настя сама подала заявление в правление о переводе её на свеклу.
Девчата взялись за работу с таким пылом, что председатель колхоза, глядя на них, только радовался и старался даже не очень вмешиваться, поручив агрономическое руководство Шишкову.
…Василь незаметно приблизился к участку свеклы. Торфяная тропка была мягкой, как ковровая дорожка, идти по ней было приятно, даже звук шагов не отвлекал. Легко дышалось, в воздухе веяло прохладой и влагой. Контраст между электрическими огнями деревни и этой болотной глухоманью с дикими ночными звуками действовал на него возбуждающе, наполнял сердце каким-то непонятным восторгом и радостью.
Он заметил впереди белую фигуру, которая двигалась ему навстречу. Он удивился: «Женщина! Какой черт её носит в такое время! И не боится. Смелые стали за войну. Бродит как привидение. На человека суеверного могла бы нагнать страху». У него на миг появилось ребячливое желание: лечь в борозду и напугать эту храбрую женщину. Но он отогнал эту мальчишескую мысль: «Может, у кого корова от стада отбилась».
Женщина не могла уже его не видеть, однако молча, не сбавляя шага, приближалась. Василь узнал Настю и ещё больше удивился.
– Настя?! Ты что тут делаешь?
– А ты?
– Я? Я гуляю.
– И я гуляю.
– Однако… Не совсем подходящее место выбрала ты для прогулки.
– Может, для кого и неподходящее, а для меня лучше нет! Тут моя слава посеяна.
Василь неприязненно подумал: «Ну, ты, кажется, свихнулась на славе».
Настя повернула и пошла рядом, по тропке, оттеснив его в борозду. Она поняла, что ему не очень понравились её слова, и с иронией заговорила о другом:
– Ты, бедный, днем не можешь выбрать время к нам зайти, так ночью ходишь. Ты приди днем и погляди, какое чудо мы растим.
– Приходил и видел.
– Ну и как? – Она обернулась, толкнув его плечом. – Как будто ничего должны быть бурачки.
– «Как будто!.. Ничего!..» – хмыкнув, перебила его Настя. – Я уже сколько раз бегала потихоньку поглядеть у гайновцев. Наши куда лучше!
– Однако… цыплят по осени считают.
– А я сейчас посчитаю. И не ошибусь! – уверенно за явила она и, помолчав, уже другим, кротким и ласковым голосом прибавила: – Вот завоюю славу себе и тебе.
– Мне слава не нужна, Настя.
– Не нужна? – Она искренне удивилась. – А что тебе нужно?
Василь на миг растерялся, но не потому, что не знал, что ей ответить, а просто раздумывал, как отвечать, всерьез или в шутку. Ответил шутя:
– Хорошая жена.
– Вот как! – удивленно протянула Настя. – И ты никак не найдешь её?
– Нет. Все не попадается.
Она промолчала, только чуть слышно вздохнула.
Василь чувствовал, что встреча с Настей и разговор этот начинают портить ему настроение, и рассердился на Настю: «Чего ей нужно?» Она шла медленно, сбивая рукой росу с высоких стеблей травы:
– Иди, пожалуйста, быстрее. Меня дома ужинать ждут.
Она сразу пошла очень скоро и, пройдя шагов пятьдесят, вдруг рассмеялась тихо и как-то странно, как может смеяться человек только над собой.
Они вышли к плотине, перешли мост. Из речки глядели звезды, и казалось, что они плескались в воде. В болотце заливались лягушки. А на краю деревни одиноко и печально бренчала балалайка. До самой деревни они больше не сказали друг другу ни слова. Возле школы Настя остановилась, повернулась к Василю.
– Так ты мне ничего и не сказал? Он пожал плечами.
– А что я должен был сказать?
– До сих пор гексахлоран не привезли. Сколько раз говорить надо? Опять волокиту устраиваете, – она говорила злобно, охрипшим голосом.
Он не видел сейчас её лица, но по тому, как она дышала – прерывисто, глубоко, чувствовал, что она сейчас не удержится и скажет что-нибудь оскорбительное. И не ошибся. Она вдруг наклонилась и сквозь стиснутые зубы прошептала:
– Бесстыжие твои глаза, Василь!.. Эх, ты!.. – И после недолгого молчания кинула: – Передай этому своему… «заместителю». Пусть не думает и не надеется. На черта он мне сдался!..
– Зачем же обижать человека?
– А пошли вы все к черту! – Она повернулась и почти бегом кинулась через дорогу в сад.
Василь впервые почувствовал, что ему жаль эту неукротимую девушку.








