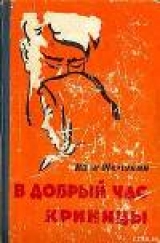
Текст книги "В добрый час"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
14
Это было обычным явлением: позовут к одному больному, а лечить приходится нескольких. А иногда и больных нет, но все равно не вырвешься из деревни дотемна. Потому что он приходил в хату не только как врач. Поговорить с людьми, рассказать о том, о другом, услышать об их жизни, мыслях и настроениях – все это было неотъемлемой частью его врачебной деятельности. Он знал, что иногда человеку помогает не только лекарство, но и доброе, теплое слово и даже справедливый упрек.
Ладынин только что кончил выслушивать больную девочку, когда на пороге появилась женщина.
– Я до вас, товарищ доктор. Старухе моей что-то неможется, на спину жалуется… Не зашли бы вы посмотреть? Будьте добреньки.
«Ну, начинается… Опять на весь день», – а на душе светло и радостно от сознания приносимой пользы и предчувствия встреч с новыми людьми.
У старухи – ничего серьезного, просто немного простудилась.
Но Ладынин не спешил уходить. Он сидел у окна, выписывал рецепт, тайком разглядывая хозяйку и хату. Хозяйка – молодая, крепкая женщина. А в хате не прибрано: пол грязный, вещи разбросаны. Доктор всю жизнь воевал за чистоту в крестьянских хатах, во дворах и на улицах.
– А у вас семья большая?
– Дочка. В третий класс ходит.
– Большая девочка. Пионерка? Так-так…
– А что, доктор?
– Да вот, смотрю, грязновато у вас.
Густая краска залила лицо женщины. Но ответила она дерзко и зло:
– А кому она нужна, эта чистота? Был муж, так светилось все вокруг, а теперь… – в глазах вдовы заблестели слезы. – Только в работе и находишь утешение, а работа моя – от темна до темна, на ферме…
Ладынин сразу смягчился; была у доктора одна слабость—хорошему работнику он многое мог простить. Голос у него стал отечески ласковый, спокойный.
– Да… вас как зовут? Давайте знакомиться, коли так…
– Клавдя Хацкевич.
– А по отчеству?
– Кузьмовна.
– Так вот, Клавдия Кузьминична, в отчаяние впадают только слабые. А вы, я думаю, не из числа слабых. Разве можно забывать главное – у вас дочка! Её нужно растить, учить, вывести в люди, сделать настоящим человеком. А вы грязь оправдываете, когда у вас в доме школьница… Да навести порядок в хате – это ведь прямая обязанность такой девочки. Я сегодня же зайду в школу и перед всем классом пристыжу вашу дочку.
– Ой, что вы, доктор! – Мать непритворно испугалась и начала просить – Не делайте этого. Ей-богу, больше не повторится, хоть нарочно зайдите.
– И зайду, я человек беспокойный.
Через минуту Ладынин перевел разговор на другую тему.
– Ну, а на ферме как дела?
Клавдя махнула полотенцем; она, не прекращая разговора, быстро прибирала в хате; постлала скатерть на стол, подмела щепки у печки, привела в порядок подушки на кровати.
– А, какая там ферма! Горе, да и только! Стыдно говорить. Одни бычки да телята, а коровы какие есть, так и те голодные. Хозяева все на войну кивают, все на войну. До каких же пор можно кивать? Вон соседи наши, украинский колхоз, они не кивают, там любо поглядеть… Побывала я у них – душа радуется. Семьдесят коров одна в одну, по две тысячи литров надоили. Да и Лазовенка вон налаживает уже хозяйство.
– А у вас совсем плохо?
– А вы зашли б да поглядели!
– Так от кого же это зависит? От вас же самих.
– От работников? Пожалуй, и от нас. Но я так думаю, что больше от начальников.
– От каких начальников?
– От разных. В том числе и от вас. Клавдя в свою очередь хитро прищурилась.
Такой неожиданный ответ удивил Ладынина, хотя он уже догадывался, куда она гнет. Прикинулся слегка обиженным, непонимающим.
– Непорядки на вашей ферме зависят от меня? Любопытно.
– Не только на ферме, во всем колхозе. Вы внашем сель совете парторг, так? А сколько раз вы были у нас на собраниях колхозников? А на ферму и вообще ни разу не заглянули.
– Я коров не лечу, – Ладынин подливал масла в огонь, ему нравилась эта решительная и смелая женщина.
– Вы людей лечите. Так уж лечите от всех болезней. И всех одинаково. А то у вас как получается: где густо, где пусто! Если «Воля» в передовиках – так им все, а мы от-стающие, так нам – дулю под нос. Там и сельсовет, там и школа, туда и помощь, туда и кино, а у нас что? А потом сравнивают, критикуют…
Ладынин согнал с лица улыбку. Такие рассуждения он слышал не раз, и чаще всего от Шаройки, и хотя признавал, что доля правды в этом есть, однако относился к этой теории «сынков» и «пасынков» настороженно, зная, что часто такой теорией прикрывают собственную бездеятельность.
А она, раскрасневшаяся, с засученными рукавами, оглядывала хату – где ещё что надо прибрать – и продолжала:
– У людей агитаторы работают, особенно теперь, перед выборами. А здесь толкового слова не услышишь. Назначили к нам агитатором Дяткова. Вы же сами и назначили… А что он делает – поинтересовались? Он и носа ни разу не показал.
– Нужен он тебе, этот агитатор! Ты сама хорошая агитаторша, – впервые в течение всего разговора отозвалась с печи старуха. – Человеку, может, некогда, а ты завела волынку…
– Не ваше дело, мама! Молчите, – решительно приказала Клавдя.
Ладынин недовольно подумал: «Однако суровая женщина».
Но распрощался он с добрым чувством. Клавдя заинтересовала его. Такие люди всегда запоминаются надолго… Ладынин отметил то главное, что понравилось ему в этой женщине: горячее её желание, чтоб их колхоз был не хуже других, чтоб они достигли того же, что соседи, а то и перегнали их. Она верила, что добиться этого можно.
«Надо только подхватить, разжечь, верно направить это желание. Следует почаще наведываться к ним».
Он шел по деревенской улице, а перед ним, каким-то чудом обогнав его, из хаты в хату летела весть, что доктор производит подворный обход, проверяет чистоту. Женщины торопливо прибирали в хатах, в сенях, на дворе.
Эта суета не укрылась от глаз Игната Андреевича, так как не впервые ему было это видеть. Он не собирался делать обход, но теперь нельзя было не зайти в полдесятка хат. Люди встречали его сердечно, приветливо. Дед Явмен Кацуба остановил на улице, сам пригласил к себе:
– Что ж это ты, товарищ секретарь, второй раз минуешь мою хату. Зайди, пожалуйста.
– Нездоровится кому-нибудь, дед?
– Да нет, в семье, слава богу, все здоровы. Просто так… Хочется мне с добрым человеком чарку выпить.
Сказал просто, от души. Ладынин усмехнулся: – Не премину. Только после работы. У меня порядок такой: кончил дело – гуляй смело.
– Мой порядок! – одобрил дед.
Ладынин избегал подобных угощений. Конечно, по большей части приглашают от чистого сердца. Однако находятся и такие (особенно здесь, в Лядцах), что делают это с задней мыслью – выманить справку, за которой можно было бы спрятаться от колхозной работы или получить скидку по налогам. Бывали уже такие случаи в его недолгой послевоенной практике. А потому Ладынин чрезвычайно осторожно принимал приглашения. Очень уж неудобно, обидно, оскорбительно становится, когда начинаешь понимать, что человек зазвал тебя с корыстной целью. Доктор даже от приглашений Ша-ройки отказывался. Хитрый мужик! Такому положи палец в рот – вмиг откусит. Вот и сейчас он неожиданно, медленной хозяйской походкой вышел из переулка. Увидел – и не пошел навстречу, а подождал, пока подойдет Ладынин. Поздоровался с небрежностью занятого человека. Но у Ладынина возникло подозрение, что Шаройка встретил его не совсем случайно.
– Лечите? – спросил он, чтоб с чего-нибудь начать раз говор. В руках у него – уже кисет с самосадом, и он, не ожидая ответа, сразу же предлагает: – Закуривайте.
Ладынин оторвал порядочный клочок газеты и, сворачивая цигарку, ответил:
– Лечу, – и, вспомнив слоза Клавди, добавил – Сразу от всех болезней.
– Гм-гм… интересно. И давно у нас?
– Часов с одиннадцати.
Шаройка отогнул полу ватника, вытащил старинные карманные часы-луковицу, щелкнул крышкой.
– Что ж, пора обедать. Может, зайдем ко мне?.
– Нет, спасибо. Я хотел заглянуть на вашу ферму, полюбопытствовать, как вы решение сельсовета выполнили.
– А-а, – многозначительно протянул Шаройка. – Пожалуйста. Кстати, мы стоим возле хаты заведующего фермой. Минуточку, я позову…
Он зашел во двор, хотя можно было позвать с улицы.
Ладынин усмехнулся:
«Детская хитрость… Договорятся врать в одно слово».
Они не спешили выходить. Ладынину стало как-то неловко стоять на улице и ждать, и он, сдерживая нарастающее раздражение, пошел по направлению к ферме.
«Надо этого уважаемого хозяина пригласить на открытое собрание и так продраить с песочком, чтобы он понял, что такое настоящая критика». Ладынин знал, что Шаройка всегда соглашается с любой критикой, но потом все равно делает по-своему.
Его догнал заведующий фермой Корней Лесковец (в Ляд-цах почти половина деревни – Лесковцы). Плечистый, хоро-шо сложенный мужчина, с крупными, правильными, даже красивыми, но какими-то неподвижными чертами лица, с курчавыми волосами, выбивавшимися из-под шапки и закрывавшими широкий лоб. Одет он был по-летнему: картуз, легкий, узковатый в плечах плащ-дождевик нараспашку, под ним – неподпоясанная гимнастерка.
– А где председатель? – спросил Ладынин.
– Там, – ответил Корней, неопределенно махнув рукой назад.
– Где там? Сюда прийти он собирался?
– Не знаю.
Это как будто простодушное «не знаю» взорвало Ладынина. Он редко выходил из себя, но тут не выдержал. Так посмотрел и так понизил голос почти до шепота, что заведующего фермой сразу точно подменили: застывшие черты лица мгновенно обрели живую подвижность.
– Идите и скажите, что я не намерен играть в кошки-мышки… А вам в другой раз советую не врать… Черт знает что такое!
Они догнали его очень скоро. Шаройка даже раскраснелся и запыхался. Теперь из-под прокуренных усов расплывалась, собирала вокруг глаз мелкие морщинки льстивая улыбка.
– Простите, товарищ Ладынин, бабы задержали. Одной – то, другой – другое. Минуты покоя нет. От темна до темна как белка в колесе вертишься…
Ладынин в ответ спросил:
– Вы в машинах разбираетесь, Шаройка?
– В машинах? – удивился тот и насторожился. – На заводе не работал, но в своих машинах – в молотилке, в сеялке, да и в комбайне малость, даже и в тракторе… Без этого теперь нельзя…
– Так вот, есть такой термин «холостой ход».
– А-а, – поняв, протянул Шаройка. – Есть, есть такой ход и у людей. Есть… Что ж, старость… Я давно уже говорю: отстал, состарился, жизнь обгоняет. Новые люди выросли.
Они в это время проходили мимо землянок. Будто нарочно, чтоб больше бросалось в глаза, половина оставшихся в деревне землянок находилась в одном месте: четыре рядышком по одну сторону улицы, а пятая – напротив, по другую; она жалостно смотрела на товарок своим единственным глазом – оконцем, чуть-чуть возвышавшимся над землей. А рядом стояли хорошие новые хаты – казалось, светлее становилось от желтых смолистых бревен, от широких окон.
У Ладынина каждый раз сжималось сердце, когда он проходил мимо этих землянок.
Не часто доводилось ему бывать в Лядцах за три месяца работы (хватало дел по оборудованию врачебного пункта, по налаживанию амбулатории и прочего), но и за этот короткий срок он уже не однажды наведался в каждую из двенадцати землянок, хорошо знал людей, которые в них жили. И теперь, проходя мимо, не сдержался:
– Скажите, Шаройка, у вас спокойно на сердце, когда вы здесь проходите?
– За многое ещё делается больно, товарищ Ладынин. Но всего сразу…
– В первую очередь должно быть больно за людей, – сердито перебил Ладынин. – А у вас этого не видно. Где бревна, которые вы обещали на сельсовете?
– Дорога…
– Что дорога?
– Ждем санной дороги…
– А если её не будет ещё месяц-два?..
– Ну, что вы!.. Вот-вот установится…
– Дорога, дорога… Смогли же вы за один день перевезти лес, для Лесковца… Почему же это нельзя сделать для других?
– Сделаем.
– А вы знаете, как у нас называют людей, которые не выполняют своих обещаний?
– Слышал.
В хлевах на ферме они застали все те же неполадки, о которых шла речь ещё десять дней назад на заседании сельсовета. Не, была отремонтирована даже крыша в телятнике, не заменены гнилые стропила, которые под тяжестью снега могли обвалиться. Ладынин помнил, что именно об этой крыше с возмущением говорил председатель сельсовета. Теперь, увидев её, Ладынин возмутился и сам:
– А это что, тоже дорога помешала?
– Эта крыша ещё десять лет простоит и черт её не возьмет! – Шаройка в первый раз ответил со злостью.
Ладынин удивленно взглянул на него. Но его предупредила Клавдя. Она, как из-под земли, неожиданно выросла перед ними.
– Я сегодня обвалю её, чтоб глаза не мозолила. В телятник страшно войти. Того и гляди придавит. Дохозяйнича-лись. – Она с такой необыкновенной иронией пропела последнее слово, что Шаройка даже побледнел.
Ладынин улыбнулся: «Молодчина! Вот она какая!» И, вспомнив её упрек, сказал Шаройке:
– Послушайте, товарищ Шаройка, давайте созовем сегодня общее собрание. Поговорим с людьми о выборах, да и о хозяйственных делах словечком перекинемся.
Председатель колхоза согласился с молчаливым, но явным неудовольствием.
15
Собрание закончилось далеко за полночь.
Но, несмотря на поздний час, колхозники не спешили расходиться; окружили стол и долго беседовали, засыпали Ладынина вопросами. Чувствовался жадный интерес ко всему: к международной политике, к выборам, к постановлению о ликвидации нарушений устава, к перспективному плану колхоза «Воля», о котором рассказывал Ладынин.
Игнат Андреевич, довольный, отвечал сразу всем. Он тоже не спешил уходить, хотя болела голова, гудела от усталости, от табачного дыма.
В стороне стоял Шаройка. Обжигая губы и пальцы об окурок, нервно и жадно затягивался. На висках, на шее синими шнурами вздувались вены. Встопорщились седые космы волос. Бригадир Бирила о чем-то спрашивал его, – он почти не слышал и не понимал.
В первый раз ему так досталось. Не представлял он, что его могут так разнести. Он знал, что о нем говорят за глаза, но чтоб осмелились все это высказать ему прямо в лицо… И кто? Все молчальники заговорили, те, кто никогда раньше и рта не раскрывали. «Сила», – с завистью думал он, глядя на Ладынина.
Сначала все шло как полагается. На сход собирались добрых три часа; назначили на семь, а начали в половине одиннадцатого.
Шаройка сидел рядом с Ладыниным и, вновь обретя свою независимость, степенность, без конца, хотя и сдержанно, говорил, умело выставляя свой хозяйственный опыт. Жаловался на людей:
– Вот, пожалуйста, товарищ Ладынин. И так каждый раз. Сколько крови испортишь, покуда сход соберешь. Пассивность, – и в душе, радовался, заметив, что Ладынин нерв ничает, злится.
И началось собрание, как всегда. Долго и туманно говорил о рабочей дисциплине сам Шаройка. Затем выступали штатные ораторы: бригадир, счетовод, заведующий фермой. К ним присоединился ещё один оратор – Максим Лесковец, который говорил добрых двадцать минут, а конкретного ничего не сказал. А больше, как ни предлагал председатель собрания, никто ни слова. Тогда, как-то совсем незаметно, руководить собранием стал сам Ладынин.
– Что ж, товарищи, так никому и нечего больше сказать? А вот интересно, товарищ Шаройка, зоотехник вернул вам корову?
Люди зашевелились, шум в задних рядах стих.
– Хоть это и не имеет отношения к дисциплине, но я скажу, – поднялся Шаройка.
Ладынин прервал его:
– Нет, это имеет непосредственное отношение! Шаройка сказал, что зоотехник согласился заплатить за корову деньгами.
– Знаем мы это «заплатить»! Пускай вернет корову! Нам ферма нужна! – откликнулись сразу несколько женщин. И под шумок, из задних рядов:
– А председатель колхозную корову думает вернуть? Шаройка не услышал этого – начал толковать о чем-то совсем другом. Ладынин снова прервал его и повторил вопрос:
– Народ спрашивает, товарищ Шаройка, – а когда вы вернете корову колхозу?
Шаройка уставился на него тяжелым взглядом.
– Народ?
– Да, народ.
– Какую корову?
– Это вам лучше знать!
– Я не брал никакой коровы.
– А Лысая? – опять крикнули откуда-то из-за печки.
– Мне её дали.
– Кто?
– Райзо.
– Из колхозного стада, которое мы пригнали с востока? У меня и сейчас ещё ноги не зажили, – со злостью сказала Клавдя Хацкевич, сидевшая в первом ряду.
Ладынин с одобрением кивнул ей головой.
С Клавди и началось. Она выступила первая, резала правду-матку так, что колхозники не раз прерывали её аплодисментами и криками.
Все припомнили, все взвесили и подсчитали. Не забыли и последнего случая – поросенка и гусей, которых Шаройка взял для угощения Лесковца. Максим сгорал от стыда. Попробовал выступить – встретили смехом.
– Гусь!
Он разозлился, хотел было перекричать шум и смех. Но Ладынин сурово блеснул из-под косматых бровей глазами: – Садись и молчи!
Кое-кто из тех, у кого были свои счеты с Шаройкой, наговорил лишнего, неосновательного. В этих случаях Шаройка краснел так, что казалось, из его плотных щек вот-вот брызнет кровь, и как-то протяжно-равнодушно поддакивал:
– Та-ак, та-ак…
Выступила Маша. Она привела множество новых фактов нарушения устава и делала это спокойно, трезво, убедительно. Потребовала, чтобы ещё раз были проверены размеры приусадебных участков. Её слушали без единого выкрика, без смеха, без вопросов с мест. Она успокоила людей и даже отвела от Шаройки кое-какие несправедливые обвинения.
Ладынин высоко оценил её умение говорить так просто и доходчиво (не все этим владеют), ему очень понравилось и внимание, с каким бородачи слушали её, девушку.
Сам он говорил мало, но зато предложил весьма подробное постановление, которое написал, слушая выступающих. Не по нутру было это конкретное постановление Шаройке: крепко било оно по его собственному хозяйству; жестокий счет предъявляло ему собрание.
Он не оправдывался. Только попросил, чтоб его освободили от обязанностей председателя.
– Не оправдал… отстаю… постарел… Что ж, – растерянно разводил он руками.
Ладынин побаивался, что собрание тут же удовлетворит его просьбу. Он знал о разговоре Макушенки с Лесковцом, но о согласии Максима ему ничего не было известно, так как сам он с ним поговорить не успел. Выборы могли пройти ста хийно. В таких случаях нередко бывают ошибки. Но ему не пришлось сдерживать собрание.
– Не торопись! – сказал Шаройке старик откуда-то из середины комнаты. – Скоро будут перевыборы… Тогда и поговорим об этом… А сегодня поздно. Пора спать…
– А пока верни в колхоз все, что в постановлении записано, – весело выкрикнула Клавдя.
– Вы ночевать будете или коня запрячь? – предупредительно спросил Шаройка у Ладынина, когда люди наконец начали расходиться и в комнате осталось только несколько человек.
– Спасибо. Я пешком пойду.
– Поздновато. Темно.
– Вы переночевали б, Игнат Андреевич, – пригласила Маша.
– Нет, нет… Голова разболелась, прямо трещит, – он сжал пальцами виски, поморщился. – Не пройдусь – не усну.
– Мы проводим вас до сосняка, – предложил Максим. – Пойдешь, Маша?
«Остаться с ним один на один? И так неожиданно, не собравшись с мыслями. Но что подумает Игнат Андреевич, если я откажусь?»
По деревне шли молча.
Студеный северный ветер больно бил в лицо редкими дробинками града. Ноги скользили на нем, как на рассыпанном зерне, и трещал он под сапогами тоже, как зерно. Один за другим гасли в окнах огоньки: люди спешили лечь, недолго оставалось до рассвета. В одном из окон уже весело плясали, расписывая стекла пунцовыми узорами, языки пламени – топилась печь.
– Ранняя хозяйка, – заметил Максим и снова предложил, хотя они были уже в конце деревни – Переночевали бы…
Ладынин с шумом вдохнул воздух.
– Хорошо. Сразу проветрило, – и тут же, как только миновали последнюю хату, спросил – Максим Антонович, ты хоть ошибки-то свои понимаешь?
– Ошибки? – Максим удивился, что неприятное это слово Ладынин поставил во множественном числе. – Нет, не понимаю я своей ошибки, – он подчеркнул единственное число. – Вообще это какая-то ерунда. Откуда я мог знать, чей это поросенок, или гуси, или ещё, там черт знает что… Меня пригласили, как обычно приглашают… Сосед, близкий человек, председатель колхоза… Существуют же нормы приличия, товарищ Ладынин… Не мог же я прийти и спросить: откуда у вас этот поросенок, не с колхозной ли фермы? Дико, – он засмеялся искусственным, принужденным смехом.
– Да я у тебя не об этом спрашиваю. Я о сегодняшних твоих ошибках…
– А что сегодня?
– Ты не знаешь?.. Вот это и хуже всего. А то сегодня, что ты отнесся к людям без должного уважения. Если бы ты уважал народ, то не мог бы ты выступить с такой речью. Согласись – абсолютная пустота. Двадцать минут – и ни одной дельной мысли, ни одного живого слова. Такая абстрактная, беспредметная агитация нам не нужна… Пользы от неё не будет.
– Ну, знаете… – с ноткой обиды в голосе попробовал запротестовать Максим.
Но Ладынин не дал ему договорить.
– А твой окрик? Это уж совсем… Цыкать на собрание?.. Ну, знаешь… За такие дела бить надо…
– Что ж, привлекайте к партийной ответственности. – Максим чувствовал, как в нем закипает злость, и старался совладать с нею.
– Не горячись, – спокойно сказал Ладынин. – Я просто на правах старшего предупреждаю тебя. И если ты понимаешь это иначе – совершаешь ещё одну ошибку. – И сразу же, не дав Максиму ответить что-нибудь, обратился к Маше и не то в шутку, не то серьезно спросил – А ты, Марья Павловна, с чего это вздумала брать Шаройку под свою защиту?
Маша обрадовалась этому упреку: пока Ладынин отчитывал Максима, она чувствовала себя очень неловко. Прикрыв шерстяной перчаткой улыбку, хотя в темноте её и так никто бы не заметил, ответила:
– Да ведь перегнули… Я не люблю, когда начинают говорить неправду…
– А мне думается, что мы ещё мало его критиковали… – Ничего себе мало, – засмеялась Маша.
Максим шел молча.
Миновали лес. Взошли на пригорок, с которого днем как на ладони видна вся Добродеевка. Теперь же оттуда, из ночной темноты, грустно мигал одинокий огонек.
– Должно быть, для меня зажгли маяк. Ждут… Ну, будьте здоровы… Спасибо, товарищи, – сердечно попрощался Ладынин, крепко пожав им руки.
На обратном пути долго молчали. Максим сопел, как будто тащил тяжесть. У него, по-видимому, был насморк. Это смешило Машу.
Не таясь, она сбоку вглядывалась в его лицо, хотя в темноте ничего нельзя было увидеть. С сердца свалился камень, который давил её со дня его приезда. Не было и смущения (а она боялась, что оно появится при встрече). Все вдруг стало на свое место, и ей захотелось рассмеяться громко, на все ночное поле. Но она сдержала себя и тоном близкого человека пошутила:
– Что ты сопишь, как кузнечный мех? Он ответил не сразу.
– Засопишь, – и после долгой паузы – от такой встречи…
– От какой?
– От такой… Рвался, на крыльях летел, а тут… вместо пышек – шишки.
– А ты пышек сразу захотел? Их надо заслужить.
– А я что, не заслужил? – крикнул он и ударил, ладонью по груди, по шинели, под которой звякнули ордена. – Я кровью своей…
– За это тебе почет и любовь.
– От кого? – От народа.
– От народа!.. Это я и без тебя знаю… И ты мне морали не читай… На себя сначала погляди. Я тобой шесть лет жил… А ты? Как ты меня встретила?.. За две недели на глаза не показалась. А с другим по сосняку шатаешься…
Маша остолбенела – остановилась посреди дороги. Он сделал ещё два шага, пока заметил, что она отстала, и тоже остановился, повернулся к ней.
Крик обиды, боли, отчаяния, готовый, казалось, уже вырваться, горячим соленым комком застрял в горле. Маша задохнулась. Она шагнула к нему, почти шатаясь, протянула руку и схватилась за пуговицу шинели:
– Ты-ы…
Хотелось крикнуть в ответ что-нибудь такое же оскорбительное, жестокое, но комок в горле рос, становился все больше.
– Ты-ы…
Максим понял, что со злости наговорил лишнего.
– Подожди, Маша…
И вдруг холодной волной все отхлынуло назад, и она совсем спокойно сказала:
– А я когда ждала тебя, думала – ты такой… необыкновенный… Как бы это сказать?.. Ну, умный… А ты… Эх, ты! – И, отступая, нечаянно дернула за пуговицу; она легко оторвалась, звякнула о ледок дороги.
Маша быстро пошла вперед.
– Маша!..
Она пошла ещё быстрее.
– Маша! Будешь каяться! Она побежала.
Остановилась только у себя на крыльце. Прижалась лбом к двери; захолодевший на морозе острый пробой врезался в висок. Она не почувствовала этого. Впервые за много лет выплакала все, что накипело на сердце.








