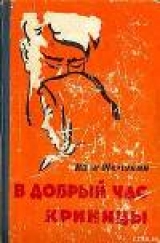
Текст книги "В добрый час"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
6
Солнце только что показалось из-за сосняка. Большой пунцовый шар стремительно катился навстречу одинокой утренней тучке, которая, как бы испугавшись, что опоздала, быстро падала вниз, за горизонт, и таяла там в пламени восхода. Пламя это, проглотив тучку, постепенно бледнело.
Заблестела роса; под лучами солнца озимь и молодая трава стали алюминиево-белыми, жаркими и сухими на взгляд, только там и сям пролегли по ним ярко-зеленые мокрые дорожки – следы человека или зверя. Стадо было ещё на выгоне, коровы жадно хватали из-под изгороди траву, недовольно мычали, предприимчивые телки забирались в посевы. Кричали пастухи, щелкали кнутами. Птицы радостно приветствовали новый день: звенели в вышине жаворонки, суетились у скворечен в садах и над крышами скворцы и неутомимо летали – то высоко в небе, то над самой землей – быстрые ласточки.
Из труб подымались к утреннему голубому небу почти прозрачные столбики дыма: хозяйки топили печи наскоро, сухим хворостом.
В Добродеевке в этот утренний час на колхозном дворе уже толпился народ; колхозники, получив от бригадиров наряды, группами и поодиночке направлялись в поле. Но в Лядцах на улице было ещё пусто, только заспанные девчата бежали с ведрами к колодцам.
Один только человек работал – Шаройка, Правда, не в одиночку, а вместе со всей семьей – сажали картошку за своей хатой в молодом саду, в котором вишни и там и сям разбросанные яблоньки уже стояли в белой пене густого цветения. Сам Амелька пахал, старая Ганна проворно раскидывала свежий, видно только что вывезенный из хлева, навоз; Полина, заспанная, злая, небрежно кидала в борозду картошку и то и дело вытирала о цветистый фартук испачканные землей руки. Шаройка, проходя мимо, недовольно косился на дочь и, наконец, не выдержал, просипел:
– Ты ровней кидать можешь? Интеллигенция!
Конь шел довольно быстро, но Шаройка все время шепотом, точно украдкой, сердито подгонял его, дергал вожжи:
– Но-о, ты! Чтоб тебя волки разорвали!!
Послав колхозному коню такое «приятное» пожелание, он озирался по сторонам. И вдруг, оглянувшись, он даже вздрогнул и выпустил ручки плуга: в трех шагах от него, опершись на плетень (мимо его усадьбы проходил к речке переулочек, который Шаройка всегда проклинал), стояла Сынклета Лукинична.
– Доброго утра, сосед.
– А-а, – протянул он вместо ответа на её слова и схватил вожжи. – Тпрру-у! Чтоб тебя… Доброго здоровьечка, Лукинична, доброго… А утро—душа поет…
– Оно так… Особливо за работой. Шаройка завертелся, как пойманный вор.
– Да тут, видишь ли, пара соточек… Дай, думаю, покуда на колхозную работу… Потому днем, понимаешь, дохнуть некогда… Ведь лопатой – сколько спину гнуть, а так – десять минут, и мой руки…
Сынклета Лукинична смотрела на него сурово, в упор, и он прятал глаза – глядел под ноги, чистил кнутом плуг.
– Что ты мне, Амелька, зубы заговариваешь! Добрых два часа уже работаешь и ещё вон на сколько хватит… Пара соточек!..
– Два часа?! – Шаройка, до этого говоривший чуть не шепотом, закричал удивленно, с возмущением – Это тебе, Лукинична, не иначе, как злые языки нашептали, потому сама ты такой несправедливости сказать не могла. Да два часа назад ещё темно было… Темно, брат, темно…
– А ты от темна и пашешь, – сурово ответила женщина. Шаройка оглянулся на жену и дочь, стоявших поодаль возле мешка с картошкой, и махнул рукой.
– Э-э, от темна, так от темна… Людей не переспоришь… И я не краду… Нет. На своем работаю. А на лошадь я получил разрешение от Максима Антоновича. – И неожиданно совсем другим голосом – ласковым, дружеским – спросил: – Спит ещё хозяин?
– Спит.
Он поднял глаза на Сынклету Лукиничну с надеждой, что напоминание о сыне смягчит её душу. Но то, что он увидел в её глазах, ледяной волной ударило его по сердцу и породило желание спрятаться, провалиться сквозь землю. Надвигалась гроза… Минута – и слова, точно град, полетели ему прямо в лицо.
– Слушай, Амелька, если ты ещё хоть раз заманишь его к себе выпивать, так и знай – десятому закажешь… Я найду на тебя управу, бессовестный ты человек. Я до райкома дойду, а словам матери везде поверят. Ты за поллитровку хочешь купить разрешение целую ночь на колхозной лошади обрабатывать свой незаконно захваченный гектар? Ты хочешь угощениями привадить его к своей дочке… Ох и поганый же ты человек!
Пока он собирался с мыслями и отваживался поднять глаза, её уже у плетня не было. Сынклета, Лукинична шла переулком к речке, выпрямившись, гордо подняв голову.
Брошенный конь обгрызал молодую яблоню. Увидев это, Шаройка изо всей силы огрел его кнутом, затем отчаянно выругал ни в чем не повинных жену и дочку. Полина заплакала и, швырнув корзинку и сорвав передник, убежала в дом. Участок в саду остался недосеянным.
7
За утро Маша обошла почти все поля бригады и даже, как обычно, заглянула на участок «Воли» – чтоб сравнить. Ранние посевы дружно набирали силу, кустились, густели и были немногим хуже, чем у соседей. Более поздние дали всходы редкие, хилые. Земля просила дождя.
Маша с болью в душе думала об участках первой и третьей бригад, где сев яровых начали только вчера и будут сеять невесть ещё сколько дней.
Помочь бы им. Но чем? И так из её бригады по приказу Лесковца лучших лошадей перебросили в бригаду Шаройки.
«Нет, надо поговорить с людьми, чтоб за два дня кончить картошку и все-таки им помочь», – решила она и направилась в ту сторону, где были видны колхозники, лошади и повозки. Почти вся её бригада работала на посадке картофеля. Мужчины развозили навоз, сложенный в поле ещё зимой, разбрасывали калийную соль, подвозили картошку, парни помоложе ходили за плугами, а женщины и девчата сажали. Работали дружно, весело – с гомоном и шутками. Её встретили приветливо; кто утром не видел – здоровался, молодежь опять-таки подшучивала:
– Маша, ты нас должна премировать!
– Медалью из картошки, – засмеялась Маня Лобан, низенькая курносая девушка, по прозванию «Коза».
– Сама ты картошка, Коза. Вон и нос на солнце испекся! – подсек её Гришка Грошик, лучший в деревне балалаечник и большой насмешник.
Девушка стыдливо прикрыла косынкой нос. Подошел пожилой колхозник Левон Гайный.
– Ты, Маша, им, чертям, по три трудодня скинь. Они только вокруг девок увиваются.
– А тебе завидно, а? – закричали парни в один голос.
– Он сам с Ганны глаз не сводит.
– Ему женка каждый вечер клок волос вырывает. Вон как облысел.
– Мы ещё ей откроем твои грехи. Погоди.
Левон испуганно оглянулся – далеко ли женка? Хлопцы захохотали.
– Ну и языки, чтоб вам… Маша прошла по участку.
– Навозу мало, мужички.
– Мария Павловна, что ты! Никогда столько не клали.
– Так ведь никогда не боролись за такой урожай… Ой, вижу, подведете вы… А мы слово дали…
– Ни разу не подводили, Маша, и не подведем, можешь быть уверена. Да что мы – сами себе враги, что ли?
– Ого, если б нам вырастить такой урожай! Какой трудодень был бы!
– Вырастим, только давайте больше навоза, особенно там, в низине, – она показала рукой. – Вывезите туда всю навозную жижу из ямы, что у конюшни.
– Не хватает тягла, товарищ бригадир.
По одному подходили мужчины, окружили её.
– А я хотела поговорить с вами насчет того, чтоб завтра закончить.
– Всю картошку? – дед Явмен Лесковец покачал головой. – Не по плечу задачу задаешь, дочка.
– Дедушка, сами же вы говорили, что большевики все могут.
– Говорил и теперь скажу… И оно, конечно, можно, – старик окинул взглядом мужчин, как бы ища поддержки. – Можно бы… Да вот кони… Пристают… Потому ведь это не машины. Трактор и тот вон стоит.
– Надо кормить в борозде, товарищи. Обязательно, – не посоветовала, а потребовала Маша. – Буду проверять. А то вчера жена Устина, вместо того чтоб понести траву лошадям, отнесла своей корове.
– У Лазовенки жито косят на корм. Специально для того сеяли. Зеленый конвейер, – заметил Петя, Машин брат.
– Да, братки, жито – по колено, раннее. Я увидел, так у меня аж сердце зашлось: такое богатство, а они косят.
– Зато у них кони по гектару вспахивают и коровы по ведру молока дают.
– Однако, чтоб косить такое добро… Жизнь прожил, а не слыхал.
– А что ты слыхал за свою жизнь, дядька Устин? – блеснув глазами, спросил Гришка Грошик.
Устин, маленький человечек с бородавкой на щеке, в зимней шапке, почуял в этом вопросе каверзу и погрозил парню кнутом.
– Так закончим завтра, мужики? – весело спросила Маша.
Несколько человек из тех, что постарше, степенно переглянулись, как бы взглядами решая вопрос. Молодежь снова отвечала шутками:
– Будем стараться, товарищ командир! – Ляжем костьми, а сделаем…
– Девчата подведут. Надо их подтянуть, Маша!
– Очей с нас не сводят…
– С тебя? Ох и красавец! То-то, я гляжу, все они по тебе сохнут…
Андрей Акулич, рыжеватый парень, с густо усыпанным веснушками лицом, смутился и спрятался за спину деда Явмена.
Маша знала, что это не просто шуточки, пустое зубоскальство, это – славный, молодой, задорный ответ на её вопрос. Она была уверена, что эти любители шуток и насмешек в работе никогда не подведут. Такие, как её брат Петя, как этот смешной Андрей, ночь проведут в поле, а сделают что пообещали. Оттого настроение у нее стало как это солнечное утро – светлое, ясное. Она с наслаждением вдыхала влажный запах вспаханной земли. Ветер, сильный и теплый, рвал у нее с головы косынку. Маша придерживала её рукой, жмурилась от солнца и весело смеялась вместе со всеми.
Возле женщин, которые, воспользовавшись перерывом в работе, тоже собрались в кучку, она задержалась ненадолго. Ей не понравилось, что они с излишним интересом; рассматривали её. Она в душе ругала и Алесю И себя за то, что та сагитировала её, а она, дура, согласилась в рабочий день надеть платье, которое до тех пор носила только в праздники. Сколько теперь среди женщин будет пересудов и догадок! На целый день хватит разговоров. Но потом она решила нарочно каждый день одеваться вот так, по-праздничному. В таком виде она сама себе нравилась.
Отсюда Маша направилась к трактору. Он должен был вспахать площадь под гречиху и уже который день пахал одним загоном участки двух бригад. Но сегодня трактор с самого утра стоял. Маша заметила, что не слышно его ровного гудения, ещё когда только проснулась и вышла из дому. И это беспокоило её все утро, она рвалась поскорей пойти на поле и узнать, в чем дело. Вспахать здесь надо было не откладывая, так как на этом участке не была поднята зябь.
Трактор стоял в низине у болотца, окруженного ольховыми кустами. Немного дальше, на взгорке, виднелись бочки с водой и керосином – место заправки.
Маша подошла незамеченная.
Под моторной частью лежал – видны были одни ноги в синих спортивных тапочках – бригадир тракторной бригады Михаила Примак. Он стучал ключом, свистел и время от времени нараспев ругался довольно-таки сочными и крепкими словами. Маша чуть-чуть не расхохоталась. Тракторист Адам Мигай, крепкий, кряжистый и молчаливый, что-то старательно заклепывал с другой стороны машины. Увидев его, Маша вспомнила забавный случай. Как-то, ещё в прошлом году, Адам встретил её в Добродеевке и ни с того ни с сего, без каких бы то ни было предварительных разговоров, вдруг предложил: «Выходи за меня замуж, Маша». Сказал и сам смутился.
Обернувшись и увидев девушку, тракторист подошел и молча стал толкать ногой бригадира. – Что там у тебя?
– Вылазь! – крикнул Мигай.
Примак проворно вылез и, нисколько не смутившись, поздоровался:
– А-а, коллега по должности… Доброго утра.
– Добрый день.
– Ох, день-денек! – Он поглядел на солнце и начал вытирать паклей руки.
– Стоим?
– Стоим. Но не говори таким замогильным тоном. Стоим, но не падаем духом. Правильно, Адам? Мы тебя, Маша, не подведем. И ты на нашего гвардейца не обижайся. – Примак кивнул на машину. – Это герой. Дай бог нам с тобой так послужить трудовому народу, как послужил он. Я на нем пахал ещё в тридцать четвертом. А погляди, сколько он наворочал за весну!
Ветер заносил назад пустой рукав его синего замасленного пиджачка. Примак поймал рукав и засунул его в карман.
– А вообще, Маша, ерунда получается. В «Воле» «Натику» уже нечего делать – масштабы малы, а тут, вот – пожалуйста… Я бригадир, командир трех машин… А какой я к черту командир? Позвонил Крыловичу, чтоб перебросить «НАТИ» в «Партизан» – ничего подобного… Какой-то дурацкий принцип. Ни дьявола не понимаю. То он видеть не; мог Лазовенку, то вдруг стал его лучшим другом и защитником. Хотел сделать это без него, – Лазовенку какая-то муха укусила. Выходила бы ты, Маша, замуж, пусть бы уж они помирились скоре Й…
Адам, который стоял, опершись на колесо, и внимательно слушал бригадира, при этих словах моментально исчез за трактором.
Маша вспыхнула. Никогда ещё и никто стычки между Василем и Максимом не объяснял их отношением к ней. Она разозлилась:
– Не болтай глупостей, Михаила. Скажи лучше, когда трактор пойдет!.
– Трактор пойдет через час. Не больше. Жаль, что ты сегодня такая праздничная, а то помогла бы нам: поднять одну штуку.
– Давай.
– Нет, нет. Не позволю, – он отстранил её рукой, потом взял ключ и начал отвинчивать гайку. – А знаешь, Лазовенка – крылатый человек. Умница! Вот хотя бы его мечта о таком колхозе, в котором работал бы не один какой-нибудь искалеченный «ХТЗ», а целая тракторная бригада, а то и две. Мне бы в такой колхоз! Вот где бы я дал разворот, ей-богу, дал бы! Адам, дали бы?
– Угу! – коротко отозвался тракторист.
– А то одна бригада на два сельсовета! Дай иному колхозу такой корабль, как в «Воле», а ему там и делать нечего. – Он взглянул на Машу и вдруг рассмеялся: – Пригласи меня в сваты, мигом организую…
Она махнула на него косынкой:
– С тобой говорить – пуд соли съесть надо, А я ещё не завтракала.
– Вот это зря… Подгони там Лесковца, чтоб скорей за горючим послал. С сегодняшнего дня будем работать по двадцать часов в сутки.
Председателя колхоза она встретила у его двора. Максим стоял возле землянки и смотрел на свой недостроенный дом. На чистых, тесаных бревнах стен янтарем светились редкие сучки, залитые смолой. Над белой, словно только что тщательно вымытой гонтовой крышей попискивал, поворачиваясь под дуновением ветра, жестяной флюгерок. Слепо глядели в солнечный день пустые проемы окон. Оттого, что два из окон, выходивших на улицу, уже готовы были принять рамы, а в третьем сиротливо торчал только один подоконник, да и тот не совсем ещё подогнанный, как-то особенно чувствовалась несообразность того, что в доме не слышно было стука топоров, голосов рабочих. Кругом в беспорядке валялись бревна, доски, шелевка. Сильно пахло сосной.
Максим стоял, засунув руки в карманы, жмурясь от солнца, и сосал трубку, которая, должно быть, давно уже погасла.
Маша понимала его чувства, и ей стало его жаль.
«Надо ему сказать, что напрасно он разогнал рабочих. Никто ему за дом дурного слова не сказал бы… А вот что к Шаройке наведывается… А в колхозе до поздней осени работы хватит. Так неужто же председателю колхоза из-за этого жить в землянке? Надо будет на правлении поговорить…»
Увидев Машу, Лесковец вынул изо рта трубку и выбил её о голенище. Приветливо улыбнулся.
– Как дела, Маша?
– Кончаем картошку.
– Кончаем?
– Завтра думаю закончить.
– Завтра? – Он искренне удивился. – Шутишь?
– А ты иди погляди сам.
– Молодчина! Никогда не думал, что у тебя такие организаторские способности. – Он только сейчас заметил, что она в новом платье, и внимательно разглядывал её с головы до ног.
Маше даже стало неловко, и она сама невольно взглянула на свои ноги.
– А ты молодеешь.
– А чего мне стареть? – Ей стало весело, и она не сдержала улыбки.
– Да… – Он вздохнул, на лбу у него собрались мелкие морщинки. – Да… А вообще стареем, Маша. Черт его знает, как жизнь летит. Прямо не угонишься…
«Что правда, то правда», – подумала Маша.
– Не можешь всего охватить, делаешь глупости, а потом, – он на мгновение заколебался – говорить ли это последнее слово? – каешься…
Это был шаг к примирению. Но у Маши даже не дрогнуло сердце, только на светлую её радость точно упала тень – в душе снова зашевелились боль и обида за все, что она из-за него пережила.
«Не ты ли это снова мать подсылал?» – подумала она, но тут же отогнала эту мысль: не могла она подозревать в хитрости Сынклету Лукиничну, старуха сказала бы ей правду, как в тот раз, когда её послали от Шаройки. Чтобы не отвечать на главное, Маша задумчиво повторила его слова:
– Жизнь летит. Верно. – И как бы спохватившись, добавила: – Но отстают от жизни только слабые.
Продолжить разговор им помешал Шаройка. Он появился неожиданно. Он всегда появлялся неожиданно, и у Маши уже выработался своеобразный рефлекс на его появление – ощущение настороженности, предчувствие какой-нибудь неприятности.
Шаройка поздоровался и вытер ладонью пот со лба и шеи; у него был такой вид, будто он только что пробежал несколько километров.
– Ну, брат, не люди, а нехристи… Хоть кол на голове теши! Все утро из хаты в хату бегаю, что твой почтальон. Просто разбаловался народ: до восьми спят, до десяти завтракают. Опять Акулька ещё только блинцы печет, – должно, до обеда будет печь топиться.
Максим покраснел, гневно сверкнул глазами и решительно сунул в карман трубку, которую начал было набивать.
– Я ей помогу вытопить! – И двинулся на улицу.
– Максим! – Маша окликнула его таким суровым голосом, что он невольно остановился и, обернувшись, встретил её ещё более суровый взгляд, в котором были осуждение и укор. – Шаройка сводит старые счеты и толкает тебя на глупости. Стыдись!
Она знала, что он может сделать. Был уже один такой случай, когда он, зайдя в хату к хозяйке, которая поздно завозилась у печи, схватил ведро и залил огонь.
Об этом случае, с разными добавлениями, долго рассказывали, подсмеивались. Но у Маши он вызвал не смех, а чувство боли, обиды за человека.
– Э-эх, Марья Павловна, – не произнес, а как-то проскрипел Шаройка.
Тогда и Максим, который было на мгновение растерялся, пришел в себя.
– Ты мне не указывай!
– Вспомни о Гаврилихе! Если ты ещё раз сделаешь такую глупость, я первая….
Маша не окончила, но по голосу и по выражению лица Максим очень хорошо понял, что она тогда сделает, и остановился: переступил с ноги на ногу, сильным, ударом отбросил пустую банку из-под консервов, вытащил из кармана трубку, оглянулся и, потупив глаза, сел на березовую колоду у окна землянки.
Минуту тянулось неловкое молчание. Потом Шаройка тяжело вздохнул.
– Эх, работка, работка, чтоб ей добра не было… От темна дотемна, как тот маятник, ей-богу, как маятник, во все стороны… А в благодарность…
– Какая работа, такая и благодарность. – Маша с ненавистью смотрела на него, никогда ещё она так не возмущалась Шаройкой, как в этот раз. Она еле сдерживалась, чтобы не высказать ему всего, что она о нем думает, что говорят о нем женщины в поле.
Максим решительно постучал трубкой о колоду и командирским голосом приказал:
– Товарищ Кацуба! Передашь сегодня Верблюда, Ясного, Чайку в бригаду Шаройки.
«Опять Шаройке трех лучших лошадей?» Маше даже дышать стало трудно. Она спросила почти шепотом:
– Это почему же?
– Ваша бригада, ты сама говоришь, завтра кончает картошку, а у них – непочатый край…
– А по чьей вине?
– Мы не будем сейчас разбирать, по чьей вине, – Максим повысил голос. – По нашей, общей… Надо думать обо всем колхозе.
– Я думаю обо всем колхозе. Кончим – поработаем и за них, если Шаройка не мог организовать… А сегодня я лошадей не дам.
– Огнем буду выжигать эти частнические настроения.
– Выжги их сначала у Шаройки и у… себя.
Шаройка молча вздыхал и укоризненно качал головой: как тебе, мол, Маша, не стыдно обижать меня, старого и уважаемого человека?
Максим захлебнулся от злости, но заговорил тише:
– Покуда я председатель, колхозом управляю я. А то у нас и так черт ногу сломит… Каждый хочет быть начальником. Шаройка! Возьмешь лошадей!
– Лошадей я не дам! – решительно, растягивая слова, повторила Маша.
– Правильно, Машенька, – из дверей землянки выглянула Сынклета Лукинична, которая, конечно, слышала весь их разговор. – Не давай! Амелька будет по ночам свою усадьбу обрабатывать… Нахватал и на дочку, и на сына… А потом на чужих лошадях хочет в передовики выйти. Постыдился бы, сынок, – укоризненно сказала она, обращаясь к Максиму.
Тот поглядел на мать и, не найдя что ответить, махнул рукой и поспешно пошел со двора. Шаройка, вздыхая, зашагал следом.
– Барсук, – презрительно прошептала ему вдогонку Сынклета Лукинична.








