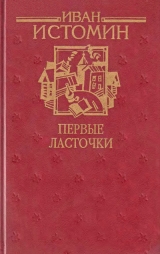
Текст книги "Первые ласточки"
Автор книги: Иван Истомин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
– Ладно! – решил Гриш. – Будем ждать.
Озыр-Митька и Яран-Яшка появились в Мужах на третий день, с тяжело нагруженными санями. Кони с трудом тянули литые, длинные и ровные, как хореи, лиственницы, что в обилии поднимаются в верховьях Сыни-реки. Не за листвянкой же они ходили? Наверное, перевалили на Хулга-реку и спустились до Саранпауля, к местным зырянам.
А через две недели остяки принесли весть, что русские и зыряне из Мужей от имени Советской власти захватили два стада оленей и погнали за Урал. Один пастух шибко сопротивлялся, так его стукнули по голове, и тот сразу же и помер.
Глава 3
Мартовский партактив
1
Куш-Юру почтой доставили извещение из Обдорского райкома партии – в середине марта созывается партийный актив. Он как парторг и председатель сельсовета в Мужах обязан прибыть в Обдорск без опозданий. Вопрос повестки один: «Без Ленина по ленинскому пути».
Куш-Юр обрадовался бумаге – побывает в райцентре, повидается с руководством, может, увидит кого из старых друзей. Может, кое-что из продуктов достанет для Мужей и окрестных юрт-чумов.
Куш-Юр принялся искать попутную подводу, но ее не оказалось. Время такое – все мужчины пропадают в лесу, заранее готовят дрова, чтобы вывезти еще по снегу, начнется путина, пойдет рыба – знай поворачивайся… Не до дров тогда!
– Попросить разве Варов-Гриша, если он еще дома, – решил Куш-Юр. – Прокатаемся недельку – подождут дрова. Не бесплатно же. Уплачу.
– О, Роман Иванович пожаловал к нам! – Гриш обледенелой черпалкой наливал воду из бочки в ушат, разогрелся, откинул капюшон малицы. – Вуся! Где ты ходишь, пропадаешь? Давно не виделись!..
– Давно! Здравствуйте! – Куш-Юр в распахнутом овчинном полушубке и валенках – никак он кисы не обувает. На голове ушанка. – Ну, застал тебя, нечистая сила. Боялся – ты на дровозаготовках.
– Собираюсь поехать, – ответил Гриш. – А что у тебя случилось?
– Пожалуйста, свози меня в Обдорск. Заплачу тебе – понимаешь, срочно вызывают.
Гриш почесал висок. Заманчиво! Можно съездить! Тем более заплатят, деньги пригодятся. Карько повезет помаленьку. А бревна потерпят…
– Как без лошади? Скотина без сена, на чем возить? – затревожилась Елення.
Гриш кивнул на дом братовей – у них, мол, попросишь коня.
– Верно, – обрадовался Куш-Юр. – А когда? Я не могу ждать…
– Послезавтра, – решил Варов-Гриш.
Когда ушел Куш-Юр, рассмеялся:
– Правильно я сделал, что еду с Романом. Раньше всех мужевских услышу новости. Верно, жена?..
Утром на водопое у морозно парящей проруби Гриш встретил брата Петул-Вася с конем и разговорился-расхвастался: повезет в Обдорск на актив Куш-Юра. Все лично узнает – куда, в какую сторону накренилась жизнь? Петул-Вась оживился: у него как раз изготовлено письмо-заявка начальнику райкооперации.
– Доставь! – внушительно то ли попросил, то ли приказал Петул-Вась. – Адрес обозначен на конверте. Скажи ему: «Просит заведующий мир-лавкой из Мужей послать ему остальные две бочки керосину». Две бочки! Все!
– Пожалуйста! – хохотнул Гриш. – Вернусь с грузом, заплатишь, как заведующий.
– По закону, – солидно ответил Петул-Вась, заведующий мир-лавкой. – Согласно калькуляции и прейскуранту цен.
– Ага! – задумался Варов-Гриш. – По прейскуранту? Это как?
– А вот узнаешь, – улыбнулся старший брат, дернул повод и увел своего коня.
Куш-Юр с Гришем выехали на Карьке вечером. Было тихо и морозно, но снег уже не визжал под полозом как в январе – феврале, в заветрии солнышко хоть и не припекало, а уже ласково грело. В розвальни Гриш кинул две охапки грубого сена – «разживемся по дороге». Оделись тепло, натянули гуси-парки. Это было зябкое предвесенье – зима еще крепка.
Карько, словно почуяв дальний путь, трусил ровной рысью по твердому насту, чутьем выбирая запрятанную под снежком дорогу. Куш-Юр, закручивая цигарку, удобно вытянул ноги, локтями нащупал ложе ружья, что пряталось под рогожей и оленьей шкурой.
– Вооружился? – усмехнулся Куш-Юр. – Предусмотрительный ты!
– А что?! – серьезно ответил Гриш. – Тебя везти надо, председатель Советской власти, и беречь тебя надо. Да и я не один – у меня ребятишки и Елення… Вдруг какой-такой шляется по лесу с обрезом? А если волки?
– «Волки», – думая о своем, буркнул Куш-Юр иронично.
– Да, волки. У них самое стайное время. Самый непрокорм. Чем думаешь от них оборониться? – хитро прищурился Гриш.
Куш-Юр похлопал себя по гусю, под ним – наган.
– Ну вот, – удовлетворенно хмыкнул Гриш. – Теперь мы самые храбрые…
Карько бежал ровно. Куш-Юр много раз одолевал этот путь, и дорога была ему известна, хотя он не помнил ее в таких мелочах, как Варов-Гриш. Но всякий раз в душу входила не монотонность, не равнинное однообразие, а ощущение бескрайности, безграничности. Луна побледнела, чуточку позеленела, утончилась, легонько цедила голубоватый свет, и в этом полузыбком свете мохнатились крупные звезды, и те отдавали немного света, и все это сияние падало на темнеющий слева угрюмый лес и на тальники в просторной пойме. А кругом и с востока, и с запада, с юга на север раскинулись-распахнулись снега…
– При луне-то веселей, – очнулся от дремоты Куш-Юр, выпрыгнул из саней, пробежался немного, хлопая себя по бокам, и повалился в розвальни.
– Ну, Роман Иваныч, угощай табаком!
– На актив не опоздаем? – осведомился Куш-Юр. Гриш уверенно хмыкнул, и председатель успокоился.
– Я вот думаю домишко построить, пока есть силы, – поведал Гриш, затягиваясь дымком. – Нельзя ждать – рухнет старье на голову. Оттого и везу тебя не бесплатно. Не от жадности, а от нужды. Обратным путем керосин привезу Петул-Васю. Деньги нужны.
– Это хорошо, что ты собрался строиться, – одобрил Куш-Юр. – Значит, веришь в твердость власти.
– Но ты скажи мне, председатель, почему такой огромный дом строит Озыр-Митька, когда сам пискливый, как баба. Он-то во что верит? Кого хочет приютить в своем гнездовье?
– Да, поворот у тебя, Григорий! – растерянно протянул Куш-Юр. – Ты строиться собрался, это меня очень греет. Очень, понимаешь, греет, когда трудящийся человек устраивает свою жизнь… Но… – Куш-Юр заговорил медленно, раздумывая. – Озыр-Митька – крепкий хозяин, и мы попытаемся завлечь его на нашу сторону.
– Чудной ты! – дернул вожжи Гриш. – Как это его завлечь? Вот я так понимаю – охотник сам зверя бьет, рыбак сам сети ставит, плотник избу рубит. Пусть они разбогатели на своем ремесле – ночами не спали, через силу работали и стали крепкими хозяевами. А этот Озыр-Митька? Какой секрет его богатства? На охоту бегает? Сети тянет? Нет! Обманывает народ в трудное время. Так зачем он новой власти?
Куш-Юр промолчал. Варов-Гриш своим классовым чутьем угадывал в Озыр-Митьке, в Оське Шестипалом, в Ма-Муувеме врагов, и как бедняк не верил им ни в чем. Это с одной стороны. А с другой – как посмотрит партия, если Куш-Юр разгромит богатеев начисто? Ведь в стране еще продолжается нэп. Нет, Куш-Юр должен все выяснить на партийном активе, все до маленькой мелочи. Очень кстати спросил его Гриш.
И ушел дальше мыслями председатель.
– А ты, значит, жениться собрался! – вдруг брякнул Варов-Гриш. – Чурка-Сандра хорошая баба! Самая баба по тебе, да!
– Не думал, Григорий, – как-то неуверенно заговорил Куш-Юр. – Не думал, что ты слушаешь всякие непроверенные слухи. Кто тебе сказал?
– На-се-ле-ние! – громко и торжествующе ответил Варов-Гриш.
Карько, утопая в снегу по брюхо, шел шагом. Гриш стегнул его вожжой – не любил хозяин кнута. Оглянулся Гриш, вгляделся в далекий правый берег Малой Оби и протянул задумчиво:
– Второго такого Ленина больше не найти, только его и надо слушать. Жить, как он учил… И людям надо это говорить.
– Во-во, по-ленински… – поддакивает Куш-Юр.
Карько не останавливался, тянул и тянул розвальни, словно понимая, что хозяин торопится. Прямо на них выскочила лисица, Варов-Гриш достал дробовик, но опоздал. Вскоре подбил куропатку.
– Вот тебе и ужин, – довольно сказал Гриш.
– В Васяхово-то будем останавливаться? – спросил Куш-Юр.
– Почаевничаем, Роман Иванович. Теперь есть что пожевать. Жизнь пошла хорошо. – Варов-Гриш тронул вожжей коня. – Хлеб-мука без нормы, соль, сахар… Чай, даже сушки-крендели. Чего еще надо!
– А сети?! Пищали, патроны, порох-дробь, капканы?! – добавил Куш-Юр. – Все мир-лавка дает. В кредит дает, под запись. И будет еще давать недостающие товары – мануфактуру, топоры-лопаты, посуду разную. Да, – загорелся Куш-Юр, словно оглянулся на последние годы и удивился уже сделанному, вошедшему в жизнь. – Охотникам даны ружья с охотничьим припасом – добывай пушнину! Стране нужна пушнина. Машины на нее купим. И гляди, Григорий, ведь все народы Севера, а их великое множество, освобождены от уплаты налогов, сборов… пошлин. Отменена арендная плата на рыбные и пушные угодья. Си-ла, а?
– Сила! – согласился Гриш.
– Вот сотворим новую жизнь, будем строить и открывать школы, училища, всех людей сделаем грамотными.
– Всех?! – удивился Варов-Гриш. – Всех нельзя! Грамоту всем дашь – некому работать станет. Все в начальство пойдут, как Филя-писарь.
– Грамота – это еще мало… – начал Куш-Юр.
– Ма-ло?! – ахнул Гриш. – Да если хоть малую грамоту да к уму, ой-ой-ой, что сотворить можно. Но вот зачем охотнику, кто зверя лесовать ходит, зачем ему большая грамота? Или рыбаку, как мне, зачем большая грамота?! – И грустно заключил: – А у меня грамоты совсем маловато. Долго не поймут люди друг друга даже с большой грамотой. Вот скажи, почему до сих пор остались мироеды: Озыр-Митька, Квайтчуня-Эська, Ма-Муувем, ведь ждут они возврата к старому?
– Как бы не так. – Куш-Юр посуровел. – Они, Григорий, надеются на нэп крепко. Но эта политика кончается.
Давно, с той скорбной январской ночи, вот так Гриш не говорил с Куш-Юром. Варов-Гриш видел, каким теплом светились глаза русского большевика Романа, когда он говорил о той необъятной, нескончаемой работе, которую ждут северные окраины. И Роман Иванович показывает себя стойким сыном партии, настоящим другом всех бедняков, неважно какой они национальности. Таким и должен быть председатель, ленинец. И чувствовал Гриш, что этому человеку он верит безраздельно, как брату.
В Васяхово дали отдохнуть Карько, раздобыли немного сена, и Гриш заботливо обтер вспотевшего коня, прикрыл его рогожей. Пока варилась похлебка из куропатки, долго, со вкусом чаевничали. К хозяину подходили соседи, присаживались и осторожно расспрашивали – что слышно о кооперации, какие товары у них в Мужах держит мир-лавка, кто угнал у оленеводов два стада. Эта весть уже обежала поселки и юрты по Оби и тревожила людей. Куш-Юр твердо отвечал, что это поганое дело – провокация, сотворили этот разбой пришлые люди.
– Кто они? – требовали ясности васяховские мужики. – Ты ловил их, глядел им в лицо, знаешь их имя?
Варов-Гриш горячо заступался за мужевских, но слухи брали свое.
– У нас тоже маленько шалят, – сообщил хозяин. – У остяков три упряжки отняли, а самих избили до полусмерти. Следы на Большую Обь идут, а кто знает, что за люди?
– Тут, недели две, мужик чернобородый приезжал с помощником, – потупясь, сказал один из васяховских. – Остановились у меня почаевничать. Важный человек, в очках, на жилете цепочка от часов золотая. Так вот он что говорил – Ленин, мол, умер, а завещания не оставил. Никакого… Раз нет завещания, нет наследника, нет продолжателя. Вот что ты на это скажешь, Роман Иваныч?
– А то скажу, что партия всегда едина, и не будет в ней распрей! Враки это. Хотят ослабить нас, с пути сбить!
– Хорошо говоришь, – кивнул васяховский. – Да только как теперь получится? Был Ленин, все было понятно, а теперь?
– Кто он? – шепотом спросил Гриш у хозяина. – Больно дотошный…
– Агентом по скупке пушнины числится… Ездит туда-сюда. Капитал имеет…
– Пора, Роман Иваныч! – позвал Гриш и вышел запрягать Карько – до Обдорска еще две таких остановки.
Чуть светало… Куш-Юр завалился спать, а Гриш, подмяв под себя сено, правил конем. Вскоре они выбрались на дорогу-вэргу, указанную оленеводами, и Карько бодро пошел рысью.
Потянулась однообразная дорога, то по льду реки, то пересекая протоку или неширокое озерко. Снег осел, оплавился в следах копыт и волчьих лап. Гриша убаюкивало, и мысли его были неторопливы и тягучи.
«Везде одно, – размышлял Гриш, укладываясь поудобнее, чтобы видеть Карько хоть одним глазом, – день глазаст, а ночь ушаста. – Везде у мужиков тревога… Как, куда направится жизнь… Чего принесет? Больно далеко живем от большого мира. Да, Куш-Юр вот много услышит на партийном активе, а я… Эх, грамотешки маловато… Да и возьмут ли меня в партию? Чего я для нее сделал?» – Гриш принялся вспоминать, перебирая в памяти… и уснул.
2
Солнце поднялось высоко, и подняло безоблачное небо, и раздвинуло дали, и лес, к которому вела дорога, казалось, повис в воздухе. В реденьком сосняке позванивали синицы, бил дятел, на придорожные кусты, тоненько посвистывая, осыпались снегири, заквохтала сердито куропатка. Подвода подошла к Лор-Вожу – устью озера и остановилась. Карько словно задумался – подниматься ему к юрте или трусить дальше? Залаяли, забрехали собаки. Куш-Юр открыл глаза – о, светло! Солнце сияет! Лошадь стоит, а друг, видать, спит.
– Вставай, засоня! – подтолкнул Куш-Юр. – Приехали в Обдорск, а ты дрыхнешь!..
– Как в Обдорск?.. – Гриш спросонья стал оглядываться, буркнул: – В Лор-Вож!.. Вон белеют Уральские горы!..
Куш-Юр засмеялся:
– Вот как везешь ты! Вся надежда на Карько!..
Решили не останавливаться – в Катра-Воже отдохнут, а там уже и Обдорск…
– Хороший денек обещает быть сегодня – вон как палит светило. – Куш-Юр смотрел на солнце и радовался.
– Еще раскиснет днем дорога. Парки снимем даже. – Гриш стеганул лошадь: – А ну-у!..
Карько прибавил ход, а председатель заулыбался:
– Во, доедем быстрее… Мне уже охота ходить по Обдорску, улицы его видеть.
– Тебе придется сидеть на активе. Это мне шататься по Обдорску…
– Тебе надо готовиться в партию!
– Рано еще – грамотешки мало, а душой я бы готов… – ответил Гриш скромно, но глаза его сияли. Угадал председатель его мысли…
– Правильно, – Куш-Юр, похлопал Гриша по плечу. – Сейчас самое главное, чтобы в партии были честные и преданные, как ты, люди. Грамотность – дело наживное. Вера в дело – вот что главное. Мы тут с тобой единомышленники…
– Постой-ка, вон катит кто-то навстречу…
Председатель взглянул – верно.
Поравнялись. В розвальнях виднелась сзади большая железная бочка. Возчик, молодой белобрысый паренек, одетый в парку, видя двух курящих мужчин, испуганно вскинул белые ресницы.
– У меня керосин! Курить нельзя!.. – послышался звонкий мальчишеский голос, и парнишка тронул коня.
– Стой! Не будем курить! – Гриш выбросил окурок в снег. – Далеко?!
– В Мужи!..
– Подожди!.. – закричал Гриш и начат поворачивать Карько.
Остановились. Гриш выпрыгнул в снег, поздоровался, начал объяснять, что за керосином для Мужевской мир-лавки едет он. И надо две бочки, а не одну.
– Да-да, надо не одну. – Куш-Юр поздоровался, но не вылез из своих саней. – Сельсовет я…
– Ничего не знаю! – насупился парень, развалясь на передке. – Мне дали одну бочку, я и везу… Вообще-то нету керосину. К чему теперь керосин – наступает весна…
– А у нас еще темно. – Гриш глазом измерил емкость железной бочки. – Вот, лешак, маловато. Ты бывал в нашем селе?.. Как звать тебя?..
– Канев Данька. – Паренек грыз соломинку и в нетерпении перебирал вожжи. – Нет, я не бывал. Отец был осенью. Понравилось ему. Найду-у… Ну, мне ехать надо…
Став на колени, он шевельнул вожжи. Конь, лохматый, небольшой, тряхнул серой заиндевелой гривой, и сани тронулись. Данька даже не попрощался.
– Не заблудился бы, не попал куда не следует, – тревожился Куш-Юр. – Оставит Мужи без керосина, нечистая сила…
– Вот именно. – Гриш стоял на передке розвальней и поворачивал лошадь на север. – И всего одна бочка. Не-ет, я еще добуду бочку у кооператоров. Скажу – не видели мы никакого Даньки-Маньки. Вот бумага, и давай рассчитывайся за недоданный керосин. Хотя бы одну бочку… Ха-ха-ха!.. Карько, шевелись живей!.. А что? Ей-богу, вырву!.. – И запел, легонько постегивая Карько, русскую песню, которой когда-то научил его Роман:
Далеко, в стране Иркутской,
Между двух огромных скал,
Обнесен стеной высокой
Александровский централ…
Куш-Юр стал подпевать.
Они решили задержаться в Катра-Воже – надо передохнуть Карько и самим пора чаевать. До Обдорска двадцать пять верст, значит, приедут вовремя, накануне актива, ночью, почти белой уже в эту пору…
Пока ожидали налимью уху да чаевали вместе с хозяевами, стала портиться погода, жестко по насту заскребла поземка. Поднимется пурга – не перевалить через Большую Обь.
Гриш, торопясь, запряг лошадь, а Куш-Юр взял у хозяев охапку сена, и они вскачь вылетели на дорогу. Вот и Большая Обь – широченная, не достает глаз до того берега. Клубит-дымится на просторе сухой колючий снег. Все ниже и ниже опускается небо, посерело оно волчьей шкурой и ожило-задвигалось.
– Ну, Карько! Давай дуй! Проскочи эту ширь, мать родная!
– Вот нечистая сила! – затревожился Куш-Юр. – Опоздаю из-за бурана! Гони!
– Не бои-ись! – обнажил Гриш белые зубы. – Не боись! Это еще не буран… Дуй, Карько!
Конь, выгнув шею, опустив голову и фыркая, несся вскачь.
Белые космы теперь сплошной пеленой заносили едва видимый след, и вскоре тот совсем исчез под снежной наволокой. Карько пытался побороть гудящий, взвизгивающий ветер, но тот был сильнее коня. Буран сбивал его с пути, относил правее и правее.
Долго Гриш и Куш-Юр пересекали Большую Обь, но все же проскочили эту ширь. Только попали они не в Люймас, к Повар-Ваське, как думали, а в заросли густого тальника. Карько тяжело дышал, шерсть забилась снегом, и мелко дрожали ноги.
– Наконец-то. – Гриш остановил заиндевелого коня. – Пусть теперь бесится буран. Мы, считай, в Обдорске – во-он огни…
– Не опоздал я все же, – радовался председатель. – Спасибо, Карько. – И вдруг вспомнил: – А этот… как его… Канев Данька-Манька, как он сейчас? Может попасть в буран и уйдет не по той дороге. В Питляр, например…
Гриш засмеялся:
– Ты что? Данька уже дальше Лор-Вожа. Давно проехал развилку дорог на Питляр.
Он поднялся на ноги и стал отряхивать с парки снег.
Карько вдруг двинулся через сугроб к раскидистому талу.
– Не хочет стоять на ветру. – Куш-Юр тоже принялся стряхивать с себя снег.
– Есть, наверно, хочет, – добавил Гриш. – Сейчас…
Он слез с розвальней, увязая в сугробе чуть не по пояс, взял охапку сена, положил под морду коню и отстегнул уздечку.
А председатель стоял и смотрел в сторону Обдорска.
– Вот я и на месте почти. Как раз успел! Что это так видны яркие огни? Посмотри-ка. Электричество, наверно. Богатые. Жгут даже светлой ночью, нечистая сила.
Гриш повернулся – точно: жгут почем зря!
– А им, понимаешь, жалко одну бочку керосина. На весь поселок!
3
Утром, позавтракав у старого знакомого Сирпи-Яка, где остановились, Куш-Юр пошел в райком, а Гриш отправился искать райторг. Потеплело, падал редкий мохнатый снег, как будто ночью и не буранило. Райторг Гриш нашел легко, но председателя не оказалось – ушел на партактив. Он отправился к заместителю:
– Здравствуйте. Вот письмо от Петул-Вася, заведующего мир-лавкой в Мужах. Вы должны две бочки керосину. Много других товаров. Прибыл забрать. Сейчас мужики в лесу, а в мае рухнет дорога. Давай, последний ход в Мужи!
– Но мы же отправили вам на днях керосин? – Голова заместителя сверкала на солнце – он был брит наголо. – Парнишка Канев Данька увез, да. Правда, одну бочку, четырестафунтовую. Однако больше керосину нету. Не встретили, что ль?
– Какого Даньку-Маньку? Никого я не встретил! Пустая, безлюдная дорога. Ночью приехал! – Гриш нарочно сделался сердитым и даже встал со стула. – Гоните две бочки! Я ничего не знаю! И что там по письму-заявке положено.
– Гм, – хмыкнул заместитель. – Не кипятись. Садись… Куда же девался Данька? Неужели дома еще? Отец-то больной, что смотрит? Еще спалит кого-нибудь – керосин ведь… – Заместитель крупный, широкий, с двойным подбородком, а по глазам видно: человек душевный и добрый…
Гриш еле удержался, чтоб не проболтаться про осторожного Даньку, который, верно, уже в Мужах. Буркнул, не садясь:
– Конечно, спалит кого-нибудь, и мы без керосина останемся. Или от развилки в Питляр повернет. У нас же темно еще. Гоните долг! Хотя бы одну бочку!.. Нельзя нам без керосина вернуться!
– Ладно, посмотрим, – заместитель погладил сверкающую голову. – Понаведаться надо сперва к Каневым. Вы идите, отдыхайте пока…
– Не-ет! Я доложен получить керосин и ехать сразу обратно, – сказал Гриш и вдруг осенило его: – Нечем кормить коня! Еле терпит. И овса нету…
– Знаю, была большая вода, корм пропал, – вздохнул заместитель. – А овса немного можете купить у нас в магазине. Знаете где? – Он написал записку продавцу. – Вот, на пятьдесят фунтов.
– О, это маленько-пригоженько хорошо! – Гриш переменил тон разговора. – Тогда надо бежать за овсом сперва. А потом прибегу за керосином.
Выйдя в коридор, Гриш встретил знакомого человека – Уля-Ваня, пожилого мужика. В толстой малице и кисах, с пустым мешком в руке Уля-Вань считал деньги у двери с надписью: «Бухгалтерия».
– О-о, кого я вижу! – кинулись друг к другу приятели и разговорились – кто да как живет, как поживает.
Гриш рассказал, что председателя сельского Совета Куш-Юра привез на партактив и обратным путем поручил ему Петул-Вась, родной брат из мир-лавки, прихватить керосин.
– А тут вот ерунда получается – не дают пока…
– Дак в Мужи отправили керосин с Каневым Данькой, парнишкой, – сказал Уля-Вань. – Знаю, работаю сторожем на складе райторга. Иду со службы и зашел получить аванс.
Гриш обрадовался:
– Значит, ты все знаешь? Есть там еще хоть одна бочка?
Уля-Вань ответил, что есть еще несколько бочек, но берегут – мало ли что, когда-нибудь понадобится.
– Когда-нибудь! Нам сейчас нужно. Вырву я керосин… – Гриш посмотрел сторожко вокруг, засмеялся. – Ей-богу!.. Да-а, а ты не дашь мне мешок купить овса в мир-лавке, а? У меня есть бумага. И денег немного давай – не прихватил с собой. Верну сегодня же.
Уля-Вань помялся, повздыхал, но дал немного денег и мешок, что свисал у него с руки.
Выйдя из райторга, Гриш улыбался:
– Начало есть. Все будет в порядке.
4
У Романа Ивановича день был насыщен до предела, но напряженность почти не утомила его. Он был возбужден, его захлестнуло нетерпение, хотя не суетился и сдерживал себя. Только сейчас, подходя к райкому, почувствовал, как далеко он отброшен от своих товарищей. Даже не расстоянием – подумаешь, каких-то двести верст бездорожья, – нет, он отброшен работой, в которой трудно различить, что важное, что – мелочь.
Куш-Юр нетерпеливо взбежал на крыльцо, над которым в безветрии свисал красный флаг с траурной каймой, быстро подошел к столу, где вставали на учет. В райкоме что-то неуловимо изменилось – то ли портрет вождя в скорбном траурном убранстве, то ли потемнели стены. Солнце процеживалось сквозь кумачовые шторы, и на желтом полу колыхались багровые тени… Что-то изменилось в райкоме. И это не осознанное, не понятое хлынуло в Куш-Юра, и он затревожился, заволновался, не угадывая пока причин. Здоровался со знакомыми, малознакомыми людьми, кому-то приветно жал руки, кто-то окликал его по имени, кто-то похлопывал по плечу и что-то напоминал, и Куш-Юр смеясь отвечал, но никак не мог отрешиться от заползшей в него тревоги.
Несколько обдорян, два-три активиста из Аксарки, пуйковские и ярсалинцы – все из ближних мест собрались в большой комнате, дожидаясь коммунистов из Хальмер-Седэ, с Полуя и Лаборовой. Но решили начать без них – оленям долго не стерпеть, стоят голодные.
Партийный актив открыл первый секретарь райкома, крупный, тяжелый, как медведь. Он стоял за столом, грузный от силы, и тужурка туго облегала широкую грудь. Куш-Юру он понравился.
Секретарь попросил всех встать и почтить память Владимира Ильича. Все встали – и русские в потертых пиджаках и косоворотках, и коми-зыряне в суконных куртках, и ненцы, так и не сбросившие легких малиц, длинноволосые и широколицые, и остяки с двумя косичками, в высоких тобоках,[8]8
Тобоки – обувь из оленьих шкур мехом наружу.
[Закрыть] с подвязками из красных лент. Глубоким молчанием, уйдя в себя, почтили память вождя, вот здесь-то Романа резануло по сердцу. Вот откуда тревога, вот почему ему было так не по себе – он не видел, да, он не увидел никого из прежних верных своих друзей, ссыльных большевиков, партийцев с дореволюционным стажем. Нету! Разметала жизнь, разметала по всем краям – многие уехали по указу партии туда, где наиболее трудно.
Роман ушел в думы, а слух наполнял уверенный, твердый голос:
– Мы, коммунисты Севера, – это говорил новый секретарь, – мы должны дойти до сердца каждого трудящегося человека, вселить и укрепить в нем веру в наше дело. «После Ленина – по ленинскому пути» – этот лозунг, товарищи, не на один этап, не на сегодняшний отрезок времени, он на всю нашу жизнь!
Доходчиво и горячо говорил секретарь, говорил о хлебе, угле, чугуне, о заводах и шахтах, о союзе рабочих и крестьян, о Сталине, о Кирове, о Серго Орджоникидзе – видно, он хорошо знал, что происходит на Большой земле. Но ни слова не сказал секретарь о рыбе, о рыбаках, которые жизнь свою черпают и вытягивают сейчас из реки, ничего не сказал секретарь об охотниках, что всю зиму не выходят из урманов, из глубоких снегов, добывая пушнину. Ненцы словно окаменели в своих малицах, сидели неподвижно, чутко вслушиваясь в голос секретаря, но тот ничего не говорил об оленях.
– Я человек здесь новый, товарищи, – словно угадав мысли Романа, сказал секретарь. – И пока что заменяю тяжело заболевшего секретаря. Многое из того, что происходит в районе, мне неизвестно. Я понимаю, что трудно принимать чужого, – он по-доброму усмехнулся, – пришлого человека. Но дело не терпит, в области не стали ждать конференции и назначили меня к вам. Поэтому, товарищи, прошу вас честно, по-партийному, по-ленински рассказать о трудностях, о положении дел в ваших организациях.
Недолго мялись активисты. Роман Иванович не стал подниматься на трибуну, просто вышел к столу и, одернув пиджак, волнуясь, перебегая от одного к другому, заговорил о наболевшем. Он поведал о большом своем селе, о Мужах, что издавна было центром зырян на Оби. Роман не жаловался и не прибеднялся, когда говорил о рыбе, о рыбных угодьях, о пушном промысле, о малосильности хозяйства, о бескормице. Говорил открыто и жестко – все как есть. Нет школы, вовсе нет, та, что была при церкви, закрыта. И совсем мало грамотных, а в темноте как строить новую жизнь? Ходишь, будто по лесу в темную ночь. Нет больницы, да какой там больницы, медпункта нет, до сих пор к больному ведут бабку, знахарку. Если царская власть держала людей в темноте, то мы, коммунисты, должны дать школу. Мы должны дать им врача и фельдшера, мы должны беречь здоровье и жизнь людей. И перед Романом вставал ползущий на коленках, весь скрюченный, как корешок, голубоглазый Илька, и похудевшая, с горящим лицом, тающая на глазах Сандра, и простуженный Сенька Германец, и чесоточные ребятишки, и медленно угасающие старики. А сколько умирает остяков – от трахомы, от чахотки, от всяческой заразы? Доктор нужен – лечить, учитель нужен – осветить темноту жизни.
– Не станет жизнь новой, если продолжать все по-старому, – так сказал Роман Иванович и увидел, что секретарь быстро пишет в свой блокнот. – Не станет она новой у малограмотных, которые не могут прочитать газету, не станет новой, пока в ней знахари и знахарки, шаманы и бабки-повитухи и костоправы-коновалы.
Один из обдорян, израненный колчаковскими шашками, едва выживший, с горячими незатухающими глазами и хриплым голосом, задыхаясь от ненависти, прервал Романа:
– Брось! Ты это брось, Роман Иваныч. Лекари тебе и пекари, учителя тебе и няньки! Брось, не время еще – нужно контр-ру, – он зарычал и заскрежетал зубами, – контр-рру, рас-падли-нуу выдирать. Выжигать… Огнем… огнем… железом… Забыл, что горел в барже смерти… Забыл, что стал Куш-Юром…
Впервые Романа Ивановича при всех назвали Гологоловым, но не дразня, а напоминая, что остались еще враги.
– Да! Да! – шевельнулись ненцы в малицах, приподняли веки, ожили у них лица. – У нас в стойбищах, в юртах много дурных людей. Старшины живы, шаманы камлают, да! Хозяева работников, батраков держат… Стада свои прячут.
– Знаете, где прячут? – резко спросил секретарь.
– Не знаем! – ответили ненцы. – Ничего мы не знаем. А если узнаем, то нельзя сказать – жизнь возьмут.
– Во-от! – задрожал от ярости обдорянин. – Вот она – правда! Знает, а не скажет! Боится? Нет, не боится, а против законов своих не пойдет! Они хоть и активисты райкомовские, но в своих обычаях живут. Вот что дурно! Вот что надо под корень!
Роман Иванович вспомнил первую конференцию племен Полярного Севера, что собиралась в Самарово летом двадцать второго года, где много говорилось о приобщении туземных племен – самоедов, остяков, вогулов, зырян, селькупов – к социализму.
Подчеркивалось тогда, что нужны деликатные, осторожные меры к беззащитному туземцу Севера. И забота. Шли споры об административном управлении туземцев, а Волков, начальник Обдорской радиостанции, представил проект об отделении Севера от центральных губерний и организации автономной «Полярной Федерации». Вот к чему привели споры, противоречия и разные мнения – самоедам и туземцам своя «Полярная Федерация», и ведь подписались под этими проектами своими крестиками, значками своими родовыми и Вануйто, и Тайшин, и Хороля. Господи ты Боже мой, решили отделиться от страны России, от фабрик и заводов, от крестьянских пашен. И как бы жила та федерация – неграмотная, темная, без врача, без фельдшера, без учителя?
И сейчас, как только коснулись управления, заговорили, загомонили все, перебивая друг друга, размахивая руками, – видно, острый, больной вопрос.
А секретарь внимательно слушал и заносил все в блокнот, задавал путные вопросы, и Роман Иванович понял, что Федор Васильевич мужик толковый, выдержанный и крепкий. Обрадовался тому Роман и обратился к секретарю:
– Федор Васильевич, приезжай в Мужи, оглядись. Осмотрись и поймешь сам, как нужна нам школа. Нужно такое нам, чтобы люди поняли – вот это власть! Вот это она нам дала. Мир-лавка одно – есть в ней много всякого, но ведь она дает в кредит, в долг, и люди берут как бы свое. А здесь – когда школа или медпункт – дало государство!
– Верно! – согласился секретарь. – Будем искать тебе и врача, и учителя. Будем! А ты, Роман Иванович, подумай, кого можно принять в партию из сознательных рыбаков и охотников?
– У нас можно принять Вечку, Халей-Ваньку, Пызесь-Мишку, – выпалил Роман Иванович, а Федор Васильевич громко рассмеялся.








