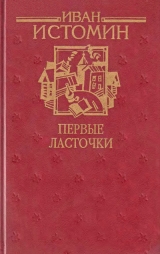
Текст книги "Первые ласточки"
Автор книги: Иван Истомин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)

Иван Григорьевич Истомин
Первые ласточки
Том 2
ВСТАНЬ-ТРАВА
Роман
Глава 1
Весть
1
Приполярье.
Лунная ночь.
Тускло светятся звезды.
Завывает лютый северный ветер.
– Кыш-ш! Кыш-ш… – каюр[1]1
Каюр – проводник, погонщик оленей.
[Закрыть] сипло кричал на шестерку оленей, отгоняя тягучий сон.
Олени едва трусили, поводя боками, выпучив глаза и высунув языки чуть не до снега – отмахали без остановок около двухсот верст из Обдорска в село Мужи. Немного осталось до селения – в морозном, густом тумане вроде завиднелись огни.
Каюр в малице[2]2
Малица – одежда, в виде рубахи из оленьего меха шерстью внутрь.
[Закрыть] и поверх нее в гусе[3]3
Гусь – одежда с капюшоном из оленьего меха шерстью наружу, надевается поверх малицы или парки.
[Закрыть] шерстью наружу, обут в тройные кисы – пимы из оленьего меха. И весь закуржавел, не видно лица, отороченного пухлой снежной бахромой. Продрог он до мозга костей на пронизывающем насквозь студеном ветру. И хочется ему спать. Но нужно увидеть хоть одного человека из села и доложить, а потом…
– Кыш-ш!.. – Каюр затянул бессловесную мелодию то ли по-зырянски, то ли по-хантыйски, то ли по-ненецки. Такую печальную, что сам заплакал и долго всхлипывал, смахивая слезы меховой рукавицей. Уже стало видно село, менее затуманенное, освещенное луной. Олени шли кое-как шагом, то и дело спотыкаясь. И наконец остановились. Два оленя осели в снег. Каюр тыкая их хореем,[4]4
Хорей – шест, которым погоняют оленей.
[Закрыть] шикал, но ничего не смог добиться. Решил отдых дать хоть недолгий. Потом снова вся упряжка потянула тяжким шагом. Каюр не гнал их – дотащат.
2
В полутемной комнате горит увернутая лампа.
– Пи-ить…
Илька раскидался в жару. На лбу высохшая тряпка. Дышит часто. Бредит. И видит Илька, будто стал здоровым – руки и ноги двигаются, не опутаны хворью. И снится, что он летает. Не ходит – не помнит, как ходить, с трех лет отказали ему ноги. Он летает, летает легко, словно обская чайка. Как весело и радостно! Только хочется пить, но он не может сделать и глотка, хотя кругом вода…
– Пи-ить… – просит Илька неслышным голосом и видит себя среди цветов, мокрых от росы. Вспомнился Вотся-Горт, когда мама купала его в росе. Приговаривала ласково: «Еще, еще, мой заинька, мой маленький сыночек! Роса – травяная слеза. Чистая, радостная. Самая для тебя, для несчастного, пользительная. Особливо со цветочков душистых-запашистых. Вон сколько их, ясных слезинок-бусинок, в синих колокольчиках! Все их выльем-вытрясем на тебя!» Илька видит мокрые цветы, но лишь облизывает губы – сном не утолишь жажду. Ох, как пить хочется! Ну, мама же! Почему ты не слышишь?
И Илька плачет вслух, громче:
– Пи-ить!.. Пить!..
Елення испуганно вскакивает с кровати, прибавляет огонь в лампе, берет со стола кружку и спешит к Ильке, поит его.
– Родной мой. Долго звал, поди… И весь раскрылся…
Она поправила одеяло, пощупала тряпку – совсем сухая.
А Илька со слезами:
– Я звал, звал тебя снять меня с крыши, а ты не идешь. Почему есть лестницы лазить вверх, а спуститься – нет? Гы-ы-ы…
– Вот беда-то, – мать приложила мокрую тряпку. – Жар-то какой…
3
В эту лунную, трескучую морозную ночь по безлюдной улице спешил куда-то человек в толстой малице и подшитых валенках, а не в обычных для этого края мягких меховых кисах. «Вжик-скрип, скрип-вжик…» – раздавалось в студеном воздухе. Он, как пьяный, шатался и что-то бормотал неясное и темное.
Вжик-скрип, скрип-вжик – морозно взвизгивает снег под его валенками. Временами председатель сельсовета Роман Иванович прикладывает к щеке теплую рукавицу и смахивает слезы. Он прозван в народе Куш-Юром, Гологоловым, за голую, как яйцо, голову, обожженную на барже смерти. Сгорели в полыхающей барже его друзья-товарищи, пали под свинцовым дождем те, кто бросился в реку, а Куш-Юр спасся. В кандалах, обезумевший от бессилия, бросился Роман в студеную осеннюю Обь и, уцепившись за корягу, доплыл до берега. И с той кровавой ночи не угасает в его сердце ненависть к врагам трудового народа и вера в свое революционное дело. А то, что Куш-Юром зовут, не велика беда, здесь у каждого зырянина прозвище. Куш-Юром прозвали, стало быть, признали своим.
Куш-Юр повернул к крыльцу Варов-Гриша – Гриша-Балагура, – отряхнул от снега валенки и отворил дверь.
– Гм, гм! – кашлянув, Куш-Юр перешагнул высокий порог. В тусклом свете различил лежащих на полу людей, видно, проезжих. Потоптался и осторожно, чтобы не наступить на спящих, прошел возле печи. «Спят!» – тихо пробормотал Куш-Юр, и половица под ним громко и протяжно застонала.
За пологом резко скрипнула кровать.
– Это я, Роман, председатель. Срочно надо Григория… Да и всех вас тоже… – Он прошагнул в комнату и, шумно передвинув стул, присел. От скрипа завозились ребятишки. «Разбудил!» – упрекнул себя Куш-Юр и негромко позвал: – Вставай, Григорий.
Заспанный Гриш высунулся из-за полога. Куш-Юр, стряхнув ладонью пот с лица, извлек из-под малицы листок бумаги.
– Здравствуй… Что стряслось-случилось?.. – хрипло спросил Гриш.
– Умер!.. – сдавленно выкрикнул Куш-Юр.
– Кто, что?! – Босой Гриш рывком сел на лавку. – Кто такой умер?
– Ленин умер, – проглотил слезы Куш-Юр. – Вчера вечером. – Куш-Юр шелестнул бумагой. – В шесть часов пятьдесят минут…
У Гриша в глазах потекло лицо Куш-Юра, как отражение в неспокойной воде…
Зашевелились люди в соседней комнате. Куш-Юр, сгорбившись, беззвучно плакал.
Встала с лавки не спящая Елення, в сарафане, в баба-юре – кокошнике и кисах. Тихо поздоровалась, прибавила огонь в лампе и занялась ребятишками, успокаивая их. Елення не узнавала прежнего Куш-Юра и, все-таки угадав, что это он, поразилась перемене в его лице… И Елення испугалась, в нее вошла томительная тревога, предчувствие страшной беды, такой страшной, от которой и смялось лицо Куш-Юра, лицо председателя Советской власти, стало оно потерянным, будто след, засыпанный снегом.
– Ну-ка. – Гриш дрожащими руками взял бумагу и долго читал, шевеля губами, хотя написано было немного. Потом отдал листок, спросил растерянно и горестно: – Как так? Как же так? Может быть, ошибка-путаница?
– Бумагу из Обдорска доставил каюр, – после долгой паузы заговорил Куш-Юр. – Надо, Григорий, делать древко. Для траурного флага.
– Как же так? А? Ленин умер, – не слушая его, отрешенно повторял Варов-Гриш.
– Для древка возьми подлиннее палку, чтоб всем был виден траурный флаг, – скорбно склонил голову председатель.
Елення, словно впервые увидела его голову в шрамах и рубцах, заплакала тихо и жалостливо. Слышались всхлипывания и во второй комнате, все еще не освещенной. У Ильки жар заметно спал, и он, лежа на боку, различал в полумраке Куш-Юра, собравшегося уходить.
– Кто помер, мама?
– Ленин… – Елення вытирала слезы передником. – Дед он тебе…
– Владимир Ильич, – добавил Куш-Юр.
Для Ильки Ленин был не дедом, а добрым, всемогущим богатырем из далеких и близких сказок – «Ленин дал!», «Ленин сделал!», «Ленин помог, не дал погибнуть!», «Отец… вождь… друг!». И то, что он умер, то, что он ушел навсегда, отнимало всю надежду на сказку.
И Илька заплакал горько и безутешно:
– Ленин… умер… Ой-о-о!
Куш-Юр взглянул на него:
– Два раза сказывал ему. И запомнил! – удивился Куш-Юр.
– Болеет вот… – Гриш натянул верхнюю рубаху и принялся обуваться. – Выживет ли, нет ли… кругом беда!..
– Да-а, плохо у нас – до сих пор нет фельдшера. – Думая о чем-то другом, Куш-Юр спрятал бумагу в рукавицу. – Многого у нас пока нету, Григорий. Но есть у нас Советская власть. Народ-ная, – повысил голос Куш-Юр. – И Ленин будет вечно жить в этой власти! Вечно!
– Он, Ленин, ранен был? – спросила негромко Елення.
– Был, – выдохнул Куш-Юр. – Отравленными пулями был изранен! Да… Надо другим передать эту горькую весть. Всем надо знать. В десять утра соберемся в Нардоме.
– Как людям сказать о такой беде? – Гриш одним взмахом набросил на себя малицу и вышел вслед за Куш-Юром.
На западной, уральской стороне в морозном тумане высоко светилась предутренняя луна. Она странно пульсировала: то раздвигалась, то вдруг обретала привычные очертания. И тогда мир являлся перед Гришем то в густом сумраке, то в ярком свете с резкими тенями. Гриш вытер рукавом мокрые глаза.
Над селом стояла хрусткая безголосая тишина, лишь ветер да шорох снега нарушали ее. И от этого душу захватила такая тоска и маета, обдало таким холодом, что Гриш, проваливаясь в снегу, заметался по двору.
– Что-то надо делать! Что-то надо делать! – лихорадочно проносилось в голове. Ему казалось: если сейчас он займется каким-то делом, то отодвинется от сердца, уйдет, может быть, надолго эта жгучая тягость. Он бесцельно метался по двору, пока не наткнулся на припорошенную снегом кучу жердей. Остановился. «Да. Древко. Нужно крепкое, высокое древко».
Имя «Ленин» Гриш впервые услышал в германскую войну. Оно неожиданно возникло в солдатских окопах в самые пропащие, паскудные времена, и тех людей, что говорили гордо: «Ленин!», хватали, заламывали руки и куда-то уводили. Они не возвращались. Гриш побывал в австрийском плену, но «убёг»… он знал, что такое плен, что такое неволя… тем более для гордого коми-зырянина.
Сбросили царя с недоступного престола. Ой-ой как… грохнул-охнул, какой гром-звон, вздрогнула, застонала земля, плач и смех раздался. Народы радовались, богатеи темнели душой и стервенели. «Ленин дал волю! – говорили люди. – Ленин дал мир… Ленин дал землю!» Землю? – этого Гриш тоже не понимал… Ему не земля нужна, а угодья рыбные, угодья зверовые… а земля – что? Он часто слышал имя Ленина в партизанском отряде, когда они выкуривали из урманов колчаковские и кулацкие банды. Гриш уже знал, за что боролся – за реку, за тайгу, за небо над ними. Но сомневался Гриш, сомневался страшно, что такая голытьба, как он, действительно способна удержать власть в своих руках. Бедные. Драные. Голодные. Неграмотные. А рядом? Рядом все еще живут богатеи, у которых в руках и скот, и кони, и товары, и сети, и порох-дробь, а главное – уверенность в том, что они никуда не уйдут, О-ни не уй-дут! Да, наверное, они не уйдут…
Однажды у ночного костра, после горячей стычки с бандой, когда их со всех сторон обступила темнота и неизвестность, Роман Иванович Иванов, год назад выбранный председателем Мужевского сельсовета, поведал партизанам о Владимире Ильиче Ленине. И тогда Гриш услышал: Ленин – это человек, за которым стоит вся партия большевиков и трудящиеся всей земли. Ленин – вождь всех бедных, вождь всех угнетенных. Мир – чумам, война – хоромам! Ленин сказал: все люди – братья. И зырянин брат вогулу, брат остяку, и остяк – брат ненцу-ярану. Нет диких народов, есть дикие хозяева. Дикие, как волки. Волк берет не кусочек шкуры, а жизнь. Так и хозяин – вынимает у бедного душу. И вот Ленин против всех диких.
– Если уже поднялся весь народ, – говорил Куш-Юр, – то его нельзя победить никаким выродкам!
В самые трудные дни Гриш обретал веру в смысл жизни. Нет, прежде всего он верил в себя, и он не терял своей веры даже тогда, когда развалилась первая коммуна-парма, в которую он вложил свою душу, свой труд. Что ж, в чужие головы свои думы не вложишь! Не поняли еще люди преимущества общего труда – завтра поймут! Да и перехватили малость тогда, обобщив даже домашнюю утварь… горшки, черепки, петли-капканы. Это тоже надо понимать… В следующий раз уже нельзя делать таких ошибок! А кто поможет?
«Умер, умер он, Владимир Ильич, – опять застучало в висках Гриша. – Отлучились от страха, неужели в страх войдем? Надо развести великие костры, чтобы пламя небо доставало… звезды и луну. Чтобы на огонь пришли люди разных земель, люди разных лиц и обычаев… И все вместе думать стали, как дальше жить…»
4
Луна опустилась к горизонту за угрюмую стену лесистых увалов. Не слабеет северный ветер – резкий, жгучий. Медленно поднимается позднее утро. Льдистый ветер скоблит широкую улицу, раскачивает кедры, тоскливо гудит в печных трубах. Зря не выйдешь. Ох, как не хотелось Сеньке Германцу выходить во двор. Жеребенок что ребенок – пить давай, коли время тому пришло. Набросил Сенька на себя худенькую малицу, затянулся ремнем, как веник-голик, и натянул капюшон на брови. Прорубь на реке крепко затянуло льдом – никто, видно, еще не ходил сюда. Пробовал разбить – не мог, а с собой ничего не взял. Чертыхаясь, поплелся он с жеребцом по ровному, укатанному полю на север, к другой проруби. Ветер встречный, лютый, режет лицо, выжигает слезу. Пока шел, отморозил добела нос и щеки, но не почувствовал. Прорубь открыто парит. Напоил коня, маленько подумал, куда идти – назад ли по полю или между домами и по улице налево. «Да по ветру почти до самой избушки», – решил Сенька и тут почуял, что продрог до костей.
Озыр-Митька – Богатый Митька, – одетый в новую малицу и добрые кисы, внимательно разглядывал, правильно ли, прочно ли заложен фундамент двухэтажного дома. Озыр-Митька ставил его рядом со своей многокомнатной избой. Эту ночь он спал беспокойно, видел почему-то во сне черные флаги, людей в черных малицах, людей с темными лицами. Даже в такой мороз вышел проверить-прикинуть – не зряшная ли такая работа в смутную пору, когда не знаешь, куда и как повернет будущее.
Пока смотрел сруб, проверяя крепость венцов, услышал новость – умер Ленин. Да-да! Ночью из Обдорска прибыл нарочный, весть донес, что Ленина нет в живых. Эгрунька, сестра Озыр-Митьки, слышала от кого-то. Сейчас зять – ненец Яран-Яшка пошел к Варов-Гришу – узнает что-нибудь.
Сенька, низенький, маленький и щупленький, легко подгоняемый ветром, семенил с жеребцом по улице. Озыр-Митька, защищаясь от стужи, удивился, увидев его:
– Ты как попал в наш край?! Погода-то – ядрена палка! Может, прогуливаешься? Невесту ищешь, чтоб на жеребце прокатить, а? – захихикал он женским голосом.
Сенькину беду он знал. Сенька теперь один, без жены своей, без Парасси. Снюхалась она в Вотся-Горте с Мишкой-Караванщиком – «у них в коммуне все общее, всякая баба на всех!» – и, вернувшись в Мужи, в первое же лето уехала с ним на низ, за Обдорск. Всех троих сыновей забрала с собой, а троих дочерей, три пасти ненасытных, оставила Сеньке-придурку. Вот так-то! Корову заставила продать, а деньги – пополам. «Вот она, социализма, – хихикал Озыр-Митька. – Бабе волю дали, сравняли под мужика». Мишка, конечно, науськал ее. Своих-то, вылитых двух близнецов, рыжих Зинку-Зиновея и Минку-Миновея, жалко было оставлять без пая. А на Сандру, на законную жену свою, Мишке наплевать. Пришлось Сеньке Германцу под осень приобрести годовалого жеребенка, надеясь на будущего коня. Никакой другой живности нету при ветхой избушке. Вот и забота – утром и вечером водить жеребца на водопой.
– Чего молчишь? Невесту ищешь? – хихикая, говорил Озыр-Митька.
– Нет. Там стыло. Водил сюда, – лепетнул Сенька, потому что язык у него был «гнилой» – неповоротливый язык. И оттого слова у него неясные, мутные, ползут, как грязь на дороге.
– А-а… Постой-ка… – подозвал Озыр-Митька.
– Некогда…
– Да погоди, говорю. Есть вопрос.
– Какой вопрос? – Сенька остановился.
– Иди поближе… – подманивал Озыр-Митька, широко расставив ноги. Сенька подошел, ведя за собой жеребца.
– Говорят, умер Ленин, – прищурился Озыр-Митька.
– Какой Ленин? – не понял Сенька. – Какой такой?
– Он – один. Ленин-то…
– Не может быть!.. – Сенька испуганно отступил на шаг.
– Почему не может быть? Человек же он. Жил-жил да умер. Нахозяйничался… – Митька хихикнул.
– Вот беда-то… – съежился Сенька. – Как же мы жить будем?
– Как? По старинке, думаю… Вон Яшка идет. Сейчас узнаем. По старинке, чтобы богатые, крепкие разумом люди правили. А не рвань. Ну что, Яшка?
Яран-Яшка улыбался во все широкое лицо, бегло бросил на Сеньку взгляд и сказал:
– Правда, правда! Гришка палку для флага кончает делать. Длинную! Все плакают. О Ленине только и говорят. Не знают, как жить станут! Жалеют шибко…
– Вот видишь, Сенька Германец? А ты не верил. «Не может быть!» – передразнил Озыр-Митька. Он сразу заметил, что нос и щеки у Сеньки побелели, но ничего не сказал. Яшке и пробегающей мимо из дому белокурой красавице Эгруни кивнул и прищелкнул языком – пусть, мол, помучается ради праздника. Но Эгрунь не вытерпела, засмеялась громко:
– Заживет до новой Парасси!..
Сенька поморгал длинными закуржавелыми ресницами и, ничего не поняв, пожал плечами.
– Зачем Парасси? Горе случилось. – И печальный, скомканный, быстро повел жеребца.
Навстречу ему из-за угла соседнего дома вышел высокий, плечистый мужчина в малице с откинутым капюшоном. Угольно-черные кудрявые волосы закрывали уши. Гажа-Эль – Алексей-Гуляка – шел по улице, принюхиваясь и вглядываясь в окна. Сегодня, видать, не успел еще выпить – трезвый. Поздоровались, Гажа-Эль сразу же увидел обмороженное лицо Сеньки.
– Ты, Сенька, белый, как береста. Сгибнешь… Давай натирай!
Тот пощупал опухшие щеки и нос, посмотрел сердито на Озыр-Митьку и Яшку, принялся тереть лицо снегом. Эль свирепо взглянул на них, пострашал тяжелым, как кувалда, кулаком. Сенька начал говорить Гажа-Элю что-то очень важное.
– Якуня-макуня… – донеслась к Озыр-Митьке поговорка Гажа-Эля. – Умер?.. Ленин умер?!
Митька увидел, как Сенька и Эль посмотрели на него недобрым взглядом и свернули направо, между избами. Знать, к Варов-Гришу.
– Нашлись хозяева, голодранцы. – Озыр-Митька выругался негромко. – Мы – хозяева! Были и будем!..
5
К десяти часам утра не потеплело, хотя ветер приутих. Наоборот, мороз стал еще злее, сгустив воздух в зыбкий туман, в котором низкое солнце походило на луну. Солнце было без лучей. Солнце было холодным. Солнце было серым, ни одна живая краска не трепетала ни на небе, ни на земле. Только высоко над Нардомом кроваво-черно стекал по древку траурный кумач.
Люди, оповещенные с ночи, шли к Нардому, и еще никогда на улице поселка не было так много людей и никогда не было так тихо. Люди смотрели на траурный флаг и опускали глаза. И частицы их печали сливались воедино, становились такой огромной и нестерпимой скорбью, что каждый из этих людей бессознательно старался нащупать локтем локоть другого.
Люди стекались к Нардому, но почему-то не решались войти. Они плотной и молчаливой толпой обступали высокое крыльцо и замирали в нетерпеливом и тоскливом ожидании.
Чужеродно заскрипела в тишине дверь. На крыльцо вышел Куш-Юр. И тишина стала еще плотнее – такой плотной, что трудно стало дышать. Председатель сельсовета был без шапки. И люди, увидев его бескровное лицо, неузнаваемое от страдания, повинуясь какому-то единому побуждению, тоже обнажили головы.
Горячечные глаза Куш-Юра вглядывались в лица, в глаза тех, кто стоял перед ним. Увидел он комсорга Вечку, его помощника Халей-Ваньку и Пызесь-Мишку. Он судорожно сглотнул раздирающий горло плач и сказал совсем не то, что намеревался, ступая на крыльцо:
– Вот… Остались одни… Без Ленина…
И вдруг женское рыдание навылет прожгло сердца. Сдерживаемое всхлипывание пробежало по рядам, и Куш-Юру на миг показалось, что он не выдержит горя, и сердце его разорвется, и так будет лучше и легче. Но он овладел собой.
– Без Ленина… Он был нам вождем и отцом. Как отец, он хотел для нас счастливой жизни. И как вождь он вел нас к ней… Он дал нам силу в борьбе за нее. И теперь никакой богатей с черным сердцем не смеет поднять руку на то, что принадлежит нам!..
– Гм… – хмыкнул Степка сзади, в последнем ряду, возле своих молодчиков, подосланных отцами послушать, что болтает Куш-Юр. – Как не так…
– Колотранцы, – поддержал его и Яран-Яшка.
Куш-Юр не слышал. Голос его креп от слова к слову. Светлело лицо. Во взгляде прежняя непримиримая твердость.
– Все, что дал нам Владимир Ильич Ленин, никогда не умрет, и старое никогда не вернется! И пока бьются наши сердца, он будет жить в них! Он будет жить в сердцах сыновей, а потом и внуков. Он хотел для нас счастья – и мы будем счастливы. Сегодня у нас огромное горе. Умер Ленин. Но есть на земле мы… И каждый шаг наш к общему счастью – частица его, ленинского, дела! И это бессмертно!
Морозный туман густел над селом. Каменела тишина. И люди стояли неподвижно. Стекало на них алое зарево от склоненного знамени. И огонь этот был негасим.
Глава 2
В Урмане
1
В феврале Варов-Гриш, изгнав из души печальные заботы, встал на лыжи, позвал собаку и собрался в лес – глухаря добыть да хоть того же косача. Опоясался патронташем, на поясе – нож, за поясом – топор.
– Побегли! – Он приласкал собаку, а та уже рванулась к темнеющему кедрачу, тоненько поскуливая, переполненная нетерпением и азартом охоты. Казалось, Мужи потонули в кондовой тайге,[5]5
Кондовая тайга – конда – крепкий, плотный, здоровый лес.
[Закрыть] в кедрачах, в сосновых борах и ельниках, непроходимых урманах,[6]6
Урман – дремучий, необитаемый лес.
[Закрыть] но это на взгляд нездешнего, пришлого человека. Вокруг села клубились, переплетались, впадали одна в другую звериные и людские тропы, петляли вокруг болот и уводили в охотничьи угодья местных остяков. Крупную боровую дичь, глухаря да косача, пришлые охотники распугали, выбили за многие годы: и петли ставили, и слопцы. Но рябчик посвистывал в таежных ольховниках, да куропатка квохтала по моховым клюквенным болотам. Зайцы истоптали тальники мелких речушек.
Не раз пересекал Варов-Гриш то лисий след, то мелкий стежок горностая, то беличью тонкую цепочку. Давно он не ходил в урман, и сейчас ему бежалось легко, лыжи словно сами тянули в заснеженную зачарованность леса.
День оказался удачным. Гриш снял трех косачей и добыл глухаря да пяток куропаток. Он уже собрался повернуть домой и спустился в неглубокий распадок, и тут лайка насторожилась, забеспокоилась. Варов-Гриш, всматриваясь в синеватые сумерки, различил в устьице распадка невысокий, словно потаенный, костерок. У костерка стояли люди, держали под уздцы коней, и, приближаясь к ним, Варов-Гриш понял, что те кого-то ждали, перебрасываясь короткими фразами, в которых слышалось нетерпение. Одного Варов-Гриш узнал, то был Яран-Яшка, двое других были незнакомыми. Он решил не выходить на костер и прислонился к кряжистой сосне. Вскоре на тропе появилась третья подвода, из нее выпрыгнул Озыр-Митька в толстой малице и с винтовкой за спиной.
– Что долго? – грубым голосом спросил один.
– Путь не близкий… Куш-Юр возле дома крутился, – ответил Озыр-Митька. – Нюхает. Два глаза, а хочет видеть как десять…
– Пуганите его, – резко перебил грубый голос. – Скоро он вас как щенят передавит…
– Не передавит! – захохотал Яран-Яшка и тронул лошадь. Маленький обоз свернул на проторенную тропу, что обегала ельник, и вскоре исчез, словно его и не было.
«Снова грудятся! – подумал Варов-Гриш. – Богатеи так и сбиваются в стаю. Выбили банды из лесов, так они опять на какое-то темное дело собираются. Может, яму с осетром где вскроют… А может, остяков ограбят? Нужно сказать Куш-Юру…»
Не догнать ему маленький караван. Варов-Гриш и не думал идти по следу, но его насторожила деловитая собранность этих людей и властность человека с грубым голосом. Такой голос был у волостного начальника, но того давно выкинули. Их, тех прежних, многих выкинули, да они возвращались, как оборотни.
Варов-Гриш осторожно приблизился к затухающему костру. Ведь стоянка, пусть короткая, может многое поведать. Двое были в валенках – эти, наверно, русские. Здесь наследил Яран-Яшка, он приволок сухару и суетился, раскидывая костер, а вот здесь, под елью, стоял в кованых сапожищах грубоголосый. Видать, вовсе не из этих мест, но почему-то не хоронится, в таких сапогах он каждому приметен. Водку наскоро выпили, стоя, бутылка горлышком торчала из сугроба, у костра маленько насорили осетровой шкуркой. И больше ничего… А почему таятся? Куда пошли-поехали, чего задумали? Однако в каждом опасность угадывать, ходить в лес да оглядываться? Нет. Подохнуть можно от такой жизни.
«Но вызнать их следует, – решил Варов-Гриш и позвал собаку, что шарила по кустам. – Домой пора… Елення поди заждалась. Да Илька просил беличий хвостик. Эх ты, Илька, родимая душа! Неужели не суждено тебе ходить на охоту?»
И незаметно со всех сторон набежали думы… думы… думы…
2
С двумя братьями, Петул-Васем и Пранэ, выехал он рыбачить тем летом верст за пятнадцать от Мужей в Васяхово. Началась путина, и торопился Гриш запастись рыбой на долгую зиму. Ильке минуло тогда три года – крепенький, подвижный, смышленый поднимался мальчонка, дружелюбный и доверчивый, и оттого знали его не только в селе, но и окрестные остяки, что по делам наведывались в Мужи. Тянулся он к людям, юркий и веселый, как бурундучок – посвистывал дроздом, кричал кукушей-кеня, ухал, словно филин-сюзь. Пел непереводимые птичьи песни, и за легкость звенящего смеха его одаривали люди кедровой шишкой, манком на рябчика, обломанной блесенкой на щуку, лебединым пером или беличьим хвостиком на забаву.
Но случилась беда, подстерегла росомахой. Собралась мать Елення на рыбацкий стан к Гришу, а Илька намертво вцепился в нее – «бери к отцу». Так и этак билась с ним Елення – как смоляной прилип. Не выдержала, взяла.
Заштормовала Обь, забилась волна в борта лодки-калданки,[7]7
Калданка – сшитая древесными корнями из трех тонких досок лодка. Донная часть долбленая.
[Закрыть] северный ветер просквозил, выстудил мальчонку, и заледенел Илька хрупкой веточкой – руки-ноги ломала мерзлота изнутри. Заметался отец, ударилась в слезы Елення. К полудню голову мальчика свело набок, руки и ноги скрючило судорогой. Он впал в беспамятство. Елення не находила себе места, не выдержал и Гриш: обхватил голову руками, заплакал. Полгода кормили сына с ложечки. Постепенно голова выпрямилась, возвратилась речь, а ноги не действовали и стали сохнуть.
Дядька Петул-Вась, что служил в армии санитаром-ветеринаром, осмотрел Ильку и заявил сурово:
– Паралич.
Всех окрестных бабок и гадалок обегала Елення. Она дала обет: если сын поправится, пешком сходить в Абалакский монастырь, что возле Тобольска, за полторы тысячи верст. Елення впустила в себя чувство неискупимой виноватости перед сыном, впустила и принялась выращивать в себе то истовое страдание, что называется беззаветной материнской любовью. Как это – бегать, прыгать, залезать бельчонком в кроны кедров – и вдруг! Вдруг после трехлетней жизни, что начинала раскрывать свои маленькие чудеса и тайны, что ревела бурей над лесом и шептала шорохом звезд, кедровой хвоинкой и хрустким треском растущего гриба, вновь учиться ползать, распластавшись по земле.
По совету Петул-Вася Ильку каждый вечер сажали в деревянное корыто с горячей водой, сдобренной муравьиными настоями, укрывали с головой покрывалом. Мальчик задыхался, ревел, но его парили и парили, приговаривали:
– Коньэр ты наш! Потерпи чуток… Потерпи, коньэр-калека!
Началась бесконечная, изо дня в день, из часа в час, борьба за маленькое существо. И не только Елення – мать, терпеливая мать, принявшая на себя виновность, но и отец – Гриш, и дядьки, и тетки, и все село Мужи пыталось спасти ребенка. Сбереги его, Земля! Дай силы ему, Земля!
Илька полз по грани жизни и гибели. Выздоровеет, но поднимется ли на ноги? Хватит ли души взнуздать себя и прийти к людям, не вызывая у них жалости?
– Не горюй, детка, – жалеет бабушка Анн. – В твоем роду по дедушке-бабушке и певуны, и плясуны бывали. Даже иконы малевал один. Тоже был калека-коньэр. Аристархом звали. Авось Бог пожалеет – и тебя одарит уменьем к чему-нибудь. А сейчас слушай!
И добрая бабушка Анн пела ему песни, что придумывала на ходу. И песни ее были все время разными, редко они повторялись. Илька тоненьким голоском подпевал бабушке.
– Не горюй, детка! – ласковой ладошкой прикасалась бабушка к его головке. – Бог и тебя одарит каким-то уменьем, только ни ты, ни я еще не знаем. Крепись…
3
В голубовато-серебристом свете зимней луны Варов-Гриш пересек речку Юган и быстро поднялся на взгорок к селу. В окнах тепло желтели огоньки, а над каждой крышей повисал легонький столбик синеватого дыма. Пахнуло березовым угольком, смоляной чуркой, потянуло запахом ухи и едва уловимым теплом хлеба. И серебристую эту тишину совсем не разрушали ленивый покойный брех собак, всхрап коней и позвенькивание уздечки, мирный вздох коровы и помекивание овец. Тихо… мирно, но в каждой избе живет и не уходит своя забота.
Варов-Гриш распахнул дверь и первым, кого он увидел, был Илька. Он сидел на полу, на оленьей шкуре среди деревянных коней и оленьих бабок – костей от студня. Прутиком-кнутиком собирал он их в табун. Кони откатывались на колесиках, а олени падали в густую шерсть шкуры.
– Ах! Папка! – протянул ручонки Илька. – Из урмана пришел! Кого ты видел в лесу, айэ! Ты видел зайку?
– Видел, видел, Илька! Он тебе куропатку прислал, – ответил Гриш, доставая из котомки птицу.
– Ты, айэ, видел в лесу и лисенка? – зажглись у Ильки глазенки, и он бочком-бочком, перебирая руками, подполз к отцу.
Елення отряхнула с отца снег, приняла ружье и патронташ, а Гриш присел на лавку и вынул из котомки чернущего косача с фигурным, изогнутым хвостом.
– Лисенок тебе косачонка послал! Как же! И лисенка видел!
– М-не?! Это он м-не коса-чонка?! – захлебнулся от радости Илька и принял в ладошку косача. – Он знает обо мне, лисенок!
– О тебе спрашивал и волчонок, – ответил отец. Он черпанул ковшиком воды и, не переводя дыхания, выпил до дна. – Волчонок кланяется тебе глухаренком.
– О-ой-ей-о! – зазвенел смехом Илька. – Это, айэ, не глухаренок, это же глухарище! – Илька пытался поднять над полом огромную птицу, но не хватило силенок. – Какие у него огненные брови, смотрите, какой у него клюв. Он, наверное, у него железный?
Илька крутился на шкуре вокруг птиц, забыл про оленьи бабки и разглядывал отливающие синевой перья, и мощные крылья, и сильные когтистые лапы. Но больше всего он обрадовался белке, гладил ее дымчатую шубку.
– Скоро приду! – кивнул Гриш Еленне и направился к Куш-Юру.
Тот сидел возле коптящей лампы и проваренной дратвой подшивал валенки. Он квартировал у Абезихи в маленькой комнатенке. Тут же жил и маленький сын Абезихи. Гриш плотно закрыл дверь и стал рассказывать полушепотом о виденном в урмане.
– То, что Озыр-Митька враг и контра, за версту видно, – не торопясь ответил Куш-Юр. Он обрадовался тому, что Варов-Гриш не пропустил эту странную встречу, а вдумался в нее серьезно и настороженно. Надежный человек Варов-Гриш, можно опереться на него. Здорово, что Варов-Гриш, никому ничего не говоря, сразу пришел к нему, к Советской власти. Умница Гриш!
– А Яран-Яшку Митька совсем прибрал к рукам, собакой своей сделал. Чужих, посторонних людей в селе тоже не видел? Они заранее встречу свою обговорили. Что задумали, нечистая сила, даже представить не могу. Гнаться за ними, ты прав, Григорий, не по закону – на промысел, мол, направились. Что за промысел? Их, брат, надо за руку ловить.
– Ну, гляди! – согласился Гриш. – Тебя упредил, так будь насторожен. А может, Озыр-Митьку прижмешь, глядишь – расколется!
– Ну, Григорий, не ожидал от тебя, – развел руками Куш-Юр. – За что же его прикажешь прижимать? Ну?! То, что тайком, в сумерках, в лесу собрались? А для чего они собрались? Может, в стадо на Урал направились, а? У Озыр-Митьки ведь есть олени. Может, менять что-нибудь у остяков? Как прижмешь, ежели он к родственникам направился? Нету у меня такого закону, чтобы по подозрению человека забирать.








