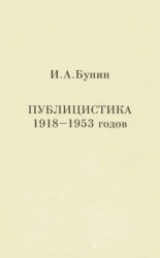
Текст книги "Публицистика 1918-1953 годов"
Автор книги: Иван Бунин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 56 страниц)
Октябрь *
«Ксения», 18 октября 1905 года.
Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни все время стояли серенькие, сонные, жизнь наша с М<арьей> П<авловной> и «мамашей» (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех позавчера перед вечером: вдруг зазвонил из кабинета А<нтона> П<авловича> телефон, и, когда я вошел туда и взял трубку, С<офья> П<авловна> стала кричать мне в нее, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действуют телеграф и почта, государь уже в Германии – Вильгельм прислал за ним броненосец… Тотчас пошел в город – какие-то жуткие сумерки и везде волнения, кучки народа, быстрые и таинственные разговоры – все говорят почти то же самое, что С<офья> П<авловна>. Вчера стало известно уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят… Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф были закрыты. Меня охватил просто ужас при мысли застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань, слава Богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.
Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет «Ксения». На душе тяжесть, тревога, погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет горы изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее.
В Севастополе тотчас сбежали с парохода, побежали в город. Купил «Крымский вестник», с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову и вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест о даровании свободы слова, союзов и вообще «всех свобод». Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в «Крымский вестник». Возле редакции несколько человек чего-то ждут. В кабинете редактора (Шапиро) прочел, наконец, манифест. Какой-то жуткий восторг, чувство великого события.
Сейчас (ночью на пути в Одессу) долгий разговор с вахтенным на носу. Совсем интеллигентный человек, только с сильным малорусским акцентом. Настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая. Говорит, не оборачиваясь, глядя в темную равнину бегущего навстречу моря.
Одесса 19 октября.
Возле Тарханкута, как всегда, стало покачивать. Разделся и лег, волны уже дерут по стене, опускает все ниже. Качка мне всегда приятна, тут было особенно приятно – как-то это сливалось с моей внутренней взволнованностью. Почти не спал, все возбужденно думал, в шестом часу отдернул занавеску на иллюминаторе: неприязненно светает, под иллюминатором горами ходит зеленая вода, и из-за этих гор – рубин маяка Большого Фонтана. Качает так, что порой совсем кладет.
Пристали около восьми, утро сырое, дождливое, с противным ветром. В тесноте, в толпе, в ожидании сходен, узнаю от носильщиков, кавказца и хохла, что на Дальницкой убили несколько человек евреев, – будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придал особого значения этому слуху, может, и ложному. Приехав в Петербургскую гостиницу, увидал во дворе солдат. Спросил швейцара: «Почему солдаты?» Он только смутно усмехнулся. Поспешно напился кофию и вышел.
Небольшой дождь, сквозь туман сияние солнца – и все везде пусто: лавки заперты, извозчиков нет. Прошел, ища телеграммы, по Дерибасовской. Нашел только «Ведомости Одесского градоначальства». Воззвание градоначальника, – призывает к спокойствию. Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию «Южного обозрения». Тесное помещение редакции набито евреями с грустными серьезными лицами. К стене прислонен Большой венок с красными лентами, на которых надпись: «Павшим за свободу!». Зак, Ланде (Изгоев). Он говорит: «Последние дни наши пришли!». – «Почему?» – «Подымается из порта патриотическая манифестация. Вы на похороны пойдете?» – «Да ведь могут голову проломить?» – «Могут. Понесут по Преображенской».
Пока пошел к Н<илусу>. Вдоль решетки городского сада висят черные флаги. С Н<илусом> пошел к Куровским. Куров-ский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг. Флаг подняли, затем потребовали похоронить «павших за свободу» на Соборной площади, на что дума опять согласилась.
Когда вышел с Куровским и Н<илусом>, нас тотчас встретил один знакомый, который предупредил, что в конце Преображенской национальная манифестация уже идет, и босяки, приставшие к ней, бьют кого попало. В самом деле, навстречу в панике бежит народ.
В три часа после завтрака у Б<уковецкого> узнали, что грабят Новый базар. Уже образована милиция, всюду санитары, пальба… Как в осаде, просидели до вечера у Б<уковецкого>. Пальба шла до ночи и всю ночь. Всюду грабят еврейские магазины и дома, евреи будто бы стреляют из окон, а солдаты залпами стреляют в их окна. Перед вечером мимо нас бежали по улице какие-то люди, за ними бежали и стреляли в них «милиционеры». Некоторые вели арестованных. На извозчиках везли раненых. Особенно страшен был сидевший на дне пролетки, завалившийся боком на сиденье, голый студент – оборванный совсем почти догола, в студенческой фуражке, набекрень надетой на замотанную окровавленными тряпками голову.
20 октября.
Ушел от Б<уковецкого> рано утром. Сыро, туманно. Идут кухарки, несут провизию, говорят, что теперь все везде спокойно. Но к полудню мы с Куровским хотели выйти за город, улицы опять опустели. С моря повсюду плывет густой туман.
Возле дома Городского музея, где живет Куровский, – он хранитель этого музея, – в конце Софийской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилились так, что казалось, что в городе идет настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота. Дом музея – большой трехэтажный – стоит на обрыве над портом. Мы поднимались днем на чердак и видели оттуда, как громили в порту какой-то дом. Вечером нам пришло в голову, что, может быть, придется спасаться, и мы ходили в огромное подземелье, которое находится под музеем. Потом опять ходили на чердак, смотрели в слуховое окно, слушали: туман, влажные силуэты темных крыш, влажный ветер с моря и где-то вдали, то в одной, то в другой стороне, то поднимающаяся, то затихающая пальба.
21 октября.
Отвратительный номер «Ведомостей Одесского градоначальства».
В городе пусто, только санитары и извозчики с ранеными. Везде висят национальные флаги. В сумерки глядели из окон на зарево – в городе начальство приказало зажечь иллюминацию. Зарево и выстрелы.
22 октября.
От Б<уковецкого> поехал утром в Петербургскую гостиницу. Извозчик говорил, что на Молдаванке евреев «аж на куски режут». Качал головой, жалел, что многих режут безвинно-напрасно, негодовал на казаков, матерно ругался. Так все эти дни: все время у народа негодование на «зверей казаков» и злоба на евреев.
Солнце, влажно, пахнет морем и каменным углем, прохладно.
В полдень пошел к Куровскому, – город ожил, принял совсем обычный вид: идут конки, едут извозчики…
Часа в три забежала к кухарке Куровских какая-то знакомая ей баба, задыхаясь сообщила, что видела собственными глазами: идут на Одессу парубки и дядьки с дрючками, с косами; будто бы приходили к ним нынче утром, – ходили по деревням и по Молдаванке – «политики» и сзывали делать революцию. Идут будто и с хуторов, все с той же целью – громить город, но не евреев только, а всех.
Куровский говорит, что видел, как ехал по Преображенской целый фургон солдат с ружьями, – возле гостиницы «Империаль» они увидали кого-то в окне, остановили фургон и дали залп по всему фасаду.
– Я спросил: «По ком это вы?» – «На всякий случай».
Говорят, будто нынче будет какая-то особенная служба в церквах – «о смягчении сердец».
Был художник Заузе и скульптор Эдварс. Говорили:
– Да, с хуторов идут…
– На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно, зверски…
– На Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, «ура», затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки – и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат – и тоже мимо, улыбаясь.
– «Южное обозрение» разнесено вдребезги, – оттуда стреляли…
Заузе рассказывал: ехал вчера на конке по Ришельевской. Навстречу толпа громил, кричит: «Пропустите конку!» Конка идет среди толпы. Громилы кричат: «Встать, ура государю императору!» И все в конке подымаются и отвечают: «Ура!» Сзади спокойно едет взвод солдат.
Много убито милиционеров. Санитары стреляют в казаков, и казаки убивают их.
Куровский говорит, что восемнадцатого полиция была снята во всем городе «по требованию населения», то есть думой по требованию ворвавшейся в управу тысячной толпы.
В городе говорят, что на слободке Романовке «почти не осталось жидов».
Эдварс говорил, будто убито тысяч девять.
Поезда все еще не ходят. Уеду с первым отходящим.
Сумерки. Была сестра милосердия, рассказывала, что на слободке Романовке детей убивали головами об стену; солдаты и казаки бездействовали, только изредко стреляли в воздух. В городе говорят, что градоначальник запретил телеграфу принимать депешу думы в Петербург о том, что происходит. Это подтверждает и Андреевский (городской голова).
Уточкин, – знаменитый спортсмен, – при смерти; увидал на Николаевском бульваре, как босяки били какого-то старика-еврея, кинулся вырывать его у них из рук – «и вдруг мне точно ветерком пахнуло в живот». Это его собственное выражение. Подкололи его под самое сердце.
Вечер. Кухарка Куровских ахает, жалеет евреев, говорит: «Теперь уже все их жалеют. Я сама видела – провезли их целых две платформы, половили в степу, – от несчастные, Господи! Трусятся, позамерзли. Их сами казаки провожали, везли у приют, кормили хлебом, очень жалели…»
Русь, Русь!
Его памяти *
В последний раз я видел его месяца полтора тому назад, навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного блеска и царственности было в нем еще столько, что мы ушли пораженные. Он сидел в кресле в углу столовой, возле зажженной под абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев… Такого величия и благородства я в нем прежде никогда не видал. В молодости, в годы мужества он был все-таки не тот.
Какая была в нем кровь? Та особая, северно-русская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых… И, несомненно, еще и какая-то другая, не русская, а варяжская, как мне кажется.
Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:
– Нет, он поет слишком громко.
Есть еще и до сих пор великое множество умников, искренно убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал ни в жизни ни в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв его о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем изумительным достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, – высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, – ему было тогда лет двадцать пять, – особенно: на избыток, даже на некоторую неумеренность его всяческих сил. Это уже давно избито, но совершенно справедливо: в Шаляпине было очень много истинно былинного, богатырского, данного ему от природы, а отчасти и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть простым, спокойным! Чехов шутил:
– Слава подобна морской воде, – чем больше пьешь, тем больше жаждешь.
Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить (и особенно при его страстной, буйной, ненасытной натуре), что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Как-то он показал мне карточку своего отца:
– Вот посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!
Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? «Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного»… Точно ли «со дна»? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не Бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено и вообще все детство, все отрочество Шаляпина, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, – например, какой-то кузнец, что-то уж очень красиво говоривший ему о пении:
– Пой, Федя, – на душе веселей будет! Песня – как птица, выпусти ее, она и летит.
И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, – от приятельства с кузнецом, каков бы он ни был, до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция все-таки огромного размера. Была его жизнь и счастлива беспримерно, во всех отношениях: дал ему Бог «в пределе земном все земное»! Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов.
Я однажды жил рядом с Баттистини в Лондонской гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал целые десятилетия, и вот вспоминаю: половина наших встреч с ним – сидения по ресторанам. Водка, красное вино, рейнское вино, шампанское, несметное количество папирос… Когда и где познакомились мы с ним, не помню. Но помню, что перешли на ты однажды ночью в Большом Московском трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском великолепных хрустальных люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла фигура желтоволосого Шаляпина. Он орлиным взглядом окинул оркестр – и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил и неаполитанцев и всех пирующих при этой нежданной «королевской» милости! Пили мы в ту ночь до утра, а утром, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь и целуясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал этаким волжским тенорком:
– Думаю, Ваня, что ты очень выпивши, и поэтому решил поднять тебя в твой номер на своих собственных плечах.
– Не забывай, – сказал я, – что живу я на пятом этаже и не так уж мал.
– Ничего, милый, – ответил он, – как-нибудь донесу!
И, действительно, донес, как я ни отбивался. А, донеся, угостил – потребовал через дежурного коридорного бутылку «столетнего» бургонского за целых сто рублей (которое, увы, оказалось похожим на малиновую воду).
Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя все-таки до безрассудства. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, – и чаще всего самыми крепкими, – было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз – градусов тридцать, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой богатырский рост, распахнувши на груди шубу, говорит и хохочет во все горло, жжет папиросу за папиросой – аж искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:
– Как тебе не стыдно, что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!
– Ты умный, Ваня, – ответил он сладким говорком, – только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.
– Надоел ты мне со своей Русью! – крикнул я.
– Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?
– За то, что не щеголяй в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, да в поддевочках, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым и Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, – помни, кто ты и кто они.
– А кто ж я такой? Чем от них отличаюсь?
– Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а радости, очарования, которое дает только талант, гений, от них ни на грош.
– А от меня?
– Ты Лазаря-то не пой, отлично знаешь, что я хочу сказать. Им до тебя как до звезды небесной далеко.
– Пьяные, Ваня, склонны иногда под видом брани льстить.
– И то правда, – сказал я, смеясь. – А ты все-таки замолчи и запахнись.
– Ну, ин, будь по-твоему…
И вдруг так рявкнул, что лошадь рванула и понесла еще пуще:
– У Карла есть враги!
В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радушного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал наши чтения, – хотя терпеть не мог слушать, – иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел – то народные русские песни, то французские шансонетки, то «Блоху», то «Марсельезу», то «Дубинушку» – и все так, что дух захватывало и от несравненной прелести и от силы его голоса.
Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:
– Братцы, петь хочу!
Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:
– Петь до смерти хочется. Возьми лихача и немедля приезжай. Будем петь всю ночь.
И, когда Рахманинов приехал, не дал ему даже напиться чаю. Это было в самый разгар его славы, его блеска, и легко себе представить, что это за вечер был – соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин пел в тот вечер так, что даже сам сказал:
– Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.
Так пел он однажды и у нас в гостях, на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вдруг вызвался петь (хотя делал это редко, любил говорить: «Бесплатно только птички поют!»). И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание… Когда, с год тому назад, я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:
– Помнишь, Ванюша, как я пел у тебя на Капри?
Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:
– Неплохо пел! Дай Бог так-то всякому!
Я нездоров, не выхожу из дому. Мысленно кланяюсь ему на его смертном ложе, целую его последним целованием.
Париж, 15-IV-38.
О Шаляпине *
Шаляпин, Чехов и «верблюды».
В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним голосом: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желанием слыть не только знаменитым певцом, но и «передовым человеком», идейным, общественным, – пусть, мол, сходит с ума от Собинова та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходить с ума от теноров. Думаю, что Шаляпина тянуло к нам вполне бескорыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:
– Да за чем же дело стало?
– Да за тем, – отвечал он, – что Чехов нигде не показывается, что все нет случая представиться ему.
– Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.
– Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком.
– Ну, полно, это ты сейчас дурака валяешь.
– Бог свидетель, нисколько не валяю. Вот если б ты свез меня как-нибудь к нему…
Я не замедлил сделать это и убедился, что все было правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать… А вышел от него в полном восторге:
– Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.
– Спасибо, – сказал я, смеясь. Он захохотал на всю улицу.
Есть знаменитая фотографическая карточка, – знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров, – та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московском немецком ресторане «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:
– Опять сниматься! Все снимаемся! Сплошная собачья свадьба.
Скиталец обиделся:
– Почему же это свадьба, да еще собачья? – ответил он своим грубо-наигранным басом. – Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие.
– А как же это назвать иначе? – сказа я ему. – Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней, «гордо реет буревестник, черной молнии подобный», а что в Москве, Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова и всех ваших милостей, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну…
Некто прозвал себя в мире скитальцем И по трактирам скитался действительно…
Дело грозило перейти в крупную ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал:
– Браво, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер и крышка ему.
– Да, – подхватил Горький, – писал, писал – и околел.
– Как например я, – сумрачно сказал Андреев. – Околею в первую голову.
Он это постоянно говорил, все жаловался на сердце, на ужасные головные боли. И пророчество его, увы, оправдалось.
Все считали Шаляпина очень левым, даже революционером, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» в конце «Двух гренадеров» или «Блоху», в которой тоже усматривали нечто революционное, сатанинское, издевательское над королями:
Жил был король когда-то, При нем блоха жила…
И вот, что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем, – по всей России прокатился умопомрачительный слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущению Шаляпиным не было конца-краю; Амфитеатров был так возмущен, что возвратил Шаляпину его фотографическую карточку с дружеской надписью. И сколько раз потом оправдывался бедный Шаляпин в этом своем прегрешении! А какое же было прегрешение?
– Как же мне было не стать на колени? – говорил он. – Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, которое было просто нищенским, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и стал. И что же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косой скосило на сцене, – весь он оказался на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!
В России я видел его в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин, встреченный оркестром музыки на Финляндском вокзале, когда он тотчас же внедрился в особняк Кшесинской. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю почему, мы с Шаляпиным явились на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго и высокопарно и затем объявил:
– Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!
Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами и вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он очень решительно сказал прибежавшему:
– Я не трубочист и не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.
Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:
– Вот, брат, какое дело: и петь нельзя и не петь нельзя, – ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.
И так и не стал, несмотря на рев из зала.
А в прошлом году, в июне, я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался он, по крайней мере, необыкновенно. Он всегда волновался, при всех своих выступлениях, – это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, – войдя в свою уборную, они падали просто замертво, были бледны как смерть. То же самое бывало, думаю, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом, последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его великий талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял как в тумане, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил меня:
– Ну, что, как я пел?
– Конечно, превосходно, дорогой мой, – ответил я. И пошутил:
– Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.
– Спасибо, пожалуйста, подпой, – ответил он со смутной улыбкой. – Мне, брат, нездоровится, уезжаю в Австрию, в горы. А ты?
Я опять пошутил:
– Да мне что ж уезжать, я почти всю зиму провел в горах: то Монмартр, то Монпарнас.
Он рассеянно и ласково улыбнулся.








