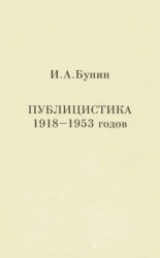
Текст книги "Публицистика 1918-1953 годов"
Автор книги: Иван Бунин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 56 страниц)
Записи (о Семеновых-Тянь-Шанских и А. П. Буниной) *
Недавно исполнилось столетие со дня рождения П. П. Семенова-Тянь-Шанского. Оно было отмечено собраниями его почитателей в Англии, в Чехии, в Югославии, но во Франции прошло совсем незамеченным, так что я узнал о нем только от В. П. Семенова-Тянь-Шанского, сына знаменитого ученого, живущего эмигрантом в Финляндии и порой родственно переписывающегося со мной (Семеновы давние родственники Буниных). От него же стало мне известно и о печальной участи обширных мемуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том (во всем Зарубежьи существующий только в единственном экземпляре). В. П. прислал мне этот том на прочтение и рассказал историю второго, печатание которого совпало с революцией, и к октябрьскому перевороту доведено было до 11-го листа, на чем и остановилось: большевики, захватив власть, как известно, тотчас же ввели свое собственное правописание, приказали по типографиям уничтожить все знаки, изгнанные ими из алфавита, и поэтому В. П., лично наблюдавший за печатанием мемуаров, должен был или бросить дальнейший набор второго тома, или же кончать его по новому правописанию, то есть, выпустить в свет книгу довольно странную по внешнему виду. Стараясь избегнуть этой странности, В. П. нашел одну типографию, тайно не исполнившую большевистского заказа, преступные знаки еще не уничтожившую. Однако, заведующий типографией, боясь попасть в Чеку, соглашался допечатать книгу по старой орфографии только при том условии, что В. П. доставит от большевиков письменное разрешение на это. В. П. попытался это сделать и, конечно, получил отказ. Ему ответили: «Нет, уж извольте печатать теперь ваши мемуары по нашему правописанию: пусть всякому будет видно с двенадцатого листа их, что как раз тут пришла наша победа. Кроме того, ведь вам теперь даже и наше разрешение не помогло бы: знаки прежнего режима во всех типографиях уничтожены. Если же, паче чаяния, вы нашли типографию, их еще сохранившую, прошу вас немедля назвать ее, чтобы мы могли упечь ее заведующего куда следует». Так, повторяю, книга и застряла на одиннадцатом листе, и что с ней сталось, не знает, кажется, и сам В. П. (вскоре после того покинувший Россию). Он мне писал о ней только то, что сказано выше, и прибавлял: «В этом втором томе описывается экспедиция отца в Среднюю Азию. В нем много ценного научного материала, но есть страницы интересные и для широкой публики, – например, рассказ о том, как отец встретился в Сибири с Достоевским, которого он знал с ранней молодости, – как есть таковые же и в третьем и в четвертом томах, ярко рисующие настроения разных слоев русского общества в конце пятидесятых годов, затем эпоху великих реформ, Александра II и его сподвижников…»
О Достоевском говорится и в первом томе, который некоторое время был у меня в руках. Этим страницам предшествует рассказ о кружке Петрашевского и о самом Петрашевском. Мы собирались у Петрашевского регулярно, по пятницам, рассказывает П. П. Мы охотно посещали его больше всего потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать для нас приятные вечера – сам он всем нам казался слишком эксцентричным, если не сказать сумасбродным. Он занимал должность переводчика в министерстве иностранных дел. Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в этом качестве на процессы иностранцев или на описи вымороченных имуществ, особливо библиотек. Тут он выбирал для себя все запрещенные иностранные книги, подменяя их разрешенными, и составлял из них свою собственную библиотеку, которую и предлагал к услугам всех своих знакомых. Будучи крайним либералом, атеистом, республиканцем и социалистом, он являл собой замечательный тип прирожденного агитатора. Всюду, где было можно, он проповедовал смесь своих идей с необыкновенной страстностью, хотя и без всякой связности и толковости. Для целей своей пропаганды он, например, стремился стать учителем в военно-учебных заведениях, заявляя, что может преподавать целых одиннадцать предметов; когда же был допущен к испытанию по одному из них, начал свою пробную лекцию так: «На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения…» и действительно изложил их все, хотя в учителя так и не был принят. В костюме своем он отличался тоже крайней оригинальностью: носил все то, что так строго преследовалось тогда, то есть длинные волосы, усы, бороду, ходил в какой-то испанской альмавиве и в цилиндре с четырьмя углами… Один раз он пришел в Казанский собор в женском платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся; тут его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумлен ное внимание соседей; к нему подошел наконец квартальный надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина»; но он дерзко ответил: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина», и так смутил квартального, что мог, воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора…
Вообще наш кружок, говорит мемуарист далее, не принимал Петрашевского всерьез; но вечера его все же процветали и на них появлялись все новые и новые лица. На этих вечерах шли оживленные разговоры, в которых писатели облегчали свою душу, жалуясь на жестокие цензурные притеснения, бывали литературные чтения, делались рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем освещением, которое недоступно было тогда печатному слову, лились пылкие речи об освобождении крестьян, которое казалось нам столь несбыточным идеалом, Н. Я. Данилевский выступал с целым рядом докладов о социализме, о фурьеризме, которым он в ту пору особенно увлекался, Достоевский читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и страстно обличал злоупотребления помещиков крепостным правом… Переходя к Достоевскому, автор говорит, что первое знакомство его с ним произошло как раз в то время, когда Достоевский вошел в славу своим романом «Бедные люди», рассорился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать кружки Петрашевского и Дурова.
Вообще я знал его довольно долго и близко, говорит он И вот, что, между прочим, мне хочется сказать. Никак не могу, например, согласиться с утверждением многих, будто Достоевский был очень начитанный, но необразованный человек. Я утверждаю, что он был не только начитан, но и образован. В детские годы он получил прекрасную подготовку в отцовском доме, вполне овладел французским и немецким языками, так что свободно читал на них; в Инженерном училище систематически и усердно изучал, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику; а широким дополнением к его специальному образованию послужила ему его большая начитанность. Во всяком случае можно смело сказать, что он был гораздо образованней многих русских литераторов. Лучше многих из них знал он и русский народ, деревню, где жил в годы своего детства и отрочества, и вообще, был ближе к. крестьянам, к их быту, чем многие из зажиточных писателей-дворян, что, кстати сказать, не мешало ему очень чувствовать себя дворянином, каковым он и был на самом деле, а кое в чем проявлять даже излишние барские замашки. Немало говорили и писали о той нужде, в которой Достоевский будто бы находился с молодости. Но нужда эта была весьма относительна. По-моему, не с действительной нуждой боролся он тогда, а с несоответствием своих средств и своих желаний. Помню, например, нашу с ним лагерную жизнь и те денежные требования, которые он предъявлял своему отцу на лагерные расходы. Я жил почти рядом с ним, в такой же полотняной палатке, как и он, обходился без своего чаю, без своих собственных сапог, без сундука для книг, получал на лагерь всего-навсего десять рублей – и был спокоен, хотя учился в богатом, аристократическом заведении; а для Достоевского все это составляло несчастие, он никак не хотел отставать от тех наших товарищей, у которых был и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук, траты которых на лагерь колебались от сотен до тысяч рублей…
В этом первом томе мемуаров П. П. Семенова, много говорится между прочим о нашем роде, к которому Семеновы принадлежат по женской линии, и в частности об Анне Петровне Буниной. Совсем недавно была и ее годовщина – столетие со времени ее смерти. Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, а меж тем заслуживала бы и она того. Если принять во внимание время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с теми, которые называли ее одной из замечательных русских женщин. Помимо мемуаров П. П. Семенова, сведения о ней можно найти еще в одной давней статье, принадлежащей Александру Павловичу Чехову. Теперь, говорит он, имя Буниной встречается только в истории литературы да и то потому, может быть, что портрет ее еще доныне висит в стенах Академии наук. Но в свою пору оно было очень известно, стихи Буниной читались образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и вызывали восторженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично читал Крылов, ими восторгался Дмитриев, бывший ближайшим другом Буниной. Греч говорил, что Бунина «занимает отличное место в числе современных писателей и первое между писательницами России», а Н. М. Карамзин прибавлял: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно, как Бунина». Императрица Елизавета Алексеевна пожаловала ей золотую лиру, осыпанную бриллиантами, «для ношения в торжественных случаях», Александр Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсию, Российская Академия наук издала собрание ее сочинений. Слава ее кончилась с ее смертью и все-таки даже сам Белинский лестно вспоминал ее в своих литературных обзорах.
Отец А. П. был владельцем известного села Урусова, в Рязанской губернии. Там и родилась А. П. – в 1774 году. П. П. Семенов говорит, что отец дал трем ее братьям чрезвычайно хорошее по тому времени воспитание. Старший принадлежал к образованнейшим людям своего века, прекрасно знал многие иностранные языки, состоял в масонской ложе; младшие служили во флоте, причем один из них, во время войны Екатерины II со шведами, попал в плен и был определен шведским королем в Упсальский университет, где и окончил свое образование. На долю А. П. выпала впоследствии большая честь – она стала членом Российской Академии наук. А меж тем первоначальное ее образование было более чем скудно, ибо образование девиц считалось тогда ненужной роскошью. Образования она достигла в силу своей собственной воли и желания, после того, как ее старший брат стал возить ее в Москву и ввел ее в круг своих друзей из литературного и вообще просвещенного общества. Тут она встретилась и сблизилась между прочим с Мерзляковым, Капнистом, князем А. А. Шаховским, Воейковым, В. А. Жуковским, В. Л. Пушкиным. В последующее время на ее развитие имели большое влияние Н. И. Новиков и Карамзин, «которому больше всего и обязана она была в своем правильном и изящном литературном языке». Она зачитывалась «Московским журналом», выходившим под его издательством, потом встречалась с ним в обществе, носившем название «Беседы любителей русского слова». Общество это организовалось в Петербурге в 1811 году. В нем было 24 действительных и 33 почетных члена, в число которых была избрана и А. П. Основателем «Беседы» был Шишков и состояли в ней Крылов, Державин, Шаховской, Капнист, Озеров и даже сам Сперанский. Цель ее была – «противодействие тем нововведениям, которые вносил в русский язык Карамзин, проведение в жизнь подражания образцам славянского языка, преследование карамзинского направления, – и весьма курьезно было то, что и сам преследуемый Карамзин был ее членом».
Дальнейшую судьбу А. П. очень изменила смерть ее отца. После этой смерти она переехала жить к своей сестре, Марье Петровне Семеновой, получив наследство, дававшее ей 600 руб. годового дохода. Она была теперь свободна и самостоятельна. И, пользуясь этим, прожила очень недолго у Семеновой. В 1802 году зять ее, Семенов, отправился в Петербург. А. П. упросила его взять ее с собою и, попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять ее был «весьма фраппирован» этим, уговаривал ее отказаться от своего намерения – она все же от него не отказалась. В Петербург она поехала будто бы только для того, чтобы повидаться с своим братом моряком. Когда она решилась поселиться в столице, стал и брат уговаривать ее вернуться в деревню, но тоже напрасно. Затем Семенов уехал в деревню, брат вскоре отправился в поход, и она оказалась в столице совсем одна. Это было по тем временам, совсем необычно. Но ее ничуть не смутило. Более того: она наняла себе на Васильевском острове совсем отдельную квартиру, «взяв к себе для услуг некую степенную женщину».
Добившись своего, она «деятельно и с изумительной энергией» принялась за самообразование, несмотря на то, что в это время ей шел уже двадцать восьмой год. Она стала учиться французскому, немецкому и английскому языкам, физике, математике и главным образом российской словесности. Успехи были очень быстрые. Возвратившийся из похода брат ее был поражен количеством и основательностью приобретенных ею познаний. Но эти же приобретения, обогатив ее ум, вместе с тем и разорили ее материально: живя в Петербурге, она истратила весь свой наследственный капитал. Положение ее становилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспешил познакомить ее с петербургскими литераторами, которым она и показала свои первые произведения. Ее одобрили, ей помогли печататься. Первое стихотворение ее, «С приморского берега», появилось в печати в 1806 году; за этим последовал целый ряд новых и дал ей такой успех в публике, что она собрала свои стихи и рискнула выпустить отдельным изданием, которое и вышло в свет под заглавием «Неопытная Муза». Издание это было поднесено императрице Елизавете Алексеевне и было награждено сперва вышеупомянутой «лирой, осыпанной бриллиантами», а затем ежегодной пенсией в 400 рублей в год. С этого времени начинается уже слава Буниной. В 1811 году она выпустила новый том своих стихотворений, «Сельские вечера», который тоже разошелся очень быстро. Затем она напечатала свою «Неопытную Музу» вторым изданием, в двух томах. Это издание тоже имело большой успех. А двенадцатый год принес ей «высшие лавры»: тут она выступила с патриотическими гимнами, «снискав себе вящее монаршее благоволение и ряд новых милостей». Но это были уже последние ее радости. Вскоре после того у нее «открылся рак. в груди», который всю остальную жизнь ее превратил в непрерывную цепь страданий и наконец свел ее в могилу.
Было сделано все, чтобы спасти ее или хоть облегчить ее участь. И Двор и общество, почитавшее ее не только за ее поэтические заслуги, но и за высокие умственные и нравственные качества, проявили к ней большое участие. Государь пожелал, чтобы к ней были приглашены светила медицины, лично заботился о том, чтобы лечение ее было обставлено как можно лучше; для нее, за счет Двора, нанимались на лето дачи, бесплатно отпускались лекарства «из главной аптеки»; бесплатно же посещали ее и придворные медики. Затем решено было прибегнуть к последнему средству, в которое тогда весьма верили: к поездке в Англию, особенно славившуюся в то время своими врачами. Путевые издержки ее принял на себя опять сам государь, «провожал ее Петербург с большим триумфом». Но и Англия не помогла. А. П. пробыла за границей два года и возвратилась оттуда такою же больной, как и уехала. Прожила она после того еще двенадцать лет, но почти уже не писала, – только выпустила в 1821 году полное собрание своих сочинений в трех книгах, снова награжденное от Двора, на этот раз пожизненной пенсией в две тысячи рублей. Жила она эти последние годы то у родных, в деревне, то в Липецке, то на кавказских водах, всюду ища облегчения от своих страданий. «Рак в груди довел свое разрушительное дело уже до того, что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для нее позе – на коленях». Так, на коленях, и писала она:
Любить меня иль нет, жалеть иль не жалеть
Теперь, о ближние! вы можете по воле:
Едва из тела дух успеет излететь,
Теперь, о ближние! вы можете по воле;
Последние дни свои она провела за переводом проповедей Блэра и за непрестанным чтением книг Священного Писания. Скончалась 4 декабря 1829 года, в селе Денисовке, Рязанской губернии, у своего племянника Д. М. Бунина. Тело ее погребено в ее родном селе Урусове. На могиле ее, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в свое время возобновленный П. П. Семеновым-Тянь-Шаньским. В его мемуарах приводится милая надпись, сделанная ему А. П. на переводе проповедей Блэра, на книжечке в красном сафьяновом переплете:
«Дорогому Петиньке Семенову в чаянии его достославной возмужалости».
Записи (о современниках) *
Чьи-то замечательные слова:
– В литературе существует тот же обычай, что и у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков…
То же и в языке. Поглощается один другим. Многое уже исчезло на моей памяти.
Мой отец обычно говорил прекрасным русским языком, простым и правильным. Но иногда вдруг начинал говорить в таком роде:
– Я в тот вечер был монтирован, играл отчаянно…
– Мы с ним встретились на охоте. Он сам рекомендовал себя в мое знакомство…
В этом же роде пели наши бывшие дворовые:
– Вздыхаешь о другой: должна ли я-то зреть? Досады таковой должна ли я стерпеть?
– Я часто наслаждаюсь Любовных слов твоих…
– Уж сколько ден все мышлюо тебе…
– Любовь сердцам угодна, Страсть нежная природна, Нельзя спастись любви…
Старые, набожные дворовые употребляли много церковнославянских слов. Они говорили:
– Ливан (ладан), Краниево Место (Голгофа), дщица (малая дощечка), орлий (орлиный), седатый (седой), пядница (маленькая иконка, в пядь), кампан (колокол), село (в смысле: поле)… Они употребляли вообще много странных и старинных слов: не надобе (так писалось еще в Русской Правде: «не надобе делать того»), Египет-град, младшие (меньшие) колокола, стоячие образа (писанные во весь рост), оплечные образа, многоградный край, средидневный жар, водовод (вместо, водопровод), паучина (паутина), безлетно (вечно), дивий (дикий, лесной), лжа (ложь), присельник (пришлец, иноземец), вар (солнечный жар)…
То же было и в крестьянском языке. Например, мужика лентяя и нищего называли:
– Пустой малый! Изгой, неудельный!
Изгоем же, как известно, назывался безместный удельный князь.
А не то кто-нибудь, бывало, говорит:
– Хочу в Кыев сходить, Богу помолиться…
И невольно вспоминаешь: «Бяше возле града Кыева лес и бор велик…» Или:
– Ведь, что ж, она мне не чужая, а жена водимая…Или (когда нанимались в работники):
– Ну, когда такое дело, давайте, барин рядиться… Опять как в Удельной Руси:
«Зачали рядиться, кому пригоже на большом княжении быти…»
В связи с этим – рядиться в смысле наряжаться:
– Тебе теперь нечего рядиться, ты вдова Божья, носить тебе надо одни смирные (темные) цвета…
И еще вспоминаю – мужик рассказывает:
– К нам так-то однова (ударение на последнем слоге) странный старичек (то есть странник), приходил. Смотреть любо! В ручке костылик, за плечиком – дерюжное влагалище (церковнославянское слово, значит: сума, кошель)…
А какая была нелепая и чудесная образность в языке деревни!
Вот по выгону идет босая девка – подтянуто-стройно, виляя только кострецами: на правом плече тяжелое коромысло, по концам которого лежит мокрое белье.
– Кудай-то ты?
– На речку, белье полоскать.
– Да ведь нынче праздник, грех работать.
– Конечно, грех, кабы я дома была. А то какой же грех, когда я тут у родных гощу?
Когда эту девку просватали, я ее как-то спросил:
– Что ж, хорош твой жених? Она ответила:
– Какой там черт, хорош! Рот толстый, в нос гудит…
* * *
В Москве, в лавке горбатого старика букиниста, сорок лет тому назад. Зима, лавка ледяная, пар от дыхания. Молодой человек, сидя на корточках в углу, перед грудой сваленных на полу книг, неловко роется в них, чувствуя на своей спине острый взгляд букиниста, сидящего в старом кресле и отрывисто отхлебывающего из стакана кипяток, жидкий чай.
– А вы, что ж, тоже, значит пишете, молодой человек?
– Пишу…
– И что ж, уж печатались?
– Да, немного…
– А где именно, позвольте спросить?
– В «Книжках Недели»… в «Вестник Европы»…
– Стихи, разумеется?
– Да, стихи…
– Что ж, и стихи неплохо. Но только и тут надо порядочно головой поработать. Надо, собственно говоря, в жертву себя принести. Читали ли вы «Полистан» Саади? Я вам эту книжечку подарю на память. В ней есть истинно золотые слова. Вы же должны особенно запомнить следующие: «У всякого клада лежит стерегущий оный клад стоглавый змей». Это надо хорошенько понять. И пусть это и будет вам моим напутствием на литературном поприще. Писатель пошел теперь ничтожный. А почему? Он думает, что клады берутся голыми руками и с превеликой легкостью. Ан, нет. Тут борьба не на живот, а на смерть. Вечная и бесконечная, до гробовой доски. И знаете, кто высказал эту мысль и именно в связи с вышеприведенными словами Саади? Сам Александр Сергеевич Пушкин. Слышал же я это все от букиниста Богомолова, его современника и приятеля. Торговал с ларька, вот тут, в двух шагах, у Лубянской стены…
* * *
Рассказ Поссе (одного из бывших друзей Горького) о том, как Горький был в первый раз у Толстого.
Горький сперва робел, хотя старался держаться развязно, потом осмелел и спросил:
– Читали вы, Лев Николаевич, моего «Фому Гордеева»? Толстой ответил:
– Начал читать, но кончить не мог. Не хватило сил. Все это выдумано. Ничего такого не было и быть не могло.
Горький сказал:
– Вот детство Фомы у меня, кажись, не выдумано… Толстой ответил еще резче:
– Нет, все выдумано. Простите меня, но не нравится. Вот есть у вас рассказ «Ярмарка в Голтве». Этот рассказ мне очень понравился…
На другой день Поссе был опять у Толстого, на этот раз уже один. Толстой сказал ему:
– Я, кажется, вчера обидел вашего приятеля. Но как же быть, он все выдумывает. Выдумывать, конечно, можно. Но выдумка выдумке розь. Допустим, вы пишете роман и рассказываете в нем, что ваш герой отправился на северный полюс и встретил там свою возлюбленную. Выдумка вполне допустимая. Но если вы мне будете рассказывать, что он там повенчался с ней под пальмами, то это будет выдумка недопустимая. Такая же недопустимая выдумка будет и тогда, если вы, описывая душевное состояние приговоренного к смертной казни, заставите его думать и чувствовать так, как он при данных условиях никак не мог думать…
Поссе стал хвалить изобразительную способность Горького в описаниях природы.
Толстой опять не согласился:
– Нет, описывать природу Горький не умеет. «Море смеялось», «небо плакало», – все это ни к чему…
* * *
В Москве недавно опубликованы еще некоторые заметки Чехова (из его записных книжек). Нашел среди них несколько таких, которые слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души):
– Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую, всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?
Там много есть и других отличных заметок:
– В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей, наоборот: из прелестной бабочки – мерзкая гусеница…
– Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости…
– Бездарная актриса ест куропатку, – мне жаль куропатку, которая была во сто раз умней и талантливей этой актрисы…
– Савина, как бы там ни восхищались ею, была на сцене то же, что Виктор Крылов среди драматургов…
– Так называемая, детская чистая радость есть животная радость…
– Людей связывает только общая ненависть…
– Герой для рассказа. В любовном письме пишет: «Прилагаю на ответ почтовую марку»…
– Тридцать лет ходил по улице и читал на вывеске: «Большой выбор сигар». И только на тридцать первом году увидал, что на вывеске написано: «Большой выбор сигов»…
– Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения.
– Писать нужно только для будущего… надо изображать жизнь, какая она в мечтах, а не такая, какая она есть или должна быть…
* * *
Чехов иногда говорил:
– Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями… Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден! Как восхищался на Александру Аркадьевну Давыдову (издательницу журнала «Мир Божий»)! Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: «Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть пятьдесят рублей авансу». – «Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру Вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю Вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу только тогда, когда Вы постучите и скажете мне, что у Вас готов рассказ».
А иногда говорил совсем другое:
– Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к южному полюсу, в Тибет, в Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи… Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор – три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно – писателю…
Говоря о Толстом, он раз сказал:
– Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или, лучше сказать, не презрением, – это слово сюда не подходит, – а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня… Отчего хвалит? Оттого, что он смотрит на нас, как на детей, которые, подражая взрослым, тоже делают то то, то другое вроде взрослых: воюют, путешествуют, строют дома, могут и писать, издавать журналы… Наши повести, рассказы, романы для него именно такие детские игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана и на Семенова. Вот Шекспир – другое дело. Это уже взрослый, и он уже раздражает его, пишет все не так как надо, не по-толстовски…
* * *
Всей Москве был в свое время известен «король репортеров», поэт и беллетрист Гиляровский, «дядя Гиляй», как все его называли, человек необыкновенно милый и веселый, похожий на Тараса Бульбу, носивший на бритой голове сивую казацкую шапку, неутомимый и на работу и на сидение с друзьями по ресторанам. Молодой Чехов, его большой приятель, встретил его однажды летним вечером возле памятника Пушкину с огромным арбузом в руках, завернутым в бумагу и перевязанным бечевкой.
– Гиляй, милый, вот приятная встреча! Куда это ты?
– Домой. А ты?
– Да так, никуда.
– Так знаешь что? Едем к Тестову обедать.
– Едем.
– Ну и отлично. Только как же мне теперь быть с этим проклятым кавуном? Впрочем, пустяки – придумал!
И махает проезжающему мимо лихачу:
– Эй, ты, на дутых! К Тестову! Только смотри – духом! Целковый на водку!
Садятся и летят вниз по Тверскому. Как вдруг – что такое? – Гиляровский на всем скаку хватает лихача за шиворот, круто осаживает его как раз перед постовым городовым возле генерал-губернаторского дома, бросает городовому в руки арбуз, кричит ему: «Держи! Бомба!» – а лихачу: «Пошел!» – и пролетка мчится дальше, обалдевший же городовой, покорно схвативший с испугу «бомбу», каменеет на месте с вытаращенными глазами, не зная, что делать…
Кстати сказать, этот самый Гиляй и был автором стишков, ходивших по всей России после того, как какой-то сумасшедший японский полицейский в японском городе Отсу ударил саблей по голове государя Николая II, бывшего в то время еще наследником и совершавшего образовательное путешествие по Дальнему Востоку:
Происшествие в Отсу Ввергло в грусть царя с царицею: Сладко ль матери, отцу, Когда сына бьет полиция! Ты, царевич Николай, Когда царствовать придется, Тоже чаще вспоминай, Как полиция дерется!
А другие, столь же знаменитые, стишки на Горемыкина сочинялись при мне во время одного полтавского земского собрания, неким Львом Аркадьевичем Хитрово:
Друг, не верь пустой надежде, Говорю тебе, не верь: Горе мыкали мы прежде, Горе мыкаем теперь!
Соль этих стишков заключалась в том, что надо было читать не «горе мыкаем», а «горемыкаем», не «горе мыкали», а «горе-мыкали»… Аркадские были времена!








