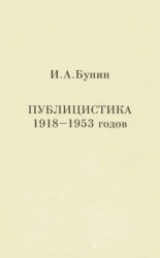
Текст книги "Публицистика 1918-1953 годов"
Автор книги: Иван Бунин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 56 страниц)
О новой орфографии *
Письмо в редакцию
Глубокоуважаемый Петр Бернгардович,
В «Последних новостях» напечатано открытое письмо ко мне г. Гофмана по поводу так называемой новой орфографии. Я в одной из своих последних статей сказал, что не могу принять эту орфографию «уже хотя бы потому, что по ней написано все самое злое, низкое и лживое, что только было написано на земле», и в совершенно естественной горячности обозвал ее «заборной, объявленной невеждой и хамом», и тем дал повод г. Гофману к престранному умозаключению: он вообразил, что я оскорбил ученых, работавших во главе с покойным А. А. Шахматовым над русской орфографией при Академии наук!
– «Позвольте уверить вас, говорит он в своем письме ко мне, что не желание поддетьвас руководит мною, а глубокая обида за память людей, подобных Шахматову, которую вы нанесли, сами того, конечно, не желая».
Так вот позвольте и мне уверить читателей, которых г. Гофман вводит в заблуждение, может быть, и впрямь, не имея намерения «поддеть» меня, а единственно в силу своей излишней обидчивости: «люди, подобные Шахматову», приплетены г. Гофманом совсем ни к чему, я Шахматова и людей, подобных ему, почитаю не меньше его. Да не совсем разумны и прочие его обиды и соображения.
Он дивится, что я назвал орфографию, истинно «хамски» навязанную России большевиками, заборной. Но как же она не заборная, когда именно забор и в точном и в переносном смысле этого слова так долго служил ей?
Он говорит, что новая орфография явилась «результатом» ученых работ при Академии. Но как же она могла явиться «результатом», когда работы эти не были законченык началу революции?
Он указывает мне на то, что она была объявлена не большевиками, а Мануйловым. Но это тоже не имеет отношения к делу. Всегда очень сожалел и продолжаю сожалеть, что Мануйлов так поспешил в своем революционном усердии насчет вопроса, который был еще далеко не решен и остается спорным и доныне (даже и для больших ученых в этой области), но дело-то, повторяю, совсем в другом: в том, что все-таки именно «невежда и хам», то есть большевик, приказал под страхом смертной казни употреблять только эту орфографию.
Записная книжка (о Блоке) *
О музыке.
Серые зимние сумерки в Москве, – февраль семнадцатого года… Ровно десять лет тому назад.
Еду на Лубянку, – за эти десять лет столь прославившуюся, – стою на площадке трамвая.
Возле меня стоит и покачивается военный писарь.
Вагон качает? Нет, – к общему и большому удивлению, писарь пьян и даже основательно пьян. В военное время, с какими-то казенными пакетами в руках – и пьян. И все щурится, ядовито, как-то весело и горестно ухмыляется, водит глазами, ищет, очевидно, собеседника.
Неожиданно обращается ко мне:
– А позвольте спросить… Вот вы, конечно, интеллигентный человек и прочая и прочая… А позвольте спросить, задать, как говорится, вопрос…
– Насчет чего?
– А вот насчет чего: где именно в Москве фонарь номер первый? Не сочтите это за придирку, а просто… ответьте.
– Ничего не понимаю. Какой фонарь?
– А вы не лукавьте, не виляйте, сделайте милость. Я вас очень просто спрашиваю, ставлю вопрос ребром: где именно в Москве номер первый?
Вижу, что придирается, и скромно развожу руками:
– К великому моему сожалению, понятия не имею.
Писарь с презрением смотрит мне в лицо, некоторое время молчит и затем медлительно выговаривает:
– Эх, вы, защитники народа, передовая интеллигенция. Так и знал, что не знаете. А у кого в Москве велосипед номер первый? Тоже, конечно, не знаете. А ведь послушай вас: мы, мол, такие, сякие, мы соль земли и тому подобное, прочая и прочая! – Ну, да ничего, скоро пойдет музыка другая, узнаете…
Вагон с визгом поднимается мимо статуи Первопечатника, мимо стен к площади. И писарь с презрением, брезгливо смотрит и на стены:
– Остатки древней старины называются! – говорит он, качаясь. – Между тем, что собственно это означает? Я вас спрашиваю, – говорит он, водя сонно-злыми глазами по лицам окружающих: – что собственно это означает?
И все молчат, все почему-то стараются не смотреть на него. Уже робеют? – думаю я. – Да, да, несомненно…
А на остановке, на Лубянской площади, в вагон, в толпу, пробивается женщина с крохотным розовым гробиком в руках, визгливо крича кондуктору:
– Господин кондуктор! Господин кондуктор! У вас в трамвае с маленькими покойничками пущают?
И писарь злорадно хохочет:
– Покойнички! Кутья, венчики, во блаженном успении! Ну, да ничего, скоро уж, скоро! Будет вам хорошая музыка!
Так услыхал я про эту музыку впервые, – от писаря. А второй раз через год после этого, – от Блока:
– «Слушайте, слушайте Музыку Революции!». Кстати о Блоке.
В так называемом Ленинграде издавался недавно, «при ближайшем участии Горького, Замятина и Чуковского», журнал «Русский современник», преследовавший «только культурные цели».
И вот, в третьей книге этого культурного органа были напечатаны некоторые «драгоценные литературные материалы», среди же них нечто «особенно драгоценное», а именно:
– «Замыслы, наброски и заметки Александра Александровича Блока, извлеченные из его посмертных рукописей».
Прочитал – и вполне согласился: действительно, нечто драгоценное, особенно один «замысел» – насчет Христа.
Оказывается, что Блок замышлял написать, при некотором сотрудничестве со своей супругой, не более, не менее как «Пьесу из жизни Иисуса».
Да, один «замысел» так и озаглавлен: «Пьеса из жизни Иисуса» – и помечен: январь 1918 года (то есть, тот самый январь, когда Блок напечатал свою известную статью об интеллигенции и революции, – «Слушайте, слушайте Музыку Революции!» – в пояснение к своей знаменитой поэме). А какие перлы находятся в этом замысле, пусть судит читатель по следующим выпискам:
– Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу.
– Входит Иисус: не мужчина и не женщина.
– Фома (неверный!) – контролирует.
– Пришлось уверовать: заставилии надули.
– Вложил персты и распространителем стал.
– А распространять заставилиинквизицию, папство, икающих попов – и Учредилку…
Поверят ли почитатели «великого поэта» в эти чудовищные пошлости? Думаю, что нет. А меж тем я выписываю буквально. Дальше еще пошлей. Но уж выпишу до конца:
– Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит на месте.
– Апостолы воруют для Иисуса вишни, пшеницу.
– Мать говорит сыну: неприлично. Брак в Кане Галилейской.
– Апостол брякнет, а Иисус разовьет.
– Нагорная проповедь: митинг.
– Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули…
А вот и заключение конспекта этой «пьесы»:
– Нужно, чтобы Люба прочитала Ренана и по карте отметила это маленькое место, где он ходил…
Кто этот «он», писанный с маленькой буквы? Тот, ради Которого знаменитый обожатель «музыки революции», писанной с большой буквы, не хотел потрудиться даже Ренана лично прочесть:
– Пускай Люба почитает и по карте отметит это маленькое место…
Памяти Юшкевича *
Нынче опускают в могилу Семена Соломоновича Юшкевича, – навсегда уходит из нашего мира человек большого таланта и сердца, которого я знал чуть не тридцать лет, с которым мы почти в одно время начали, а потом рука об руку – и так дружески за последние годы – делили наш писательский путь.
И долг, и сердечная потребность велят мне, перед нашей вечной разлукой, посвятить его памяти хотя несколько слов, достойных ее. Но что я могу сейчас?
«Возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к Богу, иже даде его…»
Пусть же примет благостно персть почившего лоно нашей общей Матери и милосердный Бог даст его душе мир и радость под Своим благословенным кровом.
Суета сует *
Многие ли знают, как умер Вольтер, где похоронен он был первоначально и какова была судьба его сердца и мозга?
Об этом с обычным мастерством и с вечно присущей ему тонкой иронией рассказывает Ленотр.
Вольтер приехал в Париж за три месяца до своей смерти и поселился в особняке г. де Виллета на углу улицы Бон и набережной.
Три месяца в этом особняке царили мир и спокойствие. Но вот настает роковой вечер 30 мая 1778 года – и проходящие мимо ворот особняка и заглядывающие в его двор (который, кстати сказать, остался и доныне почти таким же, каким был в те годы) видят, что в доме происходит что-то не совсем обычное: несмотря на поздний час, три окна в первом этаже ярко освещены, за их занавесками мечутся людские тени… Что случилось?
А случилось то, что «великий безбожник» уже отдал Богу душу, и его семья, г-жа Дени, его брат, аббат Миньо, г. Дормуа, г. де Виллет и кухарка с привратницей энергично хлопочут над трупом, наряжают его: дело в том, что после похорон А. Лекуврер Вольтер был одержим кошмарным страхом, что после его смерти тело его будет брошено, как падаль, что враги его правы, предсказывая огромный скандал, который могут учинить при его погребении религиозные фанатики. Надо, значит, было этот скандал во что бы то ни стало предотвратить.
Вольтер испустил последний вздох в одиннадцать часов. Тотчас же после этого кинулись за хирургом г. Три и за соседом аптекарем г. Митуар, которые, быстро осмотрев тело и запротоколив смерть, стали наспех, кое-как, бальзамировать его, вынули сердце, мозг, внутренности… Внутренности бросили в помойную яму, мозг погрузили в банку со спиртом, а сердце – в свинцовую коробку, которая заключена была в серебряный вызолоченный ларчик. Однако, это было далеко не все, что нужно было сделать. Главная задача состояла в том, чтобы тайком вывезти тело из Парижа, тайком доставить его в аббатство Сельер, находящееся от Парижа в тридцати лье. Аббат Миньо, племянник покойника, к этому аббатству был причастен и надеялся получить от его настоятеля разрешение на отпевание и погребение Вольтера именно там. Но как доставить его туда? Доставить нужно было не без хитрости, не стесняясь средствами и как можно скорее.
И вот, после вскрытия, быстро стали наряжать труп: его спеленали свивальниками, которые были надраны на скорую руку из простынь, на него напялили халат, на голову надели ночной колпак, на ноги – ночные туфли. А покончив с этим, потащили ряженные останки великого человека вон из дому, во двор, посадили их в карету, – она была голубая, в звездах, – напротив велели сесть лакею, который должен был держать и не давать покойнику падать, а кучеру приказали гнать лошадей что есть мочи.
Как известно, все это предприятие удалось превосходно. Лакей, по прибытии в Сельер, был сам близок к смерти от страха, пережитого во время скачки до Сельера, в темной карете, лицом к лицу с качавшимся мертвецом. Однако, доставлен был мертвец в Сельер в целости, в сохранности, весьма быстро, и также быстро было и доделано дело: Париж даже еще и не знал о кончине Вольтера, как уж тело его лежало под плитами Сельерского собора.
Что до мозга и сердца, то они претерпели гораздо худшие и гораздо более многочисленные приключения.
Мозг, «который отличался необыкновенным объемом», взял себе аптекарь Митуар. Некоторое время он извлекал из него большие радости для своего тщеславия: показывал его публике – «всем желающим созерцать сии останки г. Вольтера». Будучи, однако, человеком культурным и боясь за судьбу «дивной реликвии», он решил принести ее в дар государству. Но тогда судьба еще более жестоко посмеялась над Вольтером: к несказанному удивлению и ужасу аптекаря, государство почему-то смутилось, стало благодарить, кланяться, но взять мозг – отказалось. Через полвека после этого сын аптекаря, врач Митуар, повторил попытку отца сохранить для потомства замечательный мозг, – еще раз предложил его Франции. Но… Франция почему-то снова отклонила эту честь. Третий собственник мозга, г. Вердье, навязывал его Академии: авось хоть «бессмертные» согласятся взять мозг своего бывшего сочлена. Но и Академия отказалась: «не нашлось достойного вместилища для столь неожиданного вклада»… И мозг пустился странствовать: он перешел по наследству к внучке аптекаря, а внучка все путешествовала и всюду возила за собой драгоценный сосуд, «таивший в себе то чудесное, что в свое время вырабатывало столь гениальные мысли». А когда умерла и внучка, сосуд почему-то попал в руки какого-то г. Лаброса, аптекарского помощника, в 1870 году был куплен кем-то на аукционе, при распродаже какой-то обстановки, а затем погрузился во мрак полной неизвестности:
– Может быть, говорит Ленотр, он цел и доныне, валяется где-нибудь на чердаке, среди какой-нибудь рухляди? Но где именно? На этот вопрос до сих пор еще никто не отозвался.
Беспокойна, печальна была участь и вольтеровского сердца.
У Вольтера была приемная дочь, «олицетворение Красоты и Доброты», которая была замужем за маркизом де Виллет, домовладельцем на улице Бон, поэтом и страстным поклонником Великого Старца. Он и присвоил себе его сердце и приказал выгравировать на ларчике, вмещавшем это сердце, стих собственного сочинения:
– Дух его витает повсюду, сердце же покоится здесь.
Впоследствии ларчик с сердцем долго стоял в мавзолее, воздвигнутом для него Биллетом в салоне знаменитого вольтеровского убежища, в славном по всему миру замке, которым Виллет тоже завладел в свое время. Там, в честь своего идола, он устроил нечто среднее между музеем и капищем, самого же себя провозгласил верховным жрецом вольтеровского культа. Но шли года, страсть Виллета мало-помалу утихала – и знаменитый замок был сдан им, в конце концов, в наем какому-то богатому англичанину. Англичан же, конечно, тотчас же велел мавзолей в салоне разрушить, а «драгоценный» сосуд с сердцем – «куда-нибудь вынести»…
Впрочем, сердце оказалось все-таки счастливее мозга. Ларец с ним все же сохранился. Конечно, и он переходил из рук в руки, от наследников к наследникам, был предметом их споров и даже судов, однако, уцелел и в свое время был тоже предложен в дар государству, которое на этот раз оказалось уступчивее, чем прежде, в деле с мозгом. Сердце Вольтера покоится теперь, как известно, в библиотеке на улице Ришелье, в цоколе, на котором стоит модель знаменитого мрамора Гудона…
Да, Вольтер недаром усмехается так ядовито и доныне. Между прочим, и над самим собою, конечно.
Записная книжка (о Горьком) *
Боюсь, что пройдет незамеченной, неотмеченной новая выходка Горького. А отметить ее непременно надо – в назидание тем, которые все еще продолжают долбить:
– А все-таки это удивительный писатель!
Горький, как известно, довольно часто занимается теперь писанием воспоминаний о разных известных покойниках. Иные из них снабжены всяческими лирическими отступлениями, сентенциями, мудрствованиями. И к таким принадлежат, например, недавно им опубликованные в «Красной нови» воспоминания о Гарине-Михайловском. И читая их, истинно диву даешься: да как же это можно на старости лет говорить с такой развязностью, ухмыляясь, такие пошлости!
– Изредка, – вещает Горький, – в мире нашем являются люди, коих я назвал бы веселыми праведниками…
– Я думаю, что родоначальником их следует признать не Христа, который, по свидетельству Евангелий, был все-таки немножко педант. Родоначальник веселых праведников есть, вероятно, Франциск Ассизский, великий художник любви к жизни…
У Чехова помещик Гаевский говорит своему лакею:
– Отойди, братец, от тебя курицей пахнет!
А чем пахнет от этих рассуждений о «педанте» Христе и о «художнике» Франциске Ассизском? Одно хочется сказать:
– Отойди, братец, поскорее и подальше отойди!
А в Париж приехал Луначарский, разжиревший на советских хлебах, сопутствуемый одной из своих супруг, тоже, вероятно, довольно упитанной… И вспомнилось, как некогда тощ и убог был этот теперешний вельможа, как околачивался он возле Горького на Капри, среди прочих лодырей и жуликов, из которых состояла тогда известная «коммунистическая школа», руководимая и питаемая Горьким… И как этот Луначарский, заядлый не только коммунист, но и эстет, читал над гробиком своего умершего первенца «Литургию Красоты» Бальмонта…
Кстати:
В прошлом году Горький в «Вечерней Красной газете» напечатал статейку по поводу того, что я, рассказывая в Париже о собаке старика нищего, убитого красноармейцами, которая после того яростно кидалась на всех красноармейцев, заключил свой рассказ пожеланием, чтобы и во мне не угасала подобная же ненависть «к русскому Каину». – Горький тогда писал:
«Моралистам Бунин дал хороший повод говорить о слепоте ненависти. Остроумные люди, вероятно, очень посмеются над мольбой культурного человека и прекрасного писателя, который дожил до того, что вот, предпочитает собачье бешенство человеческим чувствам…»
Пользуюсь случаем ответить Горькому: да, остроумный милостивый государь, дожил. Дожил при вашей доброй помощи, – при помощи ваших друзей, Дзержинских и Луначарских, вместе с вами утверждающих во всем мире такую «слепоту ненависти», которой мир еще никогда не видывал. Дожил до тех дней, когда, как сказал мне один сербский епископ, «стало человеку стыдно поднять глаза на животное и зверя». И не вам, чекистам, заноситься над собаками, и особенно над собакой этого нищего старика, убитого вашим доблестным воинством для потехи. И ничуть не бешеная она была, и не бешенство я предпочитаю «человеческим чувствам» – хотя уж какие там человеческие чувства могут быть у нас к вам! – и не слепоту проповедовал я, а именно ненависть, вполне здравую и, полагаю, довольно законную.
«Остроумные люди, вероятно, очень посмеются над мольбой культурного человека…» Интересно знать, почему, собственно, надо быть остроумным, чтобы над этой мольбой смеяться? По-моему, для этого надо быть скорее большой тупицей, которой и в голову не приходит самый простой вопрос: да как же в самом деле случилось, что «культурный человек и прекрасный писатель» «дожил до того, что вот, предпочитает собачье бешенство человеческим чувствам»?
Впрочем, что ж взять с Горького? Он всегда был склонен к остроумию, к снисходительной усмешке. Чекисты ходили по колено в крови в своих подвалах, а он усмехался, он трунил, он похлопывал нас по плечу, он писал, – буквально так:
– Спешу успокоить напуганных мещан: Ленин очень не чужд добродушного смеха, в его глазах часто вспыхивает огонек чисто женской нежности…
Да и что ж ему, в самом деле, горевать, сидя в Сорренто? Им теперь всем вольготно и весело. Горький посмеивается, потягивая итальянское винцо, Луначарский сладко ухмыляется в монмартрских кабаках, Маяковский, – тот самый Маяковский, которого еще в гимназии звали Идиот Полифемович, – ржет то в Париже, то в Праге…
Кстати, о Праге. Нам пишут: «А в Праге Сейфуллина… И как-то на днях ее спросили, интересуются ли в России писателями-эмигрантами, и она ответила: „да, конечно, – вот недавно „Митину любовь“ перевели…“»
Обмолвка? Обмолвка во всяком случае замечательная!
«Большие пузыри» *
Получил «Звено» и прочел следующее:
– Д. Четвериков закончил новый большой роман «Заиграй овражки». В ближайшие дни выходит его роман «Синяя говядина», а сейчас он работает над новым романом «Любань».
Я прочел это и тихо ахнул от зависти: ведь дает же Бог некоторым этакое счастье – сразу три новых романа человек написал и каких, вероятно, замечательных, судя по заглавиям, из которых одна «Синяя говядина» чего стоит! Но ахнул я и от стыда и горести: раз мне сообщают: «Четвериков закончил новый роман» – то ведь из этого несомненно следует, что я должен знать, что именно писал Четвериков раньше, а я меж тем об этом не имею даже малейшего понятия.
И еще я прочел:
– Н. Баршев печатает новую книгу рассказов «Большие пузыри».
– М. Борисоглебский выпустил большой роман «Топь» и книгу рассказов «Осколок».
– Л. Раковский выпустил новую книгу рассказов «Зеленая Америка».
И, прочтя, уже и совсем пал духом: Баршев, Борисоглебский, Раковский – и ни об одном-то из них я доселе даже и краем уха не слыхивал! Да мало того: ведь это уже далеко не новая история – вот уже несколько лет подряд попадаю я в такое положение по четвергам и субботам каждой недели, читая парижские газеты и журналы. И думаю, что каждый согласится со мной, что положение это истинно дурацкое: Баршев написал новую книгу о больших пузырях, Баршев, очевидно, очень известный человек, раз мне сообщают о нем, а я только хлопаю глазами:
– Что за Баршев? Что за пузыри? И что именно этим пузырям предшествовало?
Дорогой читатель, шутки в сторону. Не пора ли прекратить это издевательство над нами? Зачем нас с вами дурачат? Ибо уверяю вас, что это форменное издевательство – чуть не каждый день врываться к человеку в дом с известием, что в Самаре родила Марья Ивановна, а в Вологде женился Петр Иванович, когда человек отроду не слыхивал ни об этой Марье Ивановне, ни об этом Петре Ивановиче и не придает и не можетпридавать ровно никакого значения всяческим слухам и вестям о них. Издевательство это еще и потому, что каждый раз тотчас же после сообщения о «Синей говядине» Четверикова и о «Больших пузырях» Баршева читаю я сообщение, что выпустил новую книгу Поль Валери, что найдены новые письма или стихи Гете, Пушкина… Дорогой читатель, да стоит ли после этого стараться быть Пушкиным? Не проще ли, не спокойнее ли остаться автором «Синей говядины», раз все равно пишут о тебе совершенно так же, как и о Пушкине?
Да, круто изменились времена! Когда я был молод, – а это было вовсе не так уж давно, – кому бы пришло в голову напечатать в газетах: «Лев Толстой закончил новый роман, а Бунин написал новое стихотворение» или поместить в одном номере журнала портрет Достоевского, а в другом – Федота Кузькина и даже без всякого пояснения, кто такой Кузькин? Восемнадцати лет я уже печатался в «Неделе» и в «Вестнике Европы», а меж тем, придя в гости к харьковской писательнице Шабельской, чуть не умер от почтения к этой далеко не знаменитой старушке. А писательница Лидия Алексеевна Авилова рассказывала мне, что она, придя в первый раз в редакцию «Вестника Европы» к Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу, так оробела, что совсем лишилась языка:
– Хочу сказать: Михаил Матвеевич, а выходит – Матвей Михалыч… Под конец так зарапортовалась, что брякнула: Матвей Стасюлевич, а попытавшись поправиться, брякнула еще лучше Стасюлей Михалыч…
И заметьте при этом, что Авилова была тогда уже не совсем новичок в литературе, печаталась во многих толстых журналах, хороша собой была чрезвычайно, одевалась чудесно, в заработке не нуждалась, происходила же из настоящего барского общества, где совсем не редкость умение владеть собой и самоуважение…
Да, а вот теперь ничем не смущаются. Да и что же им смущаться при таком внимании к ним газет и журналов?
Однако им не достает: внимания публики. Недавно один молодой поэт сказал мне:
– Да ведь, в сущности, теперь стихов никто не читает, нами, в сущности, никто не интересуется, нас, в сущности, никто не уважает…
И я ему ответил:
– Молодой друг мой, а кто же виноват в этом? Поэты и вообще пишущие делали за последние тридцать лет буквально все, что только возможно, чтобы отбить у публики всякое уважение и всякий (кроме скандального) интерес к себе. Не пеняйте же на публику. И тем более не пеняйте, что вы продолжаетеделать то, что делали, при доброй помощи газет и журналов.








