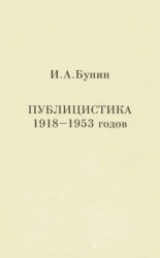
Текст книги "Публицистика 1918-1953 годов"
Автор книги: Иван Бунин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 56 страниц)
Петр Александров *
Разбирая свои бумаги, нашел пакет с пометкой: «Петр Александров».
В пакете – пачка писем ко мне этого «Петра Александрова», затем рукопись его наброска «Одиночество», книжечка рассказов («Петр Александров. Сон. Париж, 1921 год») и, наконец, вырезка из газеты «Дни» – статья М. А. Алданова, посвященная его кончине: он провел остаток своей жизни в эмиграции и умер семь лет тому назад, на пятьдесят шестом году от рождения, в скоротечной чахотке.
Это был, кажется, самый удивительный человек, какого я когда-либо встречал.
Алданов назвал его человеком «совершенно исключительной доброты и душевного благородства». Он несколько поскупился на эпитеты. Покойный был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным. А в нем текла царская кровь, он, избравший для своей литературной деятельности столь скромное имя, – Петр Александров, – в жизни носил имя куда более громкое: принц Петр Александрович Ольденбургский. Он был из рода, считающегося одним из самых древних в Европе, – последний из русской ветви принцев Ольденбургских, слившейся с родом Романовых, – был правнук императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра III.
Крайнее удивление вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было десять лет тому назад, в Париже. Я зашел по какому-то делу в Земгор. Там, в приемной, было множество народу и позади всех, у дверей, одиноко стоял какой-то пожилой человек, очень высокий и на редкость худой, длинный, похожий на военного в штатском. Я прошел мимо него быстро, но сразу выделил его из толпы. Он терпеливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вместе с тем так свободно, легко, прямо, что я тотчас подумал: «Какой-нибудь бывший генерал и светский, родовитый человек…» Я, мельком взглянул на него, н,1 мгновение испытал то пронзительное чувство, которое нередко испытываешь теперь при виде некоторых пожилых и бедных людей, знавших когда-то богатство, власть, знатность: он был очень чисто (по-военному чисто) выбрит и вымыт и точно так же чист, аккуратен и в одежде, очень простой и дешевой: легкое непромокаемое пальто неопределенного цвета, бумажные воротнички, грубые ботинки военного английского образца… Меня удивил его рост, его худоба, – какая-то особенная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как бы музейное, – его череп, совсем голый, маленький, породистый до явных признаков вырождения, сухость и тонкость красноватой, как бы слегка спаленной кожи на маленьком костлявом лице, небольшие подстриженные усы тоже того особенного желтого цвета, что присущ только древней европейской аристократии, и выцветшие глаза, скорбные, тихие и очень серьезные, под треугольно поднятыми бровями (вернее, следами бровей). Но удивительнее всего было то, что произошло вслед за этим: ко мне подошел кто-то из знакомых и, чему-то улыбаясь, сказал:
– Его высочество просит позволения представиться вам.
Я подумал, что он шутит: где же это слыхано, чтобы высочества и величества просили позволения представиться!
– Какое высочество?
– Принц Петр Александрович Ольденбургский. Разве не видали? Вон он, стоит у двери.
– Но как же это – «просит позволения представиться?»
– Вы думаете, что это поза, что-то напускное? Нет, это у него совершенно искренне. Он вообще человек какой-то совсем особенный.
А затем я узнал, что он пишет рассказы из народного быта, в духе толстовских народных сказок. Он приехал ко мне и привез ту самую книжечку, насчет которой и ходил в Земгор, печатая ее на свои средства в типографии Земгора: три маленьких рассказа под общим заглавием «Сон». Алданов, упоминая об этих рассказах, тоже дивится: «Средневековые хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода Ольденбургских… Один из Ольденбургских, Эгильмар, был особенно знаменит своей свирепостью… А потомок этого Эгильмара и правнук императора Павла Петровича писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни, незадолго до кончины выразил желание вступить в Народно-Социалистическую партию! Разные были в России великие князья… Были и такие, что в 1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойного Родзянко красной ленточкой в петлице… Принц Ольденбургский не нацеплял на себя этой ленточки… Тесная дружба, закрепленная в детстве, в день 1-го марта 1881 года, связывала его с Николаем II – и едва ли кто другой так бескорыстно любил убитого императора. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже „переубедить“ царя и, не доверяя своей силе убеждения, хотел сблизить его с Толстым». Это одно уже дает представление об образе мысли и о душевном облике П. А. Ольденбургского. В нем не было ничего от «красного принца», от обязательного для каждой династии Филиппа Эгалитэ. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было так нетрудно приобрести в его положении…
Рассказы его были интересны, конечно, только этим – тем, что тоже давали «представление о его душевном облике». Он писал о «золотых» народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революции и страстно отдающихся Христу, Его заветам братской любви между людьми, – «единственного спасения мира во всех его страданиях и распрях», – писал горячо, лирически, но так неумело, наивно, что даже было неловко за него. Он, впрочем, и сам хорошо понимал это и, когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мне со всей трогательностью своей безмерной скромности:
– Прости, ради Бога, что все докучаю тебе своими писаниями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны, знаю, что пишу я как ребенок… Но ведь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, редко, все больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь и все-таки надеюсь, что напишу наконец что-нибудь путное…
Достаточно удивительно для принца царской крови и его «Одиночество». В нем есть такие строки:
– «Конец сентября. Погожий день. Кругом полосы изумрудных зеленей, желтого жнивья, черных взметов; тихо летают нити серебряной паутины, темнеют еще не успевшие облететь дубравы, далеко, между островами лесов, белеют церкви. Я верхом. На рыску две борзые собаки, белый кобель и красная сука, идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ровным зеленям. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свесившись с шеи лошади; я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившего все мое существо блаженного оцепенения…»
– «Из-под ног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья. „Ату его, ату его!“ – что есть силы кричу я, скача за собаками. Белый кобель долго достает его, сшибает на зеленя…»
– «Еду проселком домой. Собаки, высунувши языки, тяжело дыша, идут позади лошади. Постепенно угар травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте, стараюсь снова привести себя в то же состояние, но напрасно… Зачем не слышу я ее звонкого смеха, не вижу ее больших добрых глаз, ее ласковой улыбки? Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество?»
– «Въезжаю в село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепы… Недалеко от церкви, на выгоне, останавливаюсь около закоптелой кузницы: – Семен, а Семен, несколько раз повторяю я, не слезая с лошади. – Из сарая выходит маленький плотный мужик, подходит к лошади, здоровается, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается. – Здравствуй, Семен. Не зайдешь ли сегодня ко мне вечерком посидеть, побеседовать? – робко, почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа. – Что ж, зайду, спасибо, – отвечает он просто, теребя второченного русака…»
– «Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный белый дом с колоннами и мезонином, направо конюшни, налево – флигелек, в котором поселился я. Меня встречает старик рабочий. Я слезаю с лошади, он берет ее под уздцы, уводит в конюшню. Вхожу во флигель. Выпиваю несколько рюмок водки, наскоро обедаю. Сажусь в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и страницы… Подхожу к окну, гляжу на двор, на заколоченный дом, поворачиваюсь, иду к столу, наливаю стакан водки, залпом выпиваю…»
Зная, что в этих строках нет ни одного слова выдумки, трудно читать их, не качая головой: какой странный человек! А что выдумки в них нет, об этом он сам говорил мне. Написав «Одиночество», он особенно просил меня помочь ему напечатать его где-нибудь и говорил со своей обычной детской простосердечностью и застенчивостью:
– Не скрою от тебя, это мне доставило бы большую радость. Мне этот набросок очень дорог, потому что в нем, прости за интимность, все правда, – то, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда-то… то есть, тогда, когда мы разошлись с Олей… с Ольгой Александровной…
Перечитывая эти строки, опять задаю себе все тот же вопрос, который постоянно приходит мне в голову при воспоминании о покойном: но кто же, в конце концов, был этот принц, робко просивший кузнеца провести с ним вечер, человек, с истинно святой простотой называвший при посторонних дочь Александра III Олей, Николая II – Колей? (Да, однажды, на одном вечере у одного нашего знакомого, где большинство гостей были старые эсеры, он, слушая их оживленную беседу, совершенно искренно воскликнул: «Ах, какие вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах! Все, все было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга!»). Ответить на этот вопрос, – что за человек был он, – я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Некоторые называли его просто «ненормальным». Все так, но ведь и князь Мышкин был «ненормален», и святые, блаженные были «ненормальны»…
Письма его тоже очень рисуют его. Привожу некоторые строки и из них:
– …Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде… По субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-де-Люз… Давно ничего не писал; даже не могу кончить начатого еще летом рассказа; когда кончу, пришлю его Тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике… Очень соскучился по парижским знакомым… Переношусь мысленно в вашу парижскую квартиру: как было мне уютно у вас и как хорошо говорилось! Никогда не забуду вашего более чем доброго отношения ко мне… (1921 г.).
– …Спасибо Тебе большое за ласковое, доброе и милое письмо! Радуюсь от души, что Ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно… Приезжайте в наши края, тут и теплей и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза останавливался в одном пансиончике в предместье Сэн-Жан-де-Люз. Платил двадцать франков за все, стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чисты и приятны, хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитого китолова, патриархальны, симпатичны, я чувствовал себя у них, как дома… (1921 г.).
– …Здесь стояли холода, теперь настала дождливая погода, море бушует… Настроение у меня нерадостное, хочется поскорее весны, думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что-то не пишется, не нахожу слов для выражения мысли, изображения картины… (1922 г.).
– …Своим письмом Ты меня несказанно обрадовал. Спасибо Тебе большое за все, что Ты для меня сделал… Начал писать задуманную повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, буря, дождь; может быть, с весной, с солнцем станет на душе легче, а пока тоска и страшно одиноко… Очень прошу Тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ в «Сполохах» и где можно купить этот журнал? С нетерпением жду свидания с Тобой в Париже… (1922 г.).
Так дружески писал он ко мне. Но несмотря на это, и на всю нашу близость, я, в сущности, знал его мало: встречал не часто, – мы все жили в разных местах, – расспрашивать, выпытывать, «наблюдать» его как-то не мог… До эмиграции я даже не видал его никогда, сведений о его прежней жизни, в России, имею немного, – только то, что сказано в статье Алданова: до войны он, в чине генерал-майора, командовал стрелками императорской фамилии… в 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне в Воронежской губернии, где мужики – тоже довольно странная история – предлагали ему кандидатуру в Учредительное собрание… Потом, с наступлением террора, бежал во Францию и, большей частью жил по соседству со своим отцом, принцем Александром Петровичем Ольденбургским, на этой ферме под Байоной (которую, кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику, тоже бежавшему вместе с ним из России и неотлучно находившемуся при нем почти до конца его жизни в качестве и слуги и друга)… Неизвестен мне полностью и его характер, – Бог ведает, может быть, были в нем, кроме тех черт, которые знал я, и другие какие-нибудь. Я же знал только прекрасные: эту действительно «совершенно исключительную доброту», это «душевное благородство», равное которому надо было днем с огнем искать, необыкновенную, истинно очаровательную простоту и деликатность в обращении с людьми, редкую нежность и верность в дружбе, горячее и неустанное стремление ко всему, что дает человеческому сердцу мир, любовь, свет, радость…
Сперва он жил под Парижем, – тут мы встречались чаще всего, – потом, как уже сказано выше, под Байоной… Потом он как-то неожиданно, по общему нашему изумлению, вторично женился: встречаю его как-то в нашем консульстве (это было тогда, когда улица Гренелль еще оставалась в некотором нашем распоряжении) и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и говорит: «Не дивись, я тебя представлю сейчас моей невесте… Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу, насчет выполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы…» Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после того и прожил он. Через год, приехав весной искать дачу в Вансе (возле Ниццы), мы вдруг встретили его там: одиноко сидит возле кафе на площади, увидав нас, удивленно вскакивает, спешит навстречу:
– Боже, как я рад! Вот не чаял!
– А ты зачем и почему здесь?
Он махнул рукой и заплакал:
– Видишь: даже не смею обнять тебя и поцеловать руку твоей супруге. У меня внезапно открылась чахотка, послали сюда лечиться, спасаться югом…
Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санатории в Булони. Но не помогла и санатория: к весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался – в бедности, в полном одиночестве…
Той зимой он в последний раз посетил меня. Попросил позволения приехать: «Умоляю Тебя, как только это будет Тебе возможно, назначь мне свидание по очень важному для меня делу…» И вскоре, как-то вечером, приехал – едва живой, задыхающийся, весь облитый дождем. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспоминать о нем: его хотели взять в опеку, объявить умалишенным (все из-за того, что он подписал ферму под Бай оной своему денщику), и вот он приехал просить меня написать куда-то удостоверение, что я нахожу его в здравом уме и твердой памяти…
– Но, дорогой мой, помилуй, какое же может иметь значение мое удостоверение?
– Ах, ты не знаешь: очень большое! Если можешь, пожалуйста, напиши!
Я конечно написал. Помогло ли это, не знаю: смерть освободила его от всех наших удостоверений.
Гроб его стоит теперь в подземелье русской церкви в Каннах, ожидая России, успокоения в родной земле.
Заметки (о современниках) *
Это словцо в свое время все повторяли.
Однажды в присутствии Ключевского шел спор о русских романистах: кто хорош, кто плох, кто выше, кто ниже…
Ключевский, в своем старом сюртучке, под которым так приятно обозначалась его худоба, похаживал по комнате, глядя в пол, подпирая левой рукой свою тонкую талию, и молчал. Наконец обратились к нему:
– Василий Осипович, а вы как думаете?
Он весело и тонко усмехнулся, не поднимая головы:
– Я думаю, сказал он, что у всех русских исторических романистов есть общий и довольно печальный недостаток: все они слишком плохо знают историю. Счастливое исключение составляет один граф Салиас: тот истории совсем не знает.
* * *
Помню один большой ужин, на котором был Ключевский.
Это было после первого представления «На дне».
После этого представления публика, стоя, вызвала Горького ровно девятнадцать раз. Он всякий раз появлялся на сцене только после очень долгого крика, стука и всяких прочих восторгов зрительной залы, выходил, в своей блузе и сапожках с короткими голенищами, как-то внезапно, боком, со стиснутыми зубами, бледный до зелени, горбясь и не кланяясь, а только зло кидая назад свои длинные красно-желтые волосы. Когда же наконец зала почти опустела и занавес решительно опустился, он, поспешно и все с тем же ожесточенным видом надевая за кулисами пальто, стал отрьшистым басом командовать тем из своих друзей и почитателей, которые набились туда и теснились перед входом:
– Айда к Тестову – жрать будем!
Ужин давал он сам, назвав кроме актеров Художественного театра еще человек полтораста. И как только явился к Тестову, быстро вошел под новый гром аплодисмента в уже полную народом и блиставшую огнями залу, снова освирепел, густо крякнул и кинул кланявшемуся ему метрдотелю:
– Поживей и всего побольше! Рыбы первым делом и какой-нибудь этакой такой, черт ее дери совсем, чтобы была не рыба, а лошадь!
Среди гостей был и Ключевский. Гости, в ожидании Горького и ужина, толпились в зале с обычным в таких случаях и плохо скрываемым возбуждением. Один Ключевский был беспечно-спокоен, мирно-весел, стоял в сторонке, чистенький, аккуратный, слегка склонив голову набок и искоса поблескивая очками и своим зорким, лукавым оком. Когда Горький наконец появился и, нетерпеливо переждав аплодисменты, отдал это приказание насчет лошади-рыбы, он чуть-чуть развел руками с любезнейшей усмешкой:
– Лошадь! – сказал он. – Это, конечно, по величине приятно. Но немножко и обидно. Почему же непременно лошадь? Разве мы все ломовые?
* * *
Одно из самых приятных литературных воспоминаний – о Мирре Александровне Лохвицкой.
Она умерла еще молодой, по несчастной случайности, и вскоре после смерти (в девятьсот пятом году) была забыта. Но при жизни пользовалась известностью, слыла «русской Сафо» (как, впрочем, многие русские поэтессы). Воспевала ока любовь, страсть, и все поэтому воображали ее себе чуть не вакханкой, совсем не подозревая, что она, при всей своей молодости, уже давно замужем, – муж ее был один из московских францу зов, по фамилии Жибер, – что она мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива: часто даже гостей принимает, лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью и высокопарностью, а напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью, – все, очевидно, родовые черты, столь блестяще развившиеся у ее родной сестры, Н. А. Тэффи. Такой по крайней мере знал ее я, а я знал ее довольно долго, посещал ее дом нередко, был с ней в приятельстве, – мы даже называли друг друга уменьшительными именами, хотя всегда как будто иронически, с шутками друг над другом.
– Миррочка, дорогая, опять лежите?
– Опять. Неизменно.
– А где же ваша лира, тирс, тимпан? Она заливалась смехом:
– Лира где-то там, не знаю, а тирс и тимпан куда-то затащили дети…
С особенным удовольствием вспоминаю нашу первую встречу. Мы случайно сошлись в редакции «Русской мысли», – оба принесли туда стихи, – познакомились и вместе оттуда вышли. Помню, все было очень бело, валил крупный снег, впереди ничего не было видно, – только очаровательная белизна. Ока тотчас же весело начала:
– Послушайте, а про мужиков это тоже вы пишете?
– Я не про одних мужиков пишу.
– Но все-таки – вы? – Я.
– Зачем?
– А почему же не писать и про мужиков?
– Ну вот! Пусть себе живут и пашут, нам-то что до них? Удивительнее всего то, что за них тоже, говорят, платят. Вам сколько платят?
– Рублей семьдесят пять, восемьдесят.
– Боже мой! А за стихи сколько?
– Полтинник.
Она даже приостановилась:
– Как? А почему же мне всего четвертак?
– Не знаю.
– Значит, я хуже вас?
– Помилуй Бог, что вы!
– Но в чем же тогда дело? Вам сколько лет?
– Двадцать четыре.
– Ну тогда, очевидно, только потому, что я по сравнению с вами еще ребенок…
И все в ней было прелестно – звук голоса, живость речи, блеск веселых глаз, эта милая, легкая шутливость… Она и правда была тогда совсем молоденькая и очень хорошенькая. Особенно прекрасен был цвет ее лица, – матовый, ровный, нежный, подобный цвету крымского яблока. На ней было что-то нарядное, из серого меха, шляпка тоже меховая. И все это было в снегу, в крупных белых хлопьях, которые валили, свежо тая на ее щеках, на губах, на ресницах…
* * *
Совершенно забыл, никогда за всю жизнь не вспоминал – и вот вдруг вспомнил: давным-давно, бесконечно давно была в Полтаве лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками толстовского «Посредника», а над входом висела небольшая вывеска с моим именем: книжный магазин такого то… Очень странно, но так: у меня был когда-то книжный магазин. Я считал себя тогда толстовцем, но жил все-таки «в миру», а не в «келье под елью», как острили мои «мирские» друзья, говоря о толстовцах. Я служил в полтавской земской управе, был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я в свободное время, – а свободен я был всегда, – читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков (о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав и тому подобном), которые мне заказывало статистическое бюро, бывшее при управе, и составил, кстати сказать, столько, что, если бы собрать их теперь, к сочинениям моим прибавилось бы еще три-четыре порядочных тома. Так я проводил время до обеда. А после обеда шел в свой книжный магазин и ждал там покупателей, жаждущих толстовского благого просвещения. Покупателей однако не было, и вот я, чтобы хоть как-нибудь способствовать распространению этого просвещения, стал бесплатно раздавать некоторые брошюрки «Посредника» управским сторожам. Когда же и из этого не вышло ничего путного, – например, один сторож, которому я дал брошюрку о вреде курения, сказал мне вскоре после того, что вся брошюрка эта пошла у него на тютюн, – я решился на более смелое дело: стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать «Посредником» по ярмаркам, по базарам, где и был однажды (под Кобе л яками) задержан урядником «на предмет составления протокола за торговлю без законного на то разрешения», каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследование оказалось довольно сурово: меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был, понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся «пострадать». Однако и тут преследовала меня неудача: сидеть в тюрьме мне не пришлось, – я попал под всемилостивейший манифест по случаю восшествия на престол нового императора и таким манером от страданий был насильственно избавлен.
* * *
А. М. Жемчужников однажды сказал мне:
– Вот теперь все говорят о новой поэзии, все поэты стараются писать по-новому… Вас, по вашей молодости, это тоже, вероятно, тревожит, искушает. Что ж, тревога полезная. Я ничего не имею против нового, избавь Бог переписывать сто раз написанное. Но вот все-таки позвольте рассказать вам один старинный немецкий анекдот, – может быть, вы его не знаете. Студент приходит к своему профессору и говорит:
– Господин профессор, я хочу создать новое солнце.
– Что же может быть лучше, мой дорогой друг? – отвечает профессор. – От души радуюсь за вас и желаю вам успеха.
– Да, но мне, господин профессор, необходимо знать, что именно нужно знать для этого? – говорит студент.
– О, пустяки! – отвечает профессор. – Прежде всего необходимо изучить солнечные пятна…
– Пятна? Зачем?
– А затем, мой друг, чтобы обойтись без них.
* * *
С. Н. Толстой (родной брат Льва Николаевича) говорил, пожимая плечами:
– Не понимаю, что за писатели теперь пошли и как Левочке не совестно печатать вместе с ними свои сочинения!
И начинал перечислять (всюду делая ударение на букву «е»):
– Короленко, Потапенко, Кривенко… Даже есть какой-то Рубахин!
Так он называл Рубакина.
* * *
Толстой, как известно, имел привычку делать на полях читаемых книг отметки, иногда писать на них свои суждения, ставить баллы: единица, два, три с минусом и т. д.
Один рассказ, весьма в то время знаменитый, был посвящен ему и касался смертной казни, особенно тогда его волновавшей. Однако он отнесся к рассказу довольно сурово: отчеркнул строк пять в начале и поставил пять, а потом черкнул дальше, вдоль всей страницы, и написал:
«Отсюда пошла ерунда».
* * *
Заглавие пьесы «На дне» принадлежит Андрееву. У Горького заглавие было гораздо хуже: «На дне жизни». Однажды, выпивши Андреев говорил мне, усмехаясь, как всегда в подобных случаях, гордо, весело и мрачно, ставя точки между короткими фразами твердо и настойчиво:
– Заглавие – все. Понимаешь? Публику надо бить в лоб и без промаху. Вот Горький написал «На дне». Показывает мне. Вижу: «На дне жизни». Глупо, говорю. Плоско. Пиши просто: «На дне». И все. Понимаешь? Спас человека. Заглавие штука тонкая. Что было бы, например, если бы я вместо «Жизнь человека» брякнул: «Человеческая жизнь»? Ерунда была бы. Пошлость. А я написал: «Жизнь человека». Что, не правду я говорю? Я люблю, когда ты мне говоришь, что я хитрый на голову. Конечно, хитрый. А вот что ты похвалил мою самую элементарную вещь, «Дни нашей жизни», никогда тебе не прощу. Почему похвалил? Хотел унизить мои прочие вещи. Но и тут: плохо разве придумано заглавие? На пять с плюсом.
* * *
Думаю, что никто не знает, что у Горького был брат. Я видел его в Ялте, весной 99 года, когда познакомился с Горьким. Горького тогда уже встречали в каждом доме с восторгом и благоговением, он был уже в славе и достатке, носил под своей крылаткой ярко-желтую рубаху, вышитую разноцветными шелками по вороту и подолу, подпоясывался толстым и длинным шелковым жгутом кремового цвета. А брат работал при каком-то винном складе, мыл бутылки. У него была чахотка, ему нужен был южный климат. И вот он добрался откуда-то с Волги в Ялту. Он был очень худой, высокий, темноликий, иконописный, типичный пожилой мастеровой и по виду и по одежде, из тех, что страдают запоями, как это и было на самом деле, очень тихий, молчаливый, как бы всегда стыдящийся своих разбитых сапог и своей слабости насчет спиртного искушения. Горький обращался с ним сурово-покровительственно, как с чужим и простым человеком…
Никто не знает, вероятно, и того, что однажды Альфонс XIII был весьма обеспокоен судьбой Горького. Это было тогда, когда Горький был арестован и посажен в рижскую тюрьму. За что был он арестован и почему именно посажен в тюрьму в Риге, не помню. Но хорошо помню, что во многие европейские газеты были после того тотчас даны самые энергичные телеграммы, будто Горькому грозит смертная казнь. И вот тут-то и встревожился Альфонс XIII – дал телеграмму Николаю II. Вес тогда уверяли друг друга, что только это и спасло Горького от повешения.
* * *
Среди имен советских поэтов мелькало одно время имя: Уткин…
Этот Уткин (думаю, что этот), когда-то – очень давно, конечно, – прислал мне из своего родного города Ефремова пук своих стихов, с просьбой прочесть их и сказать, есть ли у автора талант, стоит ли ему продолжать творить и так далее – все, одним словом, о чем в таких случаях просят. Подпись автора была однако не совсем обычна:
«Уважающий вас поэт самородок Уткин».
А потом я с этим Уткиным познакомился, так как был с ним земляком и в Ефремове бывал. Встретились мы в ефремовской купальне. Стояла жара, теснота в купальне была ужасная. И вот, из-за множества голых и раздевающихся мещан, мастеровых, ко мне пробился белобрысый и тощий молодой человек в коротких полосатых подштанниках, с медным крестиком на груди, и робко представился:
– Поэт самородок Уткин…
А затем стал жаловаться на судьбу:
– Я, знаете, служу у податного инспектора… Так он прямо со свету сживает меня: «Если, говорит, замечу еще раз, что ты пишешь стихи, я тебе, говорит, голову отмотаю, сукин сын!»
* * *
В Москве, у Лубянской Стены, где букинисты, их лавки, ларьки.
Толстомордый малый, торгующий книгами «с рук», покупает у серьезного старика букиниста сочинения Чехова.
Букинист назначил двенадцать копеек за том, малый дает десять, – просит октавой, ежась и топчась от морозу, дыша белым паром:
– Дяденька, уступите!
Букинист молчит, малый опять, смиренно и угрюмо:
– Будьте так любезны, дяденька!
Букинист делает вид, что ничего не видит, не слышит, – нервно и озабоченно поправляет на ларьке книги и брошюры… И вдруг с неожиданной и необыкновенной энергией:
– Вот встал бы Чехов из гроба, обложил бы он тебя (крупное многоточие)! Писал, писал человек, двадцать три тома написал, а ты (крупнейшее многоточие) за трынку хочешь взять!








