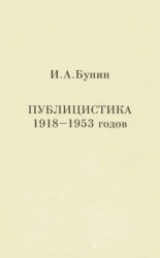
Текст книги "Публицистика 1918-1953 годов"
Автор книги: Иван Бунин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 56 страниц)
К воспоминаниям *
О Толстом
Прочел «Встречи с Толстым» Н. А. Цурикова, напечатанные в «Возрождении». Очень ценные и хорошие статьи.
Цуриков прав, что воспоминаниям о Толстом уже конца-краю нет. Но много ли и до сих пор среди этих воспоминаний таких, где бы Толстой чувствовался по-настоящему? В воспоминаниях же Цурикова он чувствуется необыкновенно живо.
Большинство писавших о Толстом принадлежали к среде совсем другой, чем Толстой, говорит Цуриков. И мне хочется прибавить: вот в этом-то и вся беда. Другое дело – Цуриковы. И так бы хотелось, чтобы «Встречи с Толстым» не затерялись среди прочих произведений этого рода.
Цуриковым же следует и поправлять некоторые чужие воспоминания и статьи о Толстом. Вот, например, недавно напечатанная в «Руле» статья г. Бродского о языке Толстого, основанная на воспоминаниях Гольденвейзера, – о языке Толстого не литературном, а житейском. Бродский верно замечает, что «в жизни великих художников мелочи их быта, незначительные на первый взгляд привычки, одежда, манера себя держать, внешний облик и язык, – не литературный, а житейский, – зачастую дают то, чего не заменят целые тома биографий» – и приводит затем из книг Гольденвейзера «некоторые особенности Толстовского языка». Были ли, однако, эти особенности лично Толстовскими? Спросите Н. А. Цурикова – он ответит, что, конечно, нет, нисколько.
Это же скажу и я, тоже земляк Толстого, принадлежащий к тому же быту, что и Толстой. Нет, это не Толстовские, это наши общие особенности: особенности языка той сравнительно небольшой местности, самые дальние окружные точки которой суть Курск, Орел, Тула, Рязань и Воронеж. И разве не тем же языком пользовались чуть ли не все крупнейшие русские писатели? Потому что чуть не все они – наши. Мы недавно говорили об этом с Цуриковым, и он в своих «Встречах с Толстым» уже написал это: замечательная местность, много славных земляков у нас с ним! Жуковский и Толстой – тульские, Тютчев, Лесков, Тургенев, Фет, братья Киреевские, братья Жемчужниковы – орловские, Анна Бунина и Полонский – рязанские, Кольцов, Никитин, Гаршин, Писарев – воронежские. Даже и Пушкин с Лермонтовым отчасти наши, ибо их родичи, Воейковы и Арсеньевы, тоже из наших мест, из наших квасов, как говорят у нас.
Повторяю, из всего множества примеров, которые приводит Гольденвейзер в доказательство особенностей Толстовского языка, я не нашел ни одного, который убедил бы меня в этих особенностях.
– «Толстой слегка пришепетывал: например, слово лучшепроизносил как лутче…»
Пришепетывание тут совсем не причем. – Я никогда не пришепетывал, а всегда говорил «лутче», ибо у нас всетак говорили – и в семье, и на дворе, и в деревне, где пели:
Лутчежити без заботы, Чем богатому ходить!
– «Толстой букву гв большинстве случаев произносил как легкое французское аш…»
Но я, в силу вышеуказанной причины, даже и после шестилетней жизни во Франции, говорю: Господи почти как Хосподи.
– «Толстой употреблял такие выражения, как намедни, давеча, эдакойвместо этакий, свитавместо армяк; Толстой говорил скрипкавместо скрипка, скородитьвместо боронить, делал ударение на втором слоге с конца в слове до смерти…»
И опять я только усмехаюсь: но мы все и всегдатак говорили!
Кстати, вообще о языке этой нашей местности. Конечно, не мешает помнить столь затрепанное замечание Пушкина о языке московских просвирен. А не лучше ли все-таки был наш язык? Ведь к нам слали из Москвы (для защиты от набегов татар) служилых людей со всех концов России. Не естественно ли, что тут-то и должен был образоваться необыкновенно богатый, богатейший язык? Он, по-моему, и образовался.
Записная книжка (о революционных годах в России) *
«Кооперативная заря». Кто поверит, что был и такой журнал? А ведь был, был.
* * *
В память совместного сиденья в Таганской тюрьме за подписание Выборгского воззвания один знаменитый кадет подарил другому, еще более знаменитому, серебряную пепельницу в виде тюремной параши: вспоминай, мол, и гордись.
* * *
А. А. Б. Рассказывал мне, как захватил он в славные и приснопамятные февральские дни министерство финансов:
– Очень великолепно захватил! Вижу, стоит и орет в грузовике какой-то длиннейший лохмач студент. Я его за шиворот – «чего попусту орать, надо дело делать, едем захватывать министерство финансов!» – И поехали, и захватили и даже без малейшего сопротивления со стороны противника. А вечером закатили на радостях знатный обед, собралось порядочно народу тоже из числа тех, что в этот день что-нибудь захватывали, а я и говорю им, смеясь: «Братцы, а теперь давайте новый переворот устраивать, контрреволюционный, захватывать все сначала и уже не под красным флагом, а опять под монархическим. Ей Богу, еще легче захватим!».
Веселые были вообще деньки. Недаром еще и теперь некоторые «февралисты» плачут от умиления:
– Боже, какой тогда был всеобщий народный подъем, порыв к новой прекрасной жизни!
* * *
Воспоминания г. Маргулиеса о князе Кропоткине.
Казалось бы, что после того, что случилось, волосы должны встать дыбом у каждого, читающего подобные строки. Казалось бы, автор должен был бы просто кричать:
– Послушайте, послушайте, какие страшные, неправдоподобные вещи рассказываю я вам!
А меж тем ничего подобного. И автор совершенно спокоен и читатель читает как ни в чем не бывало.
– «В конце семнадцатого года мы собирались на квартире Кропоткина для обсуждения вопроса о создании Лиги федералистов»…
Конец семнадцатого года – что уже было тогда в России? А вот люди собирались и «создавали» еще одну «Лигу», – уже тысячную из числа тех несметных, что все создавались и создавались в том кровавом сумасшедшем доме, в который уже превратилась тогда вся Россия!
Но что лига! – дальше рассказываются вещи гораздо более ужасные.
В марте восемнадцатого года большевики выгнали Кропоткина из его квартиры. Он покорно перебрался на другую, но большевики выгнали его и оттуда. И тем не менее он «стал добиваться свидания с Лениным» – в пренаивнейшей надежде заставить его раскаяться в том чудовищном терроре, который уже шел тогда в России – и таки добился этого свидания.
– Кропоткин, рассказывает г. Маргулиес, был в добрых отношениях с Бонч-Бруевичем и вот у него-то в Кремле и состоялось это свидание…
Читаешь и глазам не веришь: как, Кропоткин все еще продолжал быть «в добрых отношениях» с этим редким даже среди большевиков негодяем, затесавшимся в Кремль? Оказывается, продолжал… И мало того: пытался при его помощи повернуть большевистские деяния на путь гуманности, права! А потерпев неудачу, «разочаровался» в Ленине и говорил о своем свидании с истинно младенческим удивлением:
– Оказывалось, что убеждать этого человека в чем бы то ни было напрасно. Я упрекал его, что он, за покушение на него, казнил две с половиной тысячи человек. Но это не произвело на него никакого впечатления…
А затем пришлось удивляться еще более: большевики согнали князя и с другой квартиры, и «оказалось», что надо переселяться в уездный город Дмитров, а там существовать в столь пещерных условиях, какие и не снились самому заядлому анархисту. Там Кропоткин и кончил свои дни, пережив истинно миллион терзаний: муки от голода, муки от цинги, муки от холода, муки за старую княгиню, изнемогавшую в непрерывных заботах и хлопотах о куске гнилого хлеба…
– Кропоткин, пишет г. Маргулиес, мечтал раздобыть себе валенки. Да так и не раздобыл, – только напрасно истратил несколько месяцевна получение ордера на эти валенки…
И далее:
– Вечера Кропоткин проводил при свете лучины, дописывая свое предсмертное произведение об этике…
Можно ли придумать что-нибудь страшнее? Целая жизнь (жизнь человека, близкого в юности к Александру II), ухлопанная на революционные мечты, на грезы об анархическом рае, – это среди нас-то, тварей, еще не совсем твердо научившихся ходить на задних лапах! – и, как венец всего, голодная смерть при лучине, среди наконец-то осуществившейся революции, возле рукописи о человеческой этике!
Я видел Кропоткина только раз, – был у него тоже на каком-то заседании в его первой квартире, – и вынес от него прекрасное, но необыкновенно грустное впечатление: очаровательный старичок самого высшего света – и совершенный младенец.
* * *
«Реакция превратила Россию в дортуар при участке»… Это «крылатое слово» пустил в 1904 г. другой князь, тоже один из знаменитых князей интеллигентов, и его долго с восторгом повторяли… Великая страна ломилась от преизбытка жизни, расцвета. А мы с своей колокольни видели только «участок»… С ума можно сойти, если вдуматься в это хорошенько!
* * *
Впрочем есть ли что-нибудь на свете, что может испугать нас?
Вот еще два знатных русских интеллигента: два старых, заядлых книжника, которые вздумали составить книгу из своих писем друг к другу, воспользоваться для нее тем словесным турниром, который затеяли они, сидя в Москве, из своих «двух углов», решая вопрос, есть ли веревка вервия простая или не простая, хороша ли культура или нет?
В России была тогда такая мерзость библейская, такая тьма египетская, которых не было на земле с самого сотворения мира, люди ели нечистоты, грязь, трупы, собственных детей и бабушек, многотысячными толпами шли куда-то на край света, куда глаз глядят, к какому-то индейскому царю… В Москве, глухой, мертвой, рваной, вшивой, тифозной, с утра до ночи избиваемой и всячески истязаемой, замордованной до полной потери образа и подобия Божия, люди испражнялись друг при друге, в тех же самых углах, где они ютились, и каждую минуту всякий ждал, что вот-вот ворвется осатанелый от крови и самогона скот и отнимет у него, голодного Иова, последнюю гнилую картошку, изнасилует его жену или мать, ни с того ни с сего потащит и его «к стенке»… А старики сидели и поражали друг друга витиеватым красноречием на тему: лучше быти без культуры или же нет? – Но и этого мало: нужно прибавить к этой картине еще и то, что русичи, сидевшие в это время в Берлине, в Праге, в Париже, захлебывались от радостного крика: «К прошлому возврата нет!» – и писали восторженные статьи насчет этих самых московских стариков:
– В их изумительной книге, как в фокусе, отразилось все, чем живет и болеет Россия
«Вызывали ночью мужчин, женщин, выгоняли на темный двор, снимали с них обувь, платье, белье, кольца, часы, кресты, делили между собой… Гнали разутых раздетых по ледяной земле, под северным ветром, за город, на пустыри, освещали ручным фонарем… Минуту работал пулемет, потом валили, – часто недобитых, – в яму, кое-как засыпали землей…»
Каким чудовищем надо быть, чтобы бряцать об этом «рукой изысканной на лире», перегонять это в литературу, литературно-мистически, на манер Иванова, Блока, Белого, закатывать по этому поводу под лоб очи? А ведь бряцали:
– Носят ведрами спелые грозди,
Валят ягоды в глубокий ров…
Ах, не грозди носят, – юношей гонят
К черному точилу, давят вино:
Пулеметом дробят и кольем
Протыкают яму до самого дна…
Чего стоит одно это томное «ах»! Но и перед этим певцом в стане чекистов таяли от восхищения. И, ободренный, он заливался все слаще:
Вейте, вейте, снежные стихии,
Заметайте древние гроба!
То есть: канун вам да ладан, милые юноши, гонимые «к черному точилу»! По человечеству жаль вас, конечно, да что ж поделаешь, ведь эти чекисты суть «снежные древние стихии»:
Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!»
И мало того, что «прав», молю
Тебя, не останавливайся —
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия,
Если ж дров в плавильне мало —
Господи, вот плоть моя!
Страшнее же всего то, что это не чудовище, а толстый и кудрявый эстет, ценитель всяческих искусств, любезный и неутомимый говорун и большой любитель покушать. Почти каждый день бывая у меня в Одессе весной девятнадцатого года, когда «черное точило» (или, не столь кудряво говоря, чрезвычайка на Екатерининской площади) уже усердно «прокаляло толщу бытия», он часто читал мне то стихи вроде вышеприведенных, совсем не понимая всей пошлости этого словоблудия насчет то «снежной», то «обугленной» России, то переводы из Анри де Ренье, а порою пускался в оживленное антропософическое красноречие. И тогда я тотчас говорил ему:
– Максимилиан Александрович, оставьте всю эту музыку для кого-нибудь другого. Давайте-ка лучше закусим: у меня есть сало и спирт.
И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречие и с каким аппетитом уписывал он сало, совсем забыв о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случае недостатка дров «в плавильне»!
«Своими путями» *
Случайно просмотрел последний номер пражского журнала «Своими путями». Плохие пути, горестный уровень!
Правда, имена, за исключением Ремизова, все не громкие: Болесцис, Кротков, Рафальский, Спинадель, Туринцев, Гингер, Кнут, Луцкий, Терапиано, Газданов, Долинский, Еленев, Тидеман, Эфрон, и т. д. Правда, все это люди, идущие путями «новой» русской культуры, – недаром употребляют они большевистскую орфографию. Но для кого же необязателен хотя бы минимум вкуса, здравого смысла, знания русского языка? Вот стихи Болесциса, которыми открывается номер:
Капитан нам прикажет строго:
Обломайтестрелу на норд,
Чтоб назад не найти дорогу…
Мы, стаканы осушим до дна,
Бросим золото в грязь таверэн…
Вот Рафальский:
Кончить жизнь не стоило б труда,
Но слаще длить в пленительном обмане,
Что на ладони каждая звезда…
Вот Туринцев:
Дебаркадер. Экспресс. Вагон – и Вы…
Вы за щитом, мы не одни,
Сейчас не должен дрогнуть рот…
Вот Гингер:
Всей душой полюбила душа моя
Тех, кто любит чужие края…
Для кого поселянка румяная
Исходила парным молоком,
В ком разгуливала безымянная
Кровь, а сердце большим молотком…
Вот Давид Кнут, у которого некто Он, идущий «за пухлым ангелом неторопливо», обещает Ною награду —
За то, что ты спасал
Стада и стаи мечти слов,
Что табуны мои от гибели и лени
Твое спасло – Твое – весло…
Вот Ладинский, подражающий, очевидно, Третьяковскому:
В Соленой и слепой стихии
Нам вверен благородный груз:
Надежды россиян, стихи – и
Рыдания беглянок муз…
Вот Луцкий:
Не так ли, хвост поймать желая,
Собака вертится волчком
И мух докучливая стая
Над потнымвьется языком?
Очень хорошо! Но дальше еще лучше: оказывается, что эти господа еще и претендуют быть учителями русского языка. В журнале есть отдел под странным заглавием «Цапля», где между прочим высмеивается язык обращений Великого князя Николая Николаевича. Приводится несколько строк из этих обращений: «Нестерпимы угнетения народа русского, преследование веры православной…» Казалось бы, что тут смешного? Но авторы «потного языка», «таверэн» и «мечт» все-таки смеются, они говорят:
«Определение, поставленное после определяемого, приобретает свойство парафина, на этой слабительной сторонедержится весь так называемый русский стиль, да Бог с ним, высокопоставленным адресам время прошло»…
Смею уверить пражских комсомольцев, что весьма многие и весьма неплохие русские писатели ставили и ставят определение после определяемого, когда это требуется, и что подобное остроумие всячески и на всех путях непристойно.
«Версты» *
Еще один русский журнал за рубежом, – первая (и громадная) книга «Верст». Просмотрел и опять впал в уныние. Да, плохо дело с нашими «новыми путями». Нелепая, скучная и очень дурного тона книга. Что должен думать о нас культурный европеец, интересующийся нами, знающий наш язык, понимающий всю страшную серьезность русских событий – и читающий подобную русскую книгу? Кто тот благодетель, тот друг «новой» России, который так щедро на нее тратится? И, что значит, – «Версты»? Верстовые столбы, что ли, то есть, опять «новые вехи»? И с какою целью расставляются они?
Редакторы – Святополк-Мирский, Сувчинский и Эфрон, ближайшее участие – Ремизова, Марины Цветаевой и… Льва Шестова. Что за нелепость, за бесшабашность в этой смеси: Цветаева – и Шестов! И какая дикая каша содержание журнала! Треть книги – перепечатки из советской печати. Остальное – несколько вещей Ремизова, поэма («Поэма горы») Цветаевой, статья Лурье о музыке Стравинского, статья Шестова о Плотине, несколько статей Святополк-Мирского, затем, опять перепечатки из советской печати… и, наконец, ни с того ни с сего, «Житие Протопопа Аввакума, им самим написанное»… Что за чепуха, и, зачем все это нам преподносится?
«Мы, говорится в программной статейке журнала, ставим себе задачей объединение всего, что есть лучшего и самого живого в современной русской литературе… В настоящее время русское больше самой России; оно есть особое и наиболее острое выражение современности. Намереваясь подходить ко всему современному, „Версты“ будут отзываться не только на явления русской культуры, но и на иностранную литературу и жизнь. Что же касается попытки найти естественное сочетание наиболее живых и нужных тяготений русской современности, то, объединяя в одном издании русскую поэзию, беллетристику, критику, библиографию и литературные материалы со статьями по вопросам философии, языкознания, русского краеведения и востоковедения, мы устанавливаем один из возможных обобщающих подходов к нынешней России и к русскому».
Вот, значит, каковы намерения журнала, – выписываю его программу почти целиком, выпустив всего пять строк из первого абзаца, ни в каком отношении не важных. Но, что можно понять из этого набора слов?
Только одно: хотим собирать все лучшее русское, все наиболее живое, нужное… Однако, почему первые же строчки этих руссофилов так скверно звучат по-русски?
«Объединение всего, что есть лучшего и самого живого…» А затем: весьма сомнительно, что все лучшее стремится собирать журнал.
Нет, у него есть, очевидно, другие, весьма предвзятые намерения. Как ни мало вкуса у его редакторов, все-таки видно, что действуют они не только по своему вкусу. И действуют прежде всего страшно по старинке: эта смесь сменовеховства и евразийства, это превознесение до небес «новой» русской литературы в лице Есениных и Бабелей, рядом с охаиванием всей «старой», просто уже осточертело. Книга Протопопа Аввакума, конечно, всячески интересна, но зачем все-таки понадобилось «Верстам» печатать ее? Для придания себе серьезной, культурной видимости? Как всегда, очень интересен, Шестов. Но чем его статья связана со всем прочим, что есть в «Верстах»?
Вот перепечатки из советской печати. Прежде всего – зачем они теперь? Русские зарубежные издания, неизвестно по какому праву, уже давным-давно так злоупотребляют ими, что смотреть тошно. А, кроме того, что в них замечательного и нового? Писарская, сердцещипательная или нарочито-разухабистая лирика Есенина известна, переизвестна:
Но люблю я твой взор с поволокой
И лукавую кротость твою…
Мне в лице твоем снится другая,
У которой глаза голубень…
Пусть она и не выглядиткроткой,
И, пожалуй, на вид холодна…
Что тут, повторяю, нового, если исключить дурацкое слово «голубень», что тут «самого лучшего, самого живого»? Очень неинтересен и очень надоел и Пастернак, о котором уже сто раз успел сказать Святополк-Мирский: «вся прошлая русская литература – гроб повапленный и вся надежда русской литературы теперь в Пастернаке и Цветаевой!» Бабель тоже ценность и новинка, не Бог весть какие. Вот, разве, Сельвинский и Артем Веселый? Но, и у них – непроходимая, зеленая скука.
А было Стецюре двадцать годов,
Он работал борца. У Труцци.
Звался Бовой, носил шесть пудов,
И не знал ни журбы, ни грусти.
Но тут революция наперерез.
Цирк подумал и рухнул.
Арбитр с кассой махнул в Бухарест,
Директора взяли на муху…
Так начинается необыкновенно нудная, со всякими нарочито-хамскими вывертами и словечками, якобы, народными, «новелла» Сельвинского о каком-то Стецюре, который «заделался» красноармейцем, и так тянется она без конца и без края. Да, не лучше и прочие выкрутасы этого Сельвинского, замечательные, разве только тем, что в них вопросительные знаки разделяют иногда одно слово:
###Нночь-чи? Сонъы? Прох?ладыда…
Это, видите ли, цыганские песни, и таких песен «Версты» перепечатали несколько штук, меж тем, как не прочтешь, не задохнувшись, даже и десяти строк этой чепухи (да, еще напечатанной по большевистской орфографии, как все в «Верстах»). А потом идет «Вольница» Артема Веселого, страниц двадцать какого-то сплошного лая, напечатанного с таким типографским распутством, которое даже Ремизову никогда не снилось: на страницу хочется плюнуть – такими пирамидами, водопадами, уступами, змееподобными лентами напечатаны на ней штуки, вроде, например, следующих: «Гра, Бра, Вра, Дра, Зра с кровью, с мясом, с шерстью…» Что это значит, и кого теперь удивишь этим?
А уж про Ремизова и Цветаеву и говорить нечего: тут любой дурачок за пятачок угадает, что именно дал в сотый, в тысячный раз, Ремизов насчет Николая-Чудотворца и Розанова и чем опять блеснула Цветаева:
Красной ни днесь, ни впредь
Не заткну дыры,—
жалуется она в своей поэме и продолжает:
О, далеко не азбучный
Рай сквознякам сквозняк…
Гора, как сводня святости,
Указывала: здесь…
Та гора была, как горб
Атласа, титана стонущего,
Той горой будет горд
Город, где с утра до ночи мы
Жизнь свою, как карту, бьем
Страстные не быть упорствуем
Наравне с медвежьим рвом
И двенадцатью апостолами…
А рядом с Цветаевой старается Святополк-Мирский: в десятый раз долбит, повторяет почти слово в слово все то, что пишется о нас в Москве, наделяя нас самыми нелепыми, первыми попавшимися на распущенный язык уничижительными кличками и определениями…
Кстати сказать, узнал я из этих «Верст», что «гениальный» Белый написал новый роман и как именно написал он его. Вот несколько образчиков:
– Заводнили дожди. И спесивистый высвист деревьев не слышался: лист подвеялся; черные россыпи тлел ости тлели мокреслями; и коротели деньги, протлевая…
– Пальцы дергунчики выбарабанивали дурандинники… Лизашка откликнулась, с грудашкою, вовсе не грудкою, и не большого росточка… Прическа – куртиночка; вся – толсто-тушка… Груди ее были – тряпочки; ножки ее были палочки; только животик казался бы дутым арбузиком…
И так далее, и так далее.
P. S. Мне пишут, что некоторые сотрудники журнала «Своими путями», обижены на меня за то, что я в своей заметке о нем употребил (хотя и иносказательно) слово «комсомольцы». Но ведь это слово, конечно, относилось только к острякам из отдела «Цапля» и к тем, которые их одобряют. Прочим я могу только посоветовать не быть их попутчиками.
P. P. S. Когда предыдущие строки были уже написаны, я прочел в воскресном номере «Возрождения» письмо г. Тидемана, который тоже счел себя оскорбленным мною. Очень сожалею, что невольно причинил неприятность и ему, равно как и всем, кто оказался рядом с «Цаплей» случайно, по неосмотрительности.








