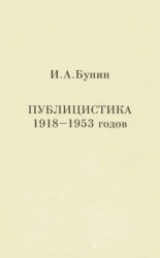
Текст книги "Публицистика 1918-1953 годов"
Автор книги: Иван Бунин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 56 страниц)
Я приведу из него всего несколько строк, сравнительно невинных, но все-таки удивительно постыдных для почитателей Есенина: о том, как жулики гримируются под самородков, и сколь уже не ново это искусство. Есенин, в зависимости от необходимости, то воспевавший сладким тенором Иисуса, то с балаганно-наигранной удалью «крывший матом» все и вся на земле и на небе, поучает Мариенгофа, как надо делать поэтическую карьеру:
– Так, с бухты-барахты, не след лезть в русскую литературу, Толя, искусно надо вести игру и тончайшую политику. Трудно тебе будет в лаковых ботиночках. Разве можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брюках из-под утюга? Вон, смотри – Белый. И волос уж седой, и лысина, а даже перед свой кухаркой, и то вдохновенно ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Да и вообще каждому надо поставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас всходил? Тут, брат, дело надо было вести хитро. Всходил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голенищами в гармошку. Один говорит, что это его, Есенина, в литературу ввел Городецкий, другой – что это ввел Клюев, третий – что это Сологуб, четвертый – что это Мережковский, Гиппиусиха, Блок… А я со всеми соглашаюсь: ввел, ввел… Все на меня в лорнеты, – «ах, как замечательно, ах, как гениально» – а я-то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости! Потеха! Знаешь, я никогда в жизни не носил таких рыжих сапог и такой драной поддевки, в какой перед ними предстал. Говорю, еду в Ригу бочки катать, жрать, мол, нечего. А какие там бочки – за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом… Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел, – не надо ли, мол, чего покрасить, – и давай кухарке стихи читать. А кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнаты, а поэт-то упирается: где уж, мол, нам в горницу, креслица барину перепачкаю, пол вощеный наслежу… Барин предлагает садиться, – Клюев опять ломается, мнется, да нет, мол, мы постоим… Так, стоя в кухне, и читал ему стихи…
– Тут, рассказывает Мариенгоф, Есенин помолчал, глаза его обернулись в серые, злые. «Меня, продолжал Есенин, недели три по салонам таскали, я им похабные частушки распевал под тальянку… Ух, как ненавижу я всех этих Сологубов с Гиппиусихами!»
<Ответ на анкету «Литературной недели» «Дней»> *
1. Что вы думаете о художественной литературе в Советской России?
2. Каких беллетристов, работающих в Советской России, вы считаете людьми талантливыми или подающими надежды?
Думаю, что для людей, мало-мальски понимающих, что такое художество, и не раздувающих «советскую» литературу с посторонними целями, о ней не может быть двух мнений: в общем она очень горестна, да и не может быть иной.
Среди «советских» (разумея новых, «молодых») писателей есть люди от природы способные, но ведь почти все они люди некультурные, самомнительные, притязательные, всячески (и больше всего своим рабством) развращаемые, принужденные постоянно дышать невероятной вульгарностью, грубостью, лживостью и бессовестностью, которой отравляет воздух России ее до противоестественности подлая власть.
Желаю им как можно скорее избавиться от нее.
Проклятое десятилетие *
Письмо <в редакцию>
Дорогой Петр Бернгардович!
Я слишком поздно получил Ваше письмо, Вашу просьбу отозваться на «проклятое», по Вашему выражению, десятилетие, которое будет на днях «праздновать» Россия. Кроме того, что я могу сказать? Все слова давно сказаны и мое отношение не только к большевикам, но и ко всей «великой и бескровной» хорошо известно. Я лишь могу еще раз всеми силами души присоединиться к великому хору проклятий этому десятилетию, ибо все-таки найдутся, слава Богу, миллионы не только русских, но и вообще человеческих душ, которые паки и паки проклянут этот юбилейный день, да, может быть, и день собственного рождения в том мире, где оказалось возможно такое десятилетие, подлее и преступнее которого не было еще в нем с самого его сотворения.
Да помянет Господь всех убиенных в эти годы, да благословит Он всех погибших и боровшихся за Россию и за подобие Божие данное человеку: не будь их, усумнилась бы душа в этом подобии и со страхом отреклась бы от принадлежности к России.
Обнимаю Вас с сугубой сердечностью, дорогой друг и соратник!
Ваш Ив. Бунин
17–30 октября 1927 года.
Приморские Альпы.
<Ответ на анкету о 10-летии Октябрьского переворота> *
1. Что стоило русскому народу 10-летие большевистского владычества?
2. Почему большевики могли просуществовать в России 10 лет?
3. Куда идет Советская Россия? К социализму или капитализму? К республике, к монархии или к усовершенствованной советской системе?
4. Каким образом и когда кончится господство большевиков в России?
1. Даже и счесть невозможно. О том, насколько и материально и морально поразил – и, может быть непоправимо – Россию большевизм, надо написать томы.
2. В силу множества причин, множества условий, сложившихся для большевиков сказочно благоприятно – даже и в мировом масштабе. Мир, кажется, никогда еще не был так бесстыден, бездушен, низок, недальновидно жаден, бессмысленно враждебен (корыстен) к России, легкомыслен насчет своего собственного будущего, слаб в смысле «управления массами». Поддерживает большевизм и сама Россия, где хозяин дня – чернь и полудикари. Да совершенно изумительно и то, чем обладают нынешние владыки России – их подлость, свирепость, сатанинская неутомимость…
3. А куда идет весь мир? Россия же идет уж, конечно, не к социализму и не «к усовершенствованию советской системы». Она бы и «усовершенствовалась» – и может быть прежде всего затем, чтобы надежнее существовать, свободнее пользоваться награбленным, быть признанной уже всем миром, примирить с собой всех «левых», всех Кусковых и Мартовых – да это значит ослабить вожжи, а ослабить их опасно, так что получается заколдованный круг.
4. Дело идет все-таки к взрыву, который может вспыхнуть из копеечной свечи. Республика, монархия? Вероятнее всего сначала будет какая-нибудь военная диктатура – дня и часа которой, конечно, не угадаешь – потом что-нибудь вроде «совета десяти» (из железных дельцов, бывших «спецов»)… Впоследствии не исключена и монархия… Говорить, что «к прошлому возврата нет» могут только люди или хитрящие, или глупые, или не знающие истории России.
Заметки *
Личная жизнь, благородные протесты против вторжения в нее…
Недавно, например, была пылкая статья Талина в «Посл<едних> нов<остях>» по поводу якобы «сыска», произведенного г. М. в «Возрождении», почему не едет в Россию Горький, затем большая брань в «Воле России» по моему адресу за то, что я коснулся Дункан и Есенина… Но вот в чем вопрос: где дозволенные границы этого вторжения и почему можно вторгаться в одну личную жизнь, а в другую нельзя?
Увы, есть много личного, во что некоторые без конца вторгались и вторгаются.
Много, например, уделяли внимания тому, что Толстой ел яйца и что овсянку ему подавал лакей.
Что Александр Третий пил водку и что вообще «деспоты» все пировали, «тревогу вином заливая».
Что Пушкин (тот самый, на которого так любят ссылаться протестанты) жил со свояченицей, а Байрон с родной сестрой.
Что Некрасов играл в карты и поэтому был вовсе не «печальник о горе народном».
Что Екатерина Великая была любвеобильна.
Что Распутин будто бы позволял себе во дворце то-то и то-то, а Вырубова была к Распутину неравнодушна.
Что Шаляпин стоял на коленках перед царем.
Что принцесса, выходящая замуж за Зубкова, омолаживалась…
После всего этого почему же нам не интересоваться «личной» жизнью Коллонтай, Каменевой, Луначарского, карманами Красина и Раковского, прогрессивным параличем Ленина, тем, как плясала и как вообще «жила и работала» Дункан в Москве в те самые дни, когда люди с голоду ели нечистоты и трупы, как дебоширил и франтил «рабоче-крестьянский поэт» Есенин и почему Горький, на весь мир вопиящий о рае в Совдепии и всех туда зазывающий, сидит в Сорренто?
Я вполне понимаю неприкосновенность некоторых сторон личной жизни и никогда бы не позволил вмешиваться без нужды в мою, например, личную жизнь. Ну, а если бы я, эмигрант, враг большевиков, вдруг попил бы чайку на улице Гренель? Разве я отказал бы Талину вправе осрамить публично вот эту мою «личную» жизнь, мое «личное» чаепитие?
И особенно нелепа тут щепетильность по отношению к Горькому. Да ведь на его «личном» основана почти вся его слава! Он своим «личным» торговал с самого первого дня всей своей скандальной карьеры. Разве не от него самого слышим мы чуть не каждый день и до сих пор стоеросовые сказки о его будто бы злосчастном, усеянном тысячами приключений и профессий детстве, о его смехотворно-несметных скитаниях и встречах в юности, о его мнимом босячестве, о том, что он стрелялся в правое легкое и что мужики будто бы отбили ему левое, что он болен уже лет сорок пять чахоткой и что каждый месяц паки и паки ложится на смертный одр, хотя здоровьем он, по-моему, обладает поистине редким, таким, что я, близко знавший его чуть не четверть века подряд, всегда только дивился ему…
Кстати, – опять приходится отметить одну новую выходку его. В газетах напечатано, что были недавно у него в гостях два советских писателя. Слово за слово, а он все покашливает.
– Что это с вами, Алексей Максимович?
А он с этаким невинно-беззаботным видом:
– Да ведь у меня левое легкое отбито… Я в молодости попал раз в одну деревню, а там мужик свою жену догола раздел, запрет в телегу и кнутом дерет, а вся деревня стоит и восхищается. Тут же и поп. Я к нему: что ж вы, мол, не вмешаетесь? – и это самое… в ухо дал ему… Ну, мужики и избили меня за него…
Можно ли представить себе что-нибудь постыднее этого «личного»?
Дон-Аминадо «Наша маленькая жизнь» *
Изд. Поволоцкий и К°. Париж, 1927 г.
Меня не раз спрашивали, что я думаю о таланте этого писателя, то есть, кто такой этот писатель: просто ли очень талантливый фельетонист или же больше, – известная художественная величина в современной русской литературе?
Мне кажется, что уже самая наличность этого вопроса предрешает ответ: спрашивающие чувствуют, что имеют дело не просто с популярным и блестящим газетным, злободневным работником, а с одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которых дают художественное наслаждение.
И вот я с удовольствием пользуюсь случаем сказать, что это чувство совершенно справедливо.
Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах) и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту, – художественному, а не только газетному, злободневному.
Заметки (о газете «Возрождение») *
С месяц тому назад в газете «Возрождение» появилась статья З. Н. Гиппиус, в которой она заявила, что левые и правые пути изжиты и что нужен некий третий путь. Это вызвало несколько резких замечаний в левых газетах: знаем мы, мол, этот третий путь – Гиппиус просто свернула направо, иначе как бы она могла появиться в «Возрождении»?
В статье Гиппиус было твердое заявление: «Я только с теми, кто признает, приемлет февральскую революцию…» Она говорила, что «белая» борьба была борьба святая, но что она, все-таки, всегда плохо верила в ее добрые результаты и что теперь – канун ей и ладан.
Но все это ничуть не помогло – левым было важно только то, что статья появилась «в органе определенного политического направления», то есть правого. И казалось, что левые действительно не далеки от истины: ведь, все-таки, «Возрождение» – не «Дни», все-таки, плохо верилось, что пора переименовать «Возрождение» в «Третий путь», раз туда только что вошел такой определенный правый, убежденный монархист, враг революции, как Н. Н. Львов, уже напечатавший в «Возрождении» две горячих хвалебных статьи памяти П. А. Столыпина, а на днях – свою монархическую речь, сказанную в Российском центральном объединении, которое он возглавляет вместе с А. О. Гукасовым. Но, меж тем, что же, все-таки, вышло?
Вышло большое недоразумение. З. Н. Гиппиус напечатала в «Возрождении» (в пятницу 30 декабря) новую статью, в которой она неопровержимо доказала левым свою несостоятельность их подозрений. Она говорит, что если бы им серьезно предложить теперь вопрос, в чем они видят правизну «Возрождения» они, пожалуй, не сразу бы ответили. «Вот, если бы, говорит она, в газете была интервенция, Вождь, Ильин, Шульгин, Струве, тогда было бы другое. Но, ведь, теперь она ни Шульгина, ни Струве в себе не содержит…»
И далее: «Теперь „Возрождение“ уже освободилось от своего вождя и верных его последователей… Я в нем провожу с точностью свою прежнюю политическую позицию, – ту же, которую проводила и в „Последних новостях“ до моего отхода от них, вследствие моих разногласий с Милюковым из-за непримиримости к большевизму…»
И далее – еще тверже: «Редакция „Возрождения“ сочла напечатание моей статьи „Третий путь“, – статьи, если угодно, программной, – делом возможным… и это освободило меня от сомнений, действительно ли в газете произошли перемены с уходом Струве…»
В самом деле – шутка ли: оказывается, что статья З. Н. Гиппиус была даже программной! Случилось, повторяю, полное недоразумение, о коем я и считаю своим долгом предупредить читателей «Возрождения»: все-таки, помните же, господа, что вы теперь читаете совсем другую газету, чем прежде, – не ставьте себя в глупое положение!
<Обращение к Ромену Роллану> *
Я бесконечно обязан «L'Avenir», позволившему мне присоединить эти несколько строк к сильному и благородному письму Бальмонта, к горьким упрекам, с которыми он обращается к знаменитому французскому писателю Ромену Роллану, считающемуся одним из самых страстных поборников свободы и человеколюбия, а проявляющего себя другом банды разбойников и злодеев, которые вот уже десять лет как опустошают и истощают Россию и унижают человеческое достоинство как никогда со времен сотворения мира.
Может быть мои слова дойдут до Ромена Роллана; может быть, вместе со словами других русских писателей-эмигрантов, они заставят его серьезно задуматься над тем, что происходит на русской земле вот уже десять лет. Он ценит талант некоторых писателей из нашего круга, я это знаю. Он соблаговолил направить мне несколько писем, в которых оказал любезность назваться моим «искренним поклонником»; в частности, в июне 1922 года он мне написал:
«Вероятно, что многие идеи нас разделяют или, скорее, в соответствии с мировыми стандартами, должны бы нас разделять. Мне, со своей стороны, до этого нет дела. Я вижу лишь одну вещь: гениальную красоту ваших рассказов и обновление Вами этого жанра русского искусства, уже столь богатого, сущность и форму которого вы находите способ еще обогатить…»
Возможно ли мне после подобных слов не питать некоторую надежду увидеть определенным образом возрастающее доверие Ромена Роллана к моему мнению о власти, именуемой «советской», которую он только что поздравил не без некоторых расплывчатых оговорок с десятой годовщиной ее злодейских и жестоких деяний? Неужели он всерьез полагает, что мы все, русские писатели-эмигранты, являемся просто-напросто тупыми реакционерами, и это несмотря на нашу литературную ценность? Как он заблуждается!
Если некоторые из нас ненавидят русскую революцию, это единственно потому, что она чудовищно оскорбила надежды, которые мы на нее возлагали; мы ненавидели в ней то, что мы всегда ненавидели и будем ненавидеть и впредь: тиранию, произвол, насилие, ненависть человека к человеку, одного класса к другому, низость, бессмысленную жестокость, попрание всех божественных предписаний и всех благородных человеческих чувств, короче говоря, торжество хамства и злодейства.
«Вероятно, что много идей нас разделяет…» Увы! С глубокой болью, с содроганием я констатирую в данный момент, насколько Ромен Роллан был прав!.. Все же, я не теряю надежды увидеть его, отвергнувшего «идеи», которые сегодня так глубоко разделяют нас.
Чехов *
Однажды он (по своему обыкновению, совершенно внезапно) сказал мне:
– Знаете, какая, несколько лет тому назад, была история со мной?
И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать:
– Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: «Да пойми же ты, что ты теперь первый, первый писатель в России!» – И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он…»
Многим это покажется очень странным, но это так: он очень не любил актеров, говорил о них:
– На семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества! Пошлые и насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова.
– Позвольте, – возразил я, – а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти?
– Мало ли что приходится писать в письмах, в телеграммах. Мало ли что говоришь иногда в лицо человеку. Людей не надо обижать…
– И заметьте, – прибавлял он, хохоча, – как всегда говорят про умерших, прежних актеров: «Нет, батюшка, таких великанов, как были когда-то, теперь уж нет!» Так, может быть, и про Соловцова будут говорить…
И помолчав, с новым смехом:
– И про Художественный театр…
Однажды, читая газеты, он поднял лицо и, не спеша, без интонаций, сказал:
– Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов…
Теперь он выделен. Но, думается, и до сих пор не понять, не почувствовать как следует: слишком своеобразный, сложный был он человек, душа скрытная, застенчивая даже, и воедино слитая с редким по остроте умом. Всегда было много крикливых людей, теперь их особенно много. А он был из тех, о ком сказал Саади: «Тот, у кого в кармане склянка с мускусом, не кричит о том на всех перекрестках: за него говорит аромат мускуса»… Я писал, что никогда ни с кем не был он дружен, близок по-настоящему. Теперь это подтверждается. Замечательная есть строка в отрывках из его записной книжки:
– Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноко.
В ту же записную книжку он занес такие мысли:
– Когда порядочный человек относится критически к себе и к своему делу, то ему говорят: «нытик, бездельник, скучающий».
– Как люди охотно обманываются, как любят они пророков, вещателей, какое это стадо!
– На одного умного полагается 1.000 глупых, на одно умное слово приходится 1.000 глупых, и эта тысяча заглушает.
Его заглушали долго, распознавать стали поздно. До «Мужиков», далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нее он был только занятный рассказчик, автор «Винта», «Жалобной книги». Люди «идейные» интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, – помню, как некоторые из них искренно хохотали надо мной, юнцом, когда я осмеливался сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать-то никогда не станут они человека, начавшего писать под именем Чехонте: «Нельзя представить себе, – говорили они, – чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой». В среде литературной отношение к нему было иное, там его некоторыевысоко ставили, но тоже с оговорками. А сам он даже и это признание отрицал.
Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после «Мужиков» заговорили о нем: ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им, а кроме того, это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторилось его имя на афишах, что запоминались: «22 несчастья», «глубокоуважаемый шкап», «человека забыли»… Да и о пьесах-то своих был он, думается, не очень высокого мнения. Часто говорил:
– Какие мы драматурги! Единственный, настоящий драматург – Найденов: прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри.
Долго иначе и не называли его, как «хмурым» писателем, «певцом сумеречных настроения», «больным талантом», человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно. Он часто возмущался этим:
– Какой я «хмурый» человек, какая «холодная кровь», какой такой пессимист?
Теперь без всякой меры гнут палку в другую сторону, треплют фразу о «небе в алмазах»… Твердят: «чеховская нежность и теплота», «чеховская любовь к человеку», «певец вишневых садов»… И читать все это нестерпимо. Если случалось, что бездарный человек пускался при нем характеризовать кого-нибудь, он не знал куда глаза девать от стыда за этого человека. Что же чувствовал бы он, читая про свою «нежность»! Очень редко и очень осторожно следует употреблять это слово, говоря о нем. Еще более были бы противны ему эти «теплота и грусть». А ведь идут еще дальше: его, воплощенную сдержанность, твердость и ясность, сравнивают иногда с Комиссаржевской!
Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон, говорят удивительные вещи. Елпатьевский дает такой образ: «Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям… Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами…» Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как «простота и задушевность», приписывает ему «печаль о призраках».
Прост, точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, пошлое, книжное действовало на него резко; сам он говорил прекрасно – всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.
К «высоким» словам чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нем. «Однажды, – рассказывает автор этих воспоминаний, – я пожаловался Антону Павловичу: „Антон Павлович! Что мне делать! Меня рефлексия заела!“ И Антон Павлович ответил мне: „А вы поменьше водки пейте“».
Может быть, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к так называемым поэтическим красотам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами.
– Это стоит всего Урениуса со всеми его потрохами, – сказа он однажды, вспомнив «Парус» Лермонтова.
– Какого Урениуса? – спросил я.
– А разве нет такого поэта?
– Нет.
– Ну, Упрудиуса, – сказал он серьезно. – Вот ему бы в Одессе жить. Там же думают, что самое поэтическое место в мире – Николаевский бульвар: и море, и кафе, и музыка, и все удобства, – каждую минуту сапоги можно почистить…
Вспоминаю с великим удовольствием еще и то, что он терпеть не мог таких слов, как «красиво», «сочно», «красочно».
– Хорошо у Полонского сказано, – говорил я: – «красиво уже не красота».
– Чудесно! – соглашался он. – А «красочно» – ведь они же не знают, что у художников это бранное слово.
Представители того «нового» искусства, которое так хорошо назвал «пересоленной карикатурой на глупость» Толстой, были ему смешны и противны. Да и мог ли он, воплощенное чувство меры, благородства, человек высшей простоты, высшего художественного целомудрия, не возмущаться этими пересоленными карикатурами и на глупость, и на величайшую вычурность, и на величайшее бесстыдство, и на неизменную лживость! Часто говорил он в суровом и грустном раздумье:
– Вот умрет Толстой, все к черту пойдет!
– Литература?
– И литература.
Про московских модернистов, «декадентов», как называли их, он однажды сказал:
– Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать…
– Нет, все это новое московское искусство – вздор, – говорил он. – Помню, в Таганроге я видел вывеску: «Заведение искусственныхминеральных вод». Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.
Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним… Редкая и прекрасная черта!
Всегда со всеми он был любезен, с некоторыми очень ласков. Но и тех и других неизменно держал на известном расстоянии от себя, ничуть не подчеркивая этого и однако внушая всем (за исключением, конечно, самых тупых) почтение к себе, некоторым даже робость.
Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико, но ему не нужно было стараться проявлять его, – оно исходило от него, как некий радий.
Однажды он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке:
– Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича Чехова, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений…
Побледнев, Чехов встал и вышел. И много раз с негодованием рассказывал об этой истории.
Я подолгу живал в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:
– Приезжайте завтра пораньше.
Голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, суховато, как бы бормоча: трудно было иногда понять, искренно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял:
– Ну, убедительнейше вас прошу! Если вам будет скучно со «старым, забытым писателем», посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц… Будем говорить о литературе…
Я очень любил его, эта настойчивость была приятна. Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал великое множество. Изредка в них попадалось кое-что и обо мне, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спешил смягчить это:
– Обо мне же еще глупее писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали…
Случалось, что во мне находили «чеховское настроение». Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:
– Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали «тургеневскими нотами». Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: «море пахнет арбузом»… Это чудесно, а я бы ни за что так не сказал. Вы же дворянин, последний из «ста русских литераторов», а я мещанин «и горжусь этим», – говорил он, смеясь, цитируя самого себя. – Вот про курсистку – другое дело…
– Про какую курсистку?
– А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд… А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшегося из другого окна…
Вот такие выдумывания художественных подробностей и сближали нас, может быть, больше всего. Он был жаден до них необыкновенно, мог два-три дня подряд повторять с восхищением удачную художественную чер<ту>.
Раз он купил книжечку, составленную из некоторых произведений Андреева и моих, с пышным заголовком («Восходящие звезды») и с нашими портретами на обложке, – ездил на набережную и возвратился усталый, с зелено-серым лицом, с пепельными губами, но с затаенным блеском в глазах, в том внутреннем возбуждении, которое вспыхивало в нем порою по самому ничтожному поводу, означая, что этот ничтожный повод был толчком для творческой игры его мысли, пробудил того Чехова, который когда-то сказал в молодом задоре Короленко: «Хотите напишу рассказ вот про эту пепельницу?» И как молодо хохотал он в этот день, фантазируя, с каким благоговением могут читать эту книжечку где-нибудь в Мариуполе, Бердянске, и глядя то на мой портрет, – я вышел щеголеватым брюнетом, – то на портрет Андреева в поддевке:
– Это французский депутат Букишоч, а это казак Ашинов…
Помню еще, как смеялся он, когда я рассказал ему однажды о нашем сельском дьяконе, до крупинки съевшем на именинах моего отца фунта два икры. Этой историей он начал свой рассказ «В овраге».
Он любил повторять, что, если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.
Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе и говорил:
– Ровно сто сюжетов! Да-с, мил-сдарь! Не вам чета, молодым! Работник! Хотите, парочку продам?
Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу, – за последние дни много смочил платков кровью, – молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:
– А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!
Я останавливаюсь от изумления, а он с радостными, блестящими глазами быстро шепчет:
– Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина.
Один писатель жаловался, что ему до слез стыдно, как слабо, плохо он начал писать.
– Ах, что вы, что вы! – воскликнул Чехов. – Это же чудесно – плохо начать! Поймите же, что если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, – ему крышка, пиши пропало!
И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные,то есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность чаще всего равняется уменью приспособляться и живет она легко, а талант растет, как все живое, постепенно ищет проявить себя, сбивается с пути…
– Ах, с какой чепухи я начал, Боже мой, с какой чепухи! – говорил он.
Если бы он даже ничего не написал, кроме «Скоропостижной конской смерти» или «Романа с контрабасом», то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумать и уметь сказать хорошую глупость, нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, те, у которых ум «по всем жилушкам переливается». И сам он чрезвычайно ценил этот талант, талант глупости, шутки, и тех, которые быстро улавливают шутку:
– Да-с, это уже вернейший признак: не понимает человек шутки, – пиши пропало!
– А чаще всего, – сказал я однажды, – страдают этим женщины. Кажись, и умна, а не понимает.
– Ах, да, да. И знаете: это уж не настоящий ум, будь человек хоть семи пядей во лбу.
По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый честный народ.








