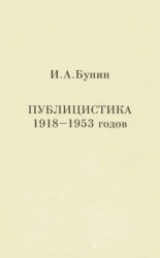
Текст книги "Публицистика 1918-1953 годов"
Автор книги: Иван Бунин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 56 страниц)
Письмо <в редакцию> *
Многоуважаемый господин редактор,
В Вашей газете от 21 сентября напечатана статья В. Крымова «Литературные курьезы». Это довольно большой список кое-каких «курьезов», замеченных Крымовым в произведениях Толстого, Гоголя, Чехова, Куприна и некоторых других писателей, – «курьезов», напр<имер>, таких: Толстой написал в одном месте, что на войне кн<язь> Андрей носил на груди серебряный образок, а в другом – что золотой; в рассказе Куприна «Жаннетта» профессор Симонов покупает для своего кота печенку, дает ее дома коту и кот «ест грудинку»; у Чехова в «Степи» и в «Вишневом саду» издалека слышен звук оборвавшейся в шахте бадьи, меж тем как, по мнению Крымова, «такого отдаленного звука вообще быть не может»…
Нашел Крымов «курьезы» и в моем «Господине из Сан-Франциско». И вот тут потрудился он уж совсем напрасно – приписал мне «курьезы» опрометчиво: говорит, что на том пароходе, в трюме которого везли гроб господина из Сан-Франциско, не могло быть мраморных ванн, как сказано у меня, – что на всех пароходах ванны бывают будто бы только чугунные эмалированные; не могло быть и стен, отделанных мрамором, и хрустальных люстр в двухсветной зале этого парохода, ибо мрамор от качки осыпался бы, а люстры звенели бы хрусталем; но ужели он не знает, что бывают и такие хрустальные люстры, которые не звенят ни в каком случае, ужели не мог понять, что я писал о стенах, отделанных не мрамором, а подмрамор? «От сильного куренья лица бледнеют», говорит он далее, опровергая мою фразу о пассажирах, которые в курительной комнате на пароходе пили ликеры и «до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами»; могу уверить его, что здоровые люди бледнеют от хмеля и куренья только тогда, когда они близки к дурноте или удару. А еще далее он пишет так:
«Когда подъезжают к Неаполю, дует трамонтана, а господин из С<ан>-Франциско стоит на палубе в цилиндре: несколько раз объехавши вокруг света, я ни разу не видал кого-либо на палубе да еще при сильном ветре в цилиндре».
Советую писателю и кругосветному путешественнику Крымову не писать, как пишут некоторые дамы: «Корабль наш въехал в гавань…»
В морском языке нет слова «ехать». Корабли не едут, – на чем, на ком они могут ехать? – и не «подъезжают», а подходятк гавани, входятв гавани. Это во-первых. А во-вторых, господин из С<ан>-Франциско, очень пожилой и старомодный человек, надел цилиндр, уже сходя с парохода, в гавани Неаполя, где никакая трамонтана уже не дула и не могла дуть:ужели Крымов, такой знаток всего на свете, не знает, какая она, эта гавань?
Под конец он делает такую выписку из моего рассказа:
«В шикарномотеле к одиннадцати часам вечера по всем номерам горничные разносили каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков…»
Спрашивается: во-первых, какое имел право Крымов вставить в моей текст пошлое слово, – «шикарный», – которое я не раз встречал в его собственных произведениях и которого нет и не может быть ни в одном из моих? – и, во-вторых, что тут «курьезного», невероятного? Но вот подите же! Он довольно развязно сравнивает меня с каким-то своим «приятелем»: «Это напоминает сцену из романа английского писателя Паншона, моего приятеля, где он, описывая жизнь богатой русской усадьбы, рассказывает, что утром в богатом помещичьем доме многочисленным гостям каждому в комнату несли большой кипящий самовар, а что в тюрьме Чеки на Лубянке арестованным разрешили обвенчаться и для этого пригласили священника с хором… Паншон обиделся на меня, когда я указал ему на эти курьезы, но обещал не писать больше романов из русской жизни».
Убийственно остроумный человек «приятель» Паншона; но не писать больше рассказов о пароходах и отелях я ему все-таки не обещаю.
Иван Бунин
Париж. 17.Х.47.
Письмо <в редакцию> *
Многоуважаемый господин редактор!
Сделайте одолжение напечатать в «Новом русском слове» нижеследующие строки.
Осенью прошлого года парижский Союз писателей, который когда-то избрал меня своим почетным членом, исключил из своей среды лиц, взявших советские паспорта. В знак протеста против этого исключения, большинство других членов Союза, оставшихся эмигрантами, опубликовало в печати заявление о своем выходе из него, предварительно прислав ко мне своего представителя с предложением присоединиться к его заявлению, но я от этого отказался, считая неестественным присутствие советских подданных в эмигрантском Союзе. Недели через две после того я тоже покинул Союз, но единолично и, как явствует из предыдущего, не потому, что тоже решил протестовать, а в силу того, что мне не хотелось оставаться почетным членом Союза, превратившегося в союз кучки сотрудников парижской газеты «Русская мысль», некоторые из коих были к тому же в свое время большими поклонниками Гитлера. Естественно было поэтому сугубое раздражение против меня, как человека с именем, со стороны этой кучки, тотчас пустившей слух, будто я своим выходом из Союза хотел «поддержать советских подданных»,поневоле покинувших Союз, а иные, во главе с Б. К. Зайцевым, председательствующим в Союзе и принимающим ближайшее участие в «Русской мысли» послали сообщение такого рода даже в Нью-Йорк, в «Новый журнал». Но этим дело еще не кончилось. Вскоре после моего вечера 23 октября этого года, когда я прочел свои «Автобиографические заметки», свои воспоминания о том ужасном «новом», что я встретил в литературной среде при своем вступлении в нее и кончил свое чтение эпохой Маяковского, величайшего хулигана русской литературы, «Русская мысль» напечатала анонимный «Маленький фельетон», посвященный моему вечеру, – нечто беспримерное по всяческой низости и пошлости, где уже прямо было сказано, что я «недавно совершил сальто-мортале, перескочил в большевистский лагерь».Статейка эта была встречена большим негодованием со стороны многих, прочитавших ее, и тогда уж сам редактор «Русской мысли» В. Лазаревский напечатал статейку под заглавием «Буря негодования» (взяв эти слова в иронические кавычки), в которой подтвердил ложь насчет моего «сальто-мортале». Но и этого оказалось мало «Русской мысли»: – 8 декабря, она опять солгала, будто я «перекочевал» к большевикам, – на этот раз за подписью Сергея Яблоновского: он наконец признался, что автор «Маленького фельетона» – он, и пытается защитить его, утверждает, что он написал на меня не пасквиль, а «памфлет». Помимо лжи о моем большевизме он повторяет и другую ложь, – ту, что была и в его «памфлете» и в статейке Лазаревского: будто я только тем и занимаюсь всю жизнь, что горжусь собой, а всех прочих писателей, всех поголовно, порочу самыми последними словами. Но, проговаривается он, это еще туда сюда: «Еще важнее – самое важное – выход Бунина из Союза русских писателей», опрометчиво признается он.
Ив. Бунин
<Речь о Пушкине> *
Полтора века тому назад Бог даровал России великое счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В некий страшный срок пресеклась, при ее попустительстве, драгоценная жизнь Того, Кто воплотил в себе ее высшие совершенства. А что сталось с ней самой, Россией Пушкина, – и опять-таки при ее попустительстве, – ведомо всему миру. И потому были бы мы лжецами, лицемерами – и более того: были бы недостойны произносить в эти дни Его бессмертное имя, если бы не было в наших сердцах и великой скорби о нашей общей с Ним родине.
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!
Как же умалчивать, памятуя Его, что уже не только нет града Петра, но что до самых священнейших недр своих поколеблена Россия? Не поколеблено одно: наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, все же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до конца силы Адовы.
21 июня 1949 г.
«Мы не позволим» *
В моих «Воспоминаниях» рассказано, как мы с женой навсегда покинули Россию в феврале 1920 года из Одессы, занятой большевиками, как из Константинополя попали в Софию и как до нитки обкрадены были в той софийской гостинице, куда французы, тогдашние оккупанты Болгарии, помещали русских беженцев. Рассказано и то, что болгарское правительство помогло нам доехать до Белграда, предоставив в наше полное и единоличное распоряжение отдельный вагон третьего класса, очень, конечно, потрепанный, с некоторыми разбитыми стеклами окон, забитых дранками, но с голыми дощатыми скамьями и потому наиболее безопасный от тифозных вшей: иначе мы ехали бы до Белграда, при тогдашних железнодорожных послевоенных безобразиях, еще и в несметной толпе прочих русских беженцев, в условиях поистине ужасных, для нас просто непосильных. Все это рассказано мною. Но не рассказано то, что случилось с нами однажды ночью, когда наш поезд тащился уже по Сербии. Случилось же то, что этой ночью в наш вагон, где мы занимали только одно отдельное купе, а все прочие места позволили в пути занять нескольким сербам, явилась дама при весьма молодцеватом кавалере в форме русского «земгусара», во френче, в галифе и крагах, с подстриженными ежиком усами, с ременным хлыстом в руке. Время было уже довольно позднее, я уже разделся и лег, постелив на дощатую скамью пальто, как вдруг раздался крепкий стук в дверь, а затем властный мужской голос:
– Отворите!
– Кто там? – спрашиваю я. Но в ответ еще более властное:
– Вам говорят, – отворите!
Бессознательно накидываю на себя пальто, отворяю и вижу эту даму и кавалера:
– В чем дело?
Дама быстро и строго отвечает вопросом:
– Вы академик Бунин?
– Да. А что?
– Ваши бумаги!
– Какие бумаги?
– Ваши паспорта и все, все другие, какие у вас есть!
– Но позвольте узнать, зачем они вам и кто вы такая? Кавалер хлопает себя по голенищу хлыстом и внушительно,
с мутными глазами, устремленными на меня, цедит сквозь зубы:
– Так с дамами не разговаривают.
– А вы кто такой? Насколько понимаю, вы оба русские, но, очевидно, служите в сербской железнодорожной полиции? Покажите в таком случае ордер на ваши допросы и требования.
И тут дама наливается кровью и поспешно, запальчиво кричит:
– Мы нигде не служим, но, именно как русские, требуем немедленно объяснить нам, по какому праву вы едете в отдельном вагоне? Я председательница русского женского клуба в городе Нише, к которому мы сейчас подъезжаем, и я не позволю вам ехать по-царски, в то время, как прочие русские беженцы…
Сдерживая себя, я перебиваю ее:
– Но вспомните, сударыня, что ваше звание еще не дает вам права позволять или не позволять мне ехать по-царски: вагон болгарский, территория сербская, и я не ваш подданный. Кроме того, вагон этот предоставлен болгарским правительством в мое распоряжение с тем условием, что я возвращу его из Белграда в целости и сохранности. Я пустил вот этих сербов уже в пути, в Сербии, только потому, что они не завладеют вагоном, не приведут его в совершенно безобразный вид, меж тем как русские беженцы…
– Так с дамами не разговаривают! – уже совсем грозно возвышает голос «земгусар».
Я опять не обращаю внимания на этого щеголя и уже довольно бешено хочу крикнуть даме, чтобы она убиралась к черту, как она опережает меня своим криком:
– Я завтра же телеграфирую сербскому королю! Я не позволю… Мы не позволим…
И тогда я сразу обрываю эту нелепую сцену: со всего размаха хлопаю перед самым носом дамы дверью и запираю ее на ключ. Кавалер начинает колотить в нее, но тут поднимают крик сербы – и через минуту и он, и дама исчезают…
Целых 30 лет прошло с тех пор. Однако я очень живо вспомнил эту сцену, прочитав статейку доселе неизвестного мне Георгия Александрова, напечатавшего ее 27 октября в «Новом русском слове» в восхваление Есенина как поэта и человека и в защиту его от моих суждений о нем в моих «Воспоминаниях». Статейка эта написана Александровым с употреблением слова «мы» и, значит, не только от его имени, но и от имени каких-то его единомышленников, и кончается так:
«Мы ни там, на родине, ни здесь, за рубежом, не позволим никому порочить память Есенина».
Как видите, опять: «Мы не позволим!» И это по запальчивости и необдуманности хуже даже криков председательницы русского женского клуба в Нише. И весьма любопытно было бы узнать, каким способом г. Александров и его друзья не позволят порочить есенинскую «светлую память», как он выражается в другом месте, не только «там, на родине», но и «здесь, за рубежом»?
Дама из Ниша могла, по крайней мере, утешать себя тем, что она где-то председательствует и может напугать меня телеграммой сербскому королю. Но где председательствует г. Александров и чем может напугать он кого-то «там, на родине», а меня«здесь, за рубежом»?
Статейку свою («Памяти Есенина») г. Александров написал, во-первых, потому, что в нынешнему году, в декабре, исполнилось 25 лет «со дня трагической гибели замечательного русского поэта, задохнувшегося в безвоздушном пространстве, именуемом СССР», а во-вторых, по той ужасной причине, что «маститый писатель И. А. Бунин в своей книге „Воспоминаний“ посвятил Есенину строки, которые оскорбительно и больно отозвались в сердце каждого из новых эмигрантов, унесших с собой с родины среди самых дорогих воспоминаний память о безвременно погибшем поэте, которого читала и пела вся подъяремная и закабаленная советская Русь…»
Насколько замечателен Есенин как поэт, мне спорить с Александровым не стоит: у нас с ним вкусы, конечно, очень разные – уже хотя бы по одному тому, что я занимаюсь литературой лет 60, и довольно серьезно, а Александров, насколько понимаю, еще новичок в ней. И то, что вся «советская Русь» читала и пела Есенина, для меня еще не доказательство его поэтической ценности. Вот, например, одно из стихотворений Есенина, доказывающих его будто бы пламенную и трагическую любовь к деревне:
Мир таинственный, мир древний,
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменистые руки шоссе.
Как испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть!
Ну, как тут поладить мне с Александровым? «Мир, как ветер, затих и присел… Как испуганно в снежную выбель заметалась звенящая жуть…» Я всего этого просто не понимаю, и то, что «вся советская Русь» распевает такие стихи, – а таких у Есенина великое множество, – еще не доказательство моей преступности перед Есениным. Да и мало ли что пели когда-то в России и задолго до большевиков и при них: вся мещанская Россия чуть не со слезами пела многие годы «Чудный месяц плывет над рекою», вся «передовая», левая – «Есть на Волге утес», – стихотворение одно из самых глупых во всей мировой поэзии:
Есть на Волге утес, диким мохом оброс
От вершины до самого края
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная…
Бесспорно, утес этот совершенно замечателен: стоит себе сотни лет, только мохом одет, ни нужды, ни заботы не зная, хотя, кажется, вообще не полагается утесам знать нужду и заботу. На нем, кроме того, думал свои гениальные думы сам Стенька Разин, и он, утес, мог передать эти думы тому «смельчаку», который отважился бы влезть на него ночью. Однако, поэтические достоинства стихов про этот утес столь же не велики, как и стихов «Из-за острова на стрежень» и «Солнце всходит и заходит», тоже петых «всей» Россией. Сходила с ума когда-то «вся» Россия и от Надсона, Бальмонта… А что сталось с ними теперь? Есенин был от природы талантлив. А Бальмонт разве нет? Даже несравнимо с Есениным.
Память, которую оставил по себе Есенин как человек, далеко не светла. И то, что есть теперь люди, которые называют ее светлой, великий позор нашего времени. Даже нигилисты, даже самые отпетые разночинцы шестидесятых – семидесятых годов просто поражены были слухом, будто Некрасов нечисто играет в карты. А теперь нет даже самых подлых, самых бесчисленных низостей, самой бесстыдной лжи, которая не прощалась бы писателю. И вот взять хоть ложь: когда-то Есенин, отбывая повинность в первую мировую войну, пустил слух, что он попал в дисциплинарный батальон – и за что же? – за то, что будто бы «отказался написать стихи в честь царя»! Кто-то требовал написать, а он, видите ли, отказался и пострадал! Он вообще не стеснялся во лжи, в актерстве на каждом шагу, всячески – то воспевая Ленина, слава которого «шумит, как ветр, по краю», и новую (ленинскую) эру, которая, по словам Есенина, была «не фунт изюма вам», то рыдая через некоторое время после того, что его деревенский мир «затих и присел, и в снежную выбель испуганно заметалась звенящая жуть». И все эти штучки неизменно служили к пущей его славе. В роли же скандалиста, хулигана, пьяницы, – допившегося до белой горячки, в которой он и повесился, – в роли пролазы всюду, куда только возможно, в роли циника, путешествовавшего по Европе и Америке с весьма уже не юной Дункан и бившего ее смертным боем в каждом отеле Европы и Америки, – в этой роли ему поистине не было равного. А вот Александров в своей статейке утверждает, что поведение Лермонтова в петербургском свете и на Кавказе было ничуть не лучше поведения Есенина. И что на это скажешь? Тут надо уже просто кричать «караул!»
Под конец вынужден я отметить уже совершенно непростительную дерзость Александрова относительно русской миллионной эмиграции, относительно этого великого и страшного исторического события:
«Мы не знаем, – говорит он, – чем жило и дышало старшее поколение наших соотечественников за рубежом, вдали от родины, среди чужих людей. Может быть, для них, законсервированных в скорлупе приятных дореволюционных воспоминаний, продолжавших тридцать лет воспевать уютную жизнь дворянских усадеб, Есенин был только пьяница…»
Он, видите ли, не знает, что после того, как десятки тысяч русских людей сложили свои головы в «Ледяных» и прочих походах, сотни тысяч уцелевших тридцать лет добывали себе кусок хлеба самым тяжким черным трудом в Болгарии, Сербии, Чехии, во Франции! Он даже сотням тысяч крестьян-эмигрантов приписывает мечты о дворянских усадьбах!
И вот еще что: он пугает нас, «законсервированных в скорлупе», еще тем, что русский язык за эти годы очень изменился и может случиться так, что «произведения многих наших старых, когда-то пользовавшихся заслуженной известностью писателей, не заинтересуют современного нового читателя ни своей тематикой, ни классическим устаревшим слогом, ни кругом идей, совершенно чуждых новому поколению…»
Ну можно ли так, без конца договариваться до чертиков! Александров в восторге от того, как великолепно изменился русский язык «там, на родине» за последние тридцать лет, как блистает теперь «советская» литература новым слогом, новой тематикой, новыми идеями. Но как же после этого верить Александрову, что Есенин повесился в «безвоздушном пространстве, именуемом СССР»? Ведь там, оказывается, бесконечно многое стало так ново и чудесно! Вплоть до «круга» каких-то «идей», перед которыми, на взгляд тамошнего «нового поколения», наши идеи – старье, убожество!
Милые выдумки *
Года три или четыре тому назад, в какой-то русской газете, – не помню точно ее название, – издававшейся, кажется, в Сан-Франциско, какой-то Окулич сообщил, что я, вскоре после мировой войны с Гитлером, летал в Москву и принимал какое-то участие в расстреле генерала Краснова. А узнал я о существовании этого Окулича, ныне, кажется, уже умершего, и о его удивительном сообщении благодаря ныне благополучно здравствующему американскому профессору Глебу Струве: кто-то прислал мне вырезку из той же газеты, – «Письмо в редакцию» ее, – в каковом письме этот самый почтенный профессор сделал некоторое возражение Окуличу: написал, что, насколько ему, Глебу Струве, известно, «уважаемый Окулич» (так буквально выразился Глеб Струве) ошибается: Бунин в Москву не летал, но что от Бунина, судя вообще по его поведению в отношении к большевикам, всего можно ожидать. В чем именно это мое поведение выражалось, Глеб Струве не сказал и глаза Глеба Струве ничуть не лопнули от стыда после его «Письма в редакцию» по адресу «уважаемого Окулича».
Не менее милую выдумку прочел я на днях и в одном парижском журнале: в четырнадцатой «Тетради» издательства «Возрождение». «Тетради» эти редактирует С. П. Мельгунов и вот появилась в последней из них статейка о книге моих «Воспоминаний», подписанная девичьей фамилией его жены, – П. Степанова, – и начинающаяся так:
«Они (эти „Воспоминания“) написаны, конечно, с большим мастерством и читаются с огромным интересом».
Начало хоть куда. И даже скреплено словом «конечно». Но, увы, продолжение сделало бы честь Окуличу и Глебу Струве: в нем есть сообщение, что я «вхож» в советское посольство в Париже. Что значит «вхож»? Значит, что я «свой человек» там. Но ведь это чудо из чудес! В книге моих «Воспоминаний» напечатано такое количество и такое качество строк и целых страниц, посвященных большевикам, что они посадили бы меня на кол, будь я в их руках. В большой просак попала госпожа П. Степанова, благодаря той на редкость злобной запальчивости, с которой (совершенно непостижимо, почему и зачем?) ей взбрело в голову кинуться на меня: не только в пух и прах разнести мои литературные воспоминания, оклеветать их, – я будто бы ни единого доброго слова не сказал ни об одном из писателей, современных мне, – я, который с такой сердечностью и даже с восторгом помянул Гаршина, Короленко, Чехова, Эртеля, Куприна (времени расцвета его таланта), – но и унизиться до позорной выдумки политической.








