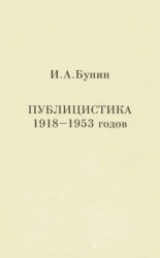
Текст книги "Публицистика 1918-1953 годов"
Автор книги: Иван Бунин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 56 страниц)
Письмо в редакцию *
Господин редактор!
Позвольте при посредстве Вашей газеты закончить мою историю в Линдау моей глубокой благодарностью всем тем общественным организациям, редакциям газет и частным лицам, которые выразили мне свои чувства в связи с этой историей. Я был в отъезде, и потому только теперь ознакомился полностью со всем тем, что явилось откликом на нее. Отклик этот оказался столь горяч и единодушен в своем сочувствии мне и в возмущении той глупой грубостью, которой я, без малейшего основания, был подвергнут в Линдау, и, смею сказать, столь всемирно широк, что вдвойне обязывает меня обратиться к Вам с этим письмом, ибо касается не только лично меня, как частного человека. Он служит, кроме того, и достойным ответом на германское официальное опровержение по этому случаю: ведь опровержение это, адресованное «некоторым иностранным газетам», будто бы оклеветавшим в своих «заметках» полицейские и таможенные власти в Линдау, имело в себе тот внутренний смысл, что в этой «клевете» повинен я. Как иначе понять его, раз все эти «заметки» явились только следствием того совершенно протокольного и точного рассказа моего насчет Линдау, который я дал в Вашей газете 1 ноября, и который не мог не быть известен берлинским авторам опровержения?
Примите, господин редактор, уверение в моем совершенном почтении.
Ив. Бунин
«Пушкинские торжества» *
Страшные дни, страшная годовщина – одно из самых скорбных событий во всей истории России, той России, что дала Его. И сама она, – где она теперь, эта Россия?
«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия». —
О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и Царь расторгли ныне!
А. И. Куприн *
Это было очень давно – когда я только что узнал о его существовании, впервые увидал в «Русском богатстве» его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной офицерской скороговоркой, ударяя на последний слог:
– Я – Куприн, и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.
Сколько в нем было когда-то этого звериного – чего стоит одно обоняние, которым он отличался в совершенно необыкновенной степени! И сколько татарского! Насчет многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, никогда не говорил и никому не позволял сказать ни единого слова, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я, например, до сих пор не имею ясного понятия, кто именно был его отец, – кажется, был он военным врачом, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус; знаю только, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем доме». Про нее знаю, что, по происхождению, она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко, важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом: «геть сию же минуту к чертовой матери!», что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характерного для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушия, хотя порой как бы наигранного, много мальчишеской веселости и того милого однообразия, с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубно-му – и к Пушкину, к Толстому, – тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о «прелестной, божественной» Фру-Фру, – и еще к Киплингу. За последние годы критики не раз сравнивали и его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно, – Киплинг возвышался в некоторых своих вещах до подлинной гениальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого можно с ним сравнивать? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.
Я поставил на него ставку тотчас же после его первого появления в «Русском богатстве» и потому с радостью услыхал однажды, гостя у поэта Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его не застали, – «он, верно, купается», сказали нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды, невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. – «Куприн?» – «Да, а вы?». – Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой и сильной рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: «Даже в его руке – талант!»). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро, – в нем тогда веселости и добродушия было особенно много, откровенным он казался необыкновенно, на всякий вопрос о нем, – кроме того, что касалось его семьи, его детства, – отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей армейской отрывистой скороговоркой: «Откуда я сейчас? Из Киева. Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким… Жил и охотился в Полесье, – никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед рассветом! Потом жил в Киеве… Там за гроши писал всякие гнусности для бульварной газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи… Что я пишу сейчас? Ровно ничего, – ничего не могу придумать, а положение ужасное – посмотрите, например: так разбились ботинки, что в Одессу не в чем поехать… Слава Богу, что милые Карышевы приютили, а то бы хоть красть…». И, пробормотав все это, без передышки начинал петь приятным, верным баритоном, с героической торжественностью, эпиталаму Рубинштейна: «Эрос, Бог любви, пусть вас соединяет!».
В это чудесное лето, в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка. – «Да меня же никуда не примут», жалостливо скулил он в ответ. – «Но ведь вы уже печатались!». – «Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут». – «Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей „Мира Божьего“, – ручаюсь, что там примут». – «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!». – «Вы знаете, например, солдат, – напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит на часах и томится, скучает, вспоминает деревню…». – «Но я же не знаю деревни!». – «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе…». – Так и написал он свою «Ночную смену», которую мы послали в «Мир Божий», потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в «Одесские новости», – сам он почему-то «ужасно боялся», – и за который мне удалось тут же схватить для него 25 рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе ботинки, потом на лихаче помчал меня в «Аркадию» угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином… Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он во хмелю впоследствии:
– Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!
Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то был он со мной весел, нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от тебя в глазах рябит, одно ценю: ты пишешь отличным языком, а кроме того – чудесно верхом ездишь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?». Про хмельного я уже и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений. Чем больше я узнавал его, тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил, где попало и как попало с бесшабашностью человека, которому всякое море по колено…
Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе или в Ялте, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов… В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастностью предавался при встречах со мной смакованию всяких острых художественных наблюдений, и очень часто проявлял какие-то едкие душевные склонности, охоту, например, к издевательству над людьми:
«Взять какого-нибудь болвана, часто говорил он с упоением, взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить ее самыми бесстыдными похвалами и вообще всячески „развертеть“ ее, – да что же может быть слаще этого?».
Потом в жизни его вдруг наступил резкий перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином «Мира Божьего», потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение ее дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и с каждой своей новой вещью завоевывать себе все больший успех, делаться знаменитостью… Остальное всем известно.
Семнадцать лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже, – самыми близкими соседями, в одном и том же доме, – и он пил особенно много, доктор, осмотревший его однажды, твердо сказал нам: «Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев». Но он и не подумал бросить пить и держался после того еще лет четырнадцать, «молодцом во всех отношениях», как говорили некоторые. Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года два тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся, такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Уже давно слышал я, что говорят про него парижские эмигранты: «Нет человека добрее, ласковее, даже в каком-то смысле блаженнее, чем Куприн!». Теперь я убедился в этом самолично… Как-то я получил от него открытку в две-три строки, – такие крупные, дрожащие каракули с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок… Все это и было причиной того, что за последние два года я не видал его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне Бог – не в силах был видеть его в таком состоянии.
В прошлый вторник, проснувшись утром под Парижем в поезде, на возвратном пути из Италии и, развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известием:
«Александр Иванович Куприн возвратился в СССР…».
Никаких «политических» чувств по отношению к его, личному, «возвращению» я, конечно, не испытываю: только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.
Перед занавесом «художественников» *
Беседа с И. А. Буниным Лоллия Львова
Приезд в Париж Московского Художественного театра встречает, конечно, живой отклик в русской колонии в Париже. Можно не сомневаться: русские, как ни бедны они, – в громадном большинстве побывают на спектаклях «художественников».
Русские писатели также, вероятно, будут на их премьерах – Бунин, Тэффи, Зайцев, Алданов, Ремизов, другие молодые, неизвестные еще в России писатели и те из них, кто в настоящее время в Париже… Москвичи-артисты на этот раз будут играть и перед той, живой и свободной, русской литературой, о которой в России строжайше приказано молчать и которую приказопослушным и служилым Эренбургам и Алексеям Толстым, повелено поносить и всячески изничтожать в своих фельетонных впечатлениях о поездках за границу. Так впервые, здесь в Париже, после долгих лет произойдет встреча артистов театра Чехова с свободной и независимой русской литературой.
А между тем тема связи Московского Художественного театра с русским писателем большая и значительная тема. Писатель в истории, в создании Московского Художественного театра сыграл совсем особую роль. Встреча артистов с писателем в стенах Московского Художественного театра была такой, какой нигде и никогда в другом русском театре не бывала. Мы имеем в виду, конечно, встречу театра с Чеховым… Вот почему перед поднятием занавеса Московского Художественного театра в Париже нам показалось и интересным и обязательным встретиться с И. А. Буниным, живым свидетелем ни одной из этих встреч, и услышать от него несколько слов об этом.
* * *
Бунин только что возвратился в Париж из поездки по Швейцарии. Посвежел и как-то повеселел в лице, словно вдоволь надышавшись чистого воздуха и отдохнув на свободе. Мы застали его за рабочим столом. Он разрезал страницы только что вышедшей из печати своей новой книги о Толстом «Освобождение Толстого» – таково название, четко обозначенное на обложке просто, но с большим вкусом, изящно изданной книжки. Бунин в хорошем, добром настроении. Он оживлен и разговорчив. Как-то сразу чувствуется, что он доволен появлением своей книги – всякий, встречавшийся с ним в минувшую зиму, знает, как он был увлечен и поглощен своей работой над книгой о великом русском писателе, как в буквальном смысле этого слова, любовно он работал над ней, тщательно подготовлял ее и как бывал охотно разговорчив именно на тему о Толстом. Но на этот раз наш разговор должен быть о ином. Поздравив его с появлением новой книги, прежде чем объяснить, о чем «Иллюстрированная Россия» просит его поделиться своими воспоминаниями, задаю несколько вопросов о совершенной им поездке.
Бунин доволен поездкой, хотя вовсе не сердит на шумный и утомительный Париж.
Спрашиваю:
– Видели ли вы в Швейцарии С. В. Рахманинова?
И слышу в ответ, что вместе с Верой Николаевной он побывал и у знаменитого русского композитора, как раз только что вернувшегося на свою виллу под Люцерну с Адриатического побережья.
– Видел, видел, – отвечает на заданный вопрос Бунин, – мы были у него, в чудесной усадьбе, на берегу Люцернского озера, и провели там прекрасный вечер. К сожалению, на другой же день мы должны были уехать…
* * *
Но и добродушие и улыбка как-то сразу исчезают с лица Ивана Алексеевича, как только он слышит о намерении побеседовать с ним о Московском Художественном театре. Делается сразу серьезным. И я слышу в ответ, что о «художниках» все уже давно сказано и пересказано – все всем известно, что ничего нового сказать ему нечего и что сам, в сущности, он даже до сих пор не знает, будет ли на теперешних спектаклях.
Нет, разговор наш положительно не хочет завязаться!
Ставлю банальный, обязательный вопрос:
– Когда и на чем вы были в первый раз в Художественном театре?
Бунин отвечает кратко и отрывочно:
– Точно не помню.
Но с улыбкой прибавляет:
– Вообще у меня память очень хорошая, но я всегда многого не запоминал, помню только важное, все бесполезное и ненужное память не удерживает…
– Но все же…
– Насколько помню, первое, что я видел у них был «Царь Федор Иоаннович», или, может быть, это была «Чайка».
Ставлю второй обязательный – и тоже уже банальный – теперь вопрос:
– Что вы скажете о переименовании Художественного театра в театр Горького?
Бунин говорит решительно и веско, серьезно, как бы обдумывая каждое слово:
– Теперь этот театр, который и Станиславский, и Немирович-Данченко, да и вся публика, всегда называли «театром Чехова», стал почему-то называться «театром Горького». Горький в жизни Художественного театра играл немалую роль. Но почему все-таки театр переименован из Чеховского в Горьковский – непонятно. Так же, впрочем, непонятно, как всегда непонятно для меня переименование городов. Например, Петербург был основан Петром Великим. Можно как угодно относиться к Петру Великому, но ведь город все же основал он, а не Ленин. Почему мне «Ленинград» и кажется всегда нелепостью. Так и с Художественным театром, которому присвоили имя Максима Горького.
Воспоминания о Горьком и Чехове, видимо, невольно волнуют нашего писателя. Задаю ему вопрос о Чехове, о его «Чайке»: видел ли Бунин «Чайку» до знакомства с Чеховым или после?
– Нет, с Чеховым я тогда не был еще знаком. Я познакомился с ним позднее, в Ялте, на набережной. Это было в книжном магазине Синани, у ялтинского Смирдина…
Улыбка озаряет и преображает лицо Бунина. Он рассказывает о первых встречах с любимым писателем:
– Меня удивили его первые слова, с которыми он обратился ко мне: «Что же вы не приехали прямо ко мне?». В это время мною было напечатано очень мало. Главным образом, стихи… – «Приезжайте завтра…» – Когда? – «Да часов в семь утра». Признаться, я был удивлен: Как? так рано? – «Мы встаем рано. Будем вместе пить кофе. По утрам надо обязательно пить кофе. Это дает силы, и можно после целый день, не евши работать…».
Таков был первый разговор Бунина с автором «Чайки», изображение распластанных крыльев которой еще до сего времени украшает и занавес, и афиши театра. О своем первом посещении Чехова Бунин рассказывает:
– Встретил он меня очень радостно и весело. – «А я тоже писал стихи», услышал я от него с первых же слов. – «Я не подозревал этого». – «Нет, писал». И он прочел два свои стихотворения, весело хохоча.
Бунин сам весело улыбается и, не торопясь, читает наизусть:
Шли однажды через мостики
Жирные китайцы,
Впереди их, задрав хвостики,
Поспешали зайцы…
Вдруг китайцы закричали:
«Стой! Лови! Ах! Ах!».
Зайцы выше хвост задрали
И попрятались в кустах…
Вот одно Чеховское стихотворение, а вот и другое:
Аграфена Пантелевна!
Когда взята была Плевна,
Так солдаты отличались,
Даже турки удивлялись…
– Тут, – прибавляет Бунин, – Чехов подарил мне книгу своих рассказов. Она так просто и называлась: «Рассказы», и написал мне на ней эти* два стихотворения…
В той же Ялте Бунин познакомился и со всей труппой Художественного театра. Это было, когда «художественники» приехали туда в гости к Чехову показать ему свои постановки.
– Случилось это у Фанни Карловны Татариновой, гостеприимно принимавшей театр у себя на роскошной даче. На плоской крыше ее дома.
– Здесь я впервые, говорит Бунин, заметил роман между Чеховым и Книппер. Она тогда была и казалась довольно высокой, стройной, крепкой девушкой, во всем энергичной, с очень хорошим темным румянцем на девичьих щеках, – так что Чехова я понимал…
Бунин охотно и добродушно рассказывает о Чехове. К сожалению, услышать от него что-нибудь новое о Горьком не удается. О Горьком, о встречах с ним он писал не так давно после его смерти – что же сказать нового! Все, что он сказал, уже известно.
– Стал давать пьесы в Художественном театре и Горький. Это были «Мещане», «На дне»… Пьесы Горького мне никогда не нравились. Они были всегда сугубо, нарочито претенциозны и поучительны. После «На дне» его вызывали 19 раз. Но это уже известно, как и то, что выходя на вызовы, бледный до зелени, он откидывал назад красно-рыжие волосы, очень зло вглядывался в публику, повертывался и уходил… Публике это очень нравилось. Странная была тогда публика! Помню, как на одном вечере, публика пришла в полный восторг, когда Скиталец крикнул в нее свой стих: «Вы жабы в гнилом болоте…»
Бунин смеется, и уже, не ожидая вопросов, вспоминает о других писателях, пьесы которых ставил Художественный театр – о Леониде Андрееве, Юшкевиче, рано умершем Найденове… О последнем Бунин вспоминает с большой симпатией.
– Театр поставил его пьесу «Стены»… Пьеса успеха не имела, но насколько помню, в ней было что-то хорошее. Чехов сказал о Найденове: «Какие к черту, мы все драматурги! Единственный настоящий драматург, это – Найденов. С самой настоящей драматической пружиной внутри. Он должен еще десять пьес написать, девять раз провалиться, а на десятой иметь такой успех, что ахнешь…». Мы были с Найденовым в большой дружбе…
– А вы, Иван Алексеевич, так и не написали ничего для театра?
Бунин смотрит на меня, и, как бы вспомнив, отвечает:
– В Художественном театре ставили в моем переводе байроновского «Каина». Но это было уже, когда меня не было в России. Разговоры о постановке начались очень давно, задолго до моего выезда в эмиграцию. «Мы его поставим в сукнах», – говорил Станиславский. Но это все, что я знаю об этой постановке. Не один раз Станиславский и Немирович убеждали меня написать для них. Предлагали даже стать артистом у них, что меня страшно удивило. «Помилуйте, – сказал я, – я и по сцене ходить не умею. Ведь она покатая». – «Ну, этому мы вас научим, а на остальное вас хватит…».
– Так что вы видите во мне погибшего артиста Художественного театра! – кончает эту часть разговора Иван Алексеевич. И тут же, оживившись, возвращается к заданному с самого начала вопросу о его первых впечатлениях о Художественном театре. Он вспоминает о том, как в ноябре 1898 года он видел «Царя Феодора».
– И мне многое тут понравилось, – говорит он. – Особенно раннее утро, когда царь Феодор выходит, зябко ежась, и обращается к Аринушке… Феодора играл Москвин, Ирину – Книппер… В те же времена видел и «Чайку». Помню Мейерхольда – он играл Треплева. Играл истерически, мелко… Но зато в «Чайке» мне очень понравилась Лилина, артистка вообще прекрасная. Они ставили еще «Власть тьмы». И в общем неплохо ставили. Только помню, очень курьезное впечатление производила деревенская изба, которая до невероятности была загромождена крестьянским скарбом, вывезенным из Тульской губернии… Чего тут только не было: корыто, лопаты, дуга, колеса, даже телега…
И опять беседа с И. А. Буниным как-то неизбежно обращается к теме, которая, видимо, занимает его в настоящее время куда больше Художественного театра – о Толстом. Уходя от Бунина, я невольно раздумывал о том, что из русских писателей, наверное, никто еще, никогда, не был так полон мыслями о великом Толстом, как он, Бунин, который только что написал о нем изумительную книгу, вышедшую на русском языке и уже переведенную по-французски.
Лоллий Львов.








