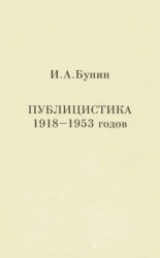
Текст книги "Публицистика 1918-1953 годов"
Автор книги: Иван Бунин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 56 страниц)
В монастыре есть могилы очень древние. Как-то, возвращаясь с вечерней прогулки, вошел во двор монастыря, прельщенный красным огоньком, горевшим под навесом деревьев монастырского сада. Были уже сумерки – полусвет северной ночи. Во дворе было пусто. Золотой ангел с крыши притвора благословлял двор. В притворе чернели две рясы, белели два капюшона. Одна из монахинь была молода, нежна, тиха. Я попросил ее показать, где на монастырском кладбище самые древние могилы. Она достала из ниши фонарик, зажгла его и повела меня в полумраке сада, среди смешанных весенних запахов – и сладких, и терпких, и каких-то водянистых, травяных. Иногда она останавливалась и освещала могилы. В полусвете фонарика выделялся ее белый капюшон. Она разыскала могильную плиту, вросшую в землю особенно глубоко, всю во мху, в порах и углублениях, суженную к одному концу. Буквы, насеченные на ней, покрытые мохом, совсем черным, гласили:
«Лета такого-то (шестьсот лет назад)… схимонах Ферапонт… рода Долгоруких…»
Когда я уходил, монахиня поклонилась мне в пояс. Колокола били часы. Колокола здесь тоже очень старые, есть шестнадцатого века. Среди этой северной ночи их серебряная, певуче дрожащая игра над монастырским садом и городом очаровательна. Особенно поздней ночью, когда все спит. Ночь же здесь прозрачная, бледная. Что-то бледно-лимонное, тонкое освещает небо. Венера стоит высоко, играет каким-то тающим, просветленным блеском. Мохнатая лесная зелень в этом прозрачном свете беловата и кажется мягкой, как лебяжий пух. В полночь светает. Лимонный свет становится ярче, леса – темнее, сырее, бархатней, и запахи цветов, очень сильные ночью, тонут в одном, особенно сильном запахе ландышей…
XVI
…У стен монастыря встретил однажды монаха из уезда. Он отвязывал от дерева клячу с вытекшим глазом, запряженную в старомодную колымажку, на дрогах, с загнутыми сзади полурессорами. Очень маленького роста, в сером подряснике и черной шляпе; лицо худое, длинное, редькой, в оловянных очках; на грудь спускается по плечам два жгута волос, маслянисто-каштановых, с серебром. Разговорились, я присел к нему в колымажку, и мы выехали за город, поехали по лесной дороге. В пути он стал рассказывать про свой монастырь, про хозяйство, которое там опять понемногу налаживается. Рассказал также про святого, основавшего этот монастырь, и про знаменитого юродивого, погребенного в монастыре. Юродивый был «как бы Голиаф», ходил в одной рубахе, под которой носил целый пуд тяжелой собачьей цепи (и до сих пор хранимой в монастырской ризнице). Пришел в монастырь неизвестно откуда, ископал себе поблизости от него, в дремучем ельнике, землянку. Каждый день, услыхав монастырский колокол, приходил к монастырской церкви и становился на паперти, – стоял на ней босиком и в одной рубахе даже зимой, не боясь ни морозов, ни метелей. После обедни являлся в хлебодарню, залезал в печь и закрывал за собой заслонку, говоря: «В аду еще жарче будет!» Как-то раз не пришел. На другой день тоже. Монахи стали тревожиться: не случилось ли чего? А как нарочно шла сильная метель. Стали бить в колокола. День и ночь, сквозь бурю и снег, в дремучих еловых лесах, в снежном густом бору, гудел колокольный звон – его все не было. Когда стихло, пошли искать по лесам окрест – не нашли и в лесах. А потом пошел как-то на медведя мужик и видит: лежит юродивый возле своей хижины, окруженный сугробами, но не на снегу, а на весенней зеленой траве, посреди благовонных цветов…
XVII
…Был еще в одном монастыре.
Пришел туда рано утром. Утро было солнечное, яркое. Золотыми сердцами горели на солнце монастырские кресты. В церкви шла служба, из раскрытых церковных дверей слышалось пение. Церковь была пуста – только по обеим сторонам ее, против боковых алтарей, стояли в два ряда черные монахини с четками в руках. Царственно-суровая игуменья, положив левую руку на черный посох с желтой костяной рукояткой, стояла против средних царских врат в высоком дубовом кресле, устремив взор на высоко уходящий вверх золотой иконостас, весь покрытый ликами святых, мужчин и женщин, списанных с членов одного древнего рода. Служба шла стройно, спокойно, возгласы и чтения звучали с нарочитой безжизненностью, ровно и бесстрастно, высокими женскими альтами, пение неожиданно прерывало эту безжизненность минутами сладостных или скорбных излияний вдруг оживавших душ. А двери церкви были раскрыты на воздух, светлое летнее утро окружало монастырь, радостно и мирно сияло в окрестных полях и росистых перелесках…
Когда служба отошла, и монахини, под звон колоколов, под жарким солнцем, стали расходиться из церкви в разные стороны, к своим кельям, я спросил у одной из них, где монастырская библиотека. Она указала мне на часовню, возле которой была пристроена какая-то особая келья. Я пошел туда, постучал в дверь. Вышла высокая, мужественная монахиня с черными внимательными глазами, вся в черном, с белой коленкоровой наколкой на голове. Выслушав меня, она помолчала, потом ввела в келью. Я увидел две маленьких комнатки, необыкновенно чистых, весело озаренных солнцем. В одной топилась печка и горела на столике розовая лампадка, было необыкновенно уютно, пахло чем-то очень приятным. Другая была заставлена книжными шкапами, там стояли два стола для чтения и фисгармония. Монахиня дала мне каталог, сама села на подоконник, все продолжая следить за мной серьезными и даже пронзительными глазами. Я выбрал историю монастыря. Монахиня, найдя ее, подала мне и вышла. Я, невольно стараясь быть как можно скромней и тише, сел читать и делать выписки возле раскрытого окна, за которым светило солнце и шел ровный лепет зеленой древесной листвы…
Между прочим, я узнал, что под этим монастырем находится громадное подземелье, сплошь уставленное гробницами предков того рода, с лиц которого списаны святые на иконостасе в церкви. Есть гробницы еще времен Грозного. Историк монастыря, перечисляя гробницы, дает и краткие жизнеописания погребенных в них. «В гробнице такой-то погребен такой-то, обезглавленный царем Иваном Васильевичем Грозным… В гробнице такой-то – тот-то, убиенный в 1612 году…». В следующей – «отрок Сергий, убитый лошадью; родился в 1698 году, преставился в 1715; был иноком с четырнадцати лет; красавец собой, одаренный несравненным для пения голосом, страстью к музыке и большими познаниями в оной, с детства стремился он к Богу и вечности, куда и восхищен был преждевременной кончиной своей…».
В полдень, простясь с монахиней и выйдя из кельи, пошел к склепу, откуда идет спуск в это подземелье. Однако спуститься в него не решился: только заглянул между прогнивших и провалившихся досок пола в его тьму, увидел две каких-то громадных осмоленных колоды – и поскорее пошел прочь..
XVIII
…На прощанье попал еще в одно старинное место, еще в одну усадьбу. Опять широкий двор, стертые камни старинного крыльца, в доме сложные вековые запахи… Из полутьмы большой гостиной, в окна которой глядел одичавший сад, прошел в еще более просторный, но светлый зал, весь позлащенный солнцем, сияющий зеркальным паркетом. Опять портреты… Неужели не приукрашали старинные художники этих женщин? Особенно поразил меня один молодой женский портрет, глядящий со стены сквозь золотистую солнечную сетку, падавшую на него из сада. Несравненная прелесть форм, облитых тонким шелком, неземная красота радостно-восторженных очей, их чистейшей небесной бирюзы! В библиотеке – портрет старинного владельца усадьбы. Что-то вольтеровское, как это часто бывало в те годы: белый густой парик, нежное румяно-желтое лицо с впалыми щеками, едкие, проницательные глаза и тонкая линия рта. Сколько уже лет молча смотрит он на эту молчаливую комнату? А комната такая, что, кажется, остался бы в ней навеки: низкие книжные шкапы с инкрустацией, золотые узоры на кожаных и сафьяновых корешках за их стеклами, посредине, под дубовым полированным столом, горит на солнце красный бархатный коврик; кругом, по лаковому полу, блеск и игра лучей, а за широкими полукруглыми окнами – безбрежные серебристые леса… В «Расходной книге» этого имения прочел, между прочим: «Отпущено псарю Тимофею 60 аршин алого атласу на кафтан…» – и мысленно увидел охоту, несущуюся по этим серебристым лесам за каким-нибудь лосем, который мчится от собак по кустам и полянам, вывалив на сторону закушенный язык… Потом смотрел другие книги: откуда и в них, в самый расцвет такого благосостояния, таких тонких и сильных вкусов к жизни, эти вечные стремления «к Богу и вечности», эти горестно-возвышенные упреки земле и человеку?
Почто, о человек! стремишься
Всегда за счастием земным?
Неужли ты надеждой льстишься
Вовеки наслаждаться им?
1930 г. Приморск<ие> Альпы.
<Ответ на литературную анкету «Новой газеты» «Ваше первое литературное выступление»> *
Где, когда и при каких условиях состоялось Ваше первое литературное выступление?
Как и где начал печататься, уже не раз говорил в автобиографических заметках. Прибавлю одно: и до сих пор жалею, что случилось это очень рано, так как думаю, что почти всякий писатель начинает писать что-нибудь путное только лет с тридцати, с тридцати пяти. Жалею и о том, что был встречен слишком благосклонно. Конечно, «похвала нужна молодому артисту, как канифоль смычку». Но нужно держать его в строгости, иначе «пускается он в неглижабельность и самоуверенность излишнюю». Так отчасти было и со мной на первых порах. Только впоследствии стал я чувствовать даже некоторую печаль, слыша похвалы, – печаль, означающую и чувство ответственности, на тебя возлагаемой, и боязнь, что не вполне оправдаешь доверие, которое тебе оказывают, и тайное сознание общей бедности человеческих сил и способностей.
Во всяком случае, хорошо помню, что, когда я в молодости начал натыкаться на обильную критику, это очень было мне на пользу, – я в таких случаях тотчас же подтягивался, бодро и весело ожесточался…
Из книги «Серп и молот» *
Тело Ленина целую неделю стояло в бывшем Дворянском собрании. Всю неделю шел и шел к нему народ. Толпами стояли у входа, на улице, ждали очереди с утра до вечера, при морозе в 30 градусов. Автомобили увозили потерявших сознание, обмороженных… Сколько мерзло, стояло тут и тех, кого эта смерть повергла в потрясающую радость, в некий мистический восторг, в лютую жажду увидеть гроб человека, ставшего страшным почти апокалипсически? А там, где он лежал, все было задрапировано красным и черным, люстры и канделябры покрыты черным газом, свет был мягкий, прозрачный, – все было точно заткано серо-золотистой паутиной. Невидимый оркестр (из Большого театра) чуть слышно играл все время похоронный марш. В тишине, среди шороха подошв и шепота, то и дело слышался судорожный крик рыдающих женщин, из которых, опять-таки, было великое множество видевших в умершем подлинного Антихриста…
* * *
Сын крестьянина, из Волоколамского уезда. Мальчиком был отдан в обучение к «богомазу», затем и сам стал «богомазом». В молодости, «ознакомясь с революционной и материалистической литературой», сделался «убежденным атеистом». Продолжал, однако, заниматься иконописью – вплоть до самого октябрьского переворота. Тут вступил в московскую коммунистическую организацию, зачислен был на «первые московские пехотные курсы», «вел работу по реорганизации кадетских корпусов», после чего был назначен комиссаром тамбовских командных курсов, сражался в рядах курсантов «против мамонтовских и антоновских банд, заслужив среди товарищей глубокое уважение, как стойкий и честный коммунист», и, наконец, демобилизованный в 23 году, получил назначение на должность директора волоколамской фабрики… «Как же случилось то, что совершил он в апреле нынешнего года и что привело его на скамью подсудимых в московский губсуд?»
Перед судом – человек небольшого роста, коренастый, крепкий, опрятно одетый, с чисто выбритыми щеками и красиво седеющей острой бородкой, с большой блестящей плешью на черепе и с удивительным спокойствием на лице, – «истинное воплощение житейского благополучия, сознания недаром прожитой жизни, умной и холодной рассудительности, стойкой воли и непоколебимого резонерства», по справедливой характеристике газет.
– Подсудимый, расскажите все дело по порядку.
– Я сблизился с убитой мной Надеждой Чиж, будучи комиссаром тамбовских командных курсов. Она была уборщицей при курсах. Сначала была приходящей, затем поселилась у меня. Жениться я на ней не думал и никогда не обещал ей этого, ибо считал и считаю таковое оформление брака излишним. Однако, она вскоре стала требовать именно этого. Я стремился развить ее – напрасно: читать ничего не хочет, посещать образовательные лекции и чтения – тоже… Все мечты и желания сводятся к тому, чтобы получше одеться, завиться, напудриться… Вижу: сущая обывательница, как нельзя более далекая от склонности к коммунизму, цинично пользующаяся своим положением приближенной комиссара, своими возможностями получить из продовольственного склада курсов наибольшее количество продуктов, лишнюю пару ботинок, лишний отрез сукна на пальто… Легко понять, насколько дискредитировала она меня своей некультурностью в глазах курсантов, как коммуниста и борца.
– Так что, собственно, за это вы и убили ее?
– Именно за это. И, кроме того, за назойливость ее.
– Как же было дело?
– На охоте. Пошел 14 апреля текущего года на охоту. Она за мной. Взяла с собой закусок, вина. Пришли в лесок. «Давай, – говорит, – присядем, закусим». Прекрасно. Срубил для нее можжевельника, она села, стала развязывать узелок. Повторяю то, что уже говорил дорогой: «Мы должны расстаться». Отвечает: «Не расстаться, а повенчаться». Возится, наклонившись к узелку, но говорит твердо. Тогда я тотчас же выстрелил ей в голову. Она упала, опрокинулась навзничь, не успев издать ни звука, ни вздоха. Меня даже поразила эта картина: череп настолько развалился, что из него выпало все содержимое. Затем я вынул кинжал и стал резать труп на части. Разрезал на 16 частей…
– А для чего нужно было резать его?
– Для того, чтобы скорее растаскали труп птицы и звери, чтобы ликвидировать и скрыть следы преступления. Скрыть не от партии, конечно, а от обывателей.
– Как долго длилось все это?
– Мы вышли в десять часов утра. Около одиннадцати сели закусывать. А домой я вернулся в два.
– Что же вы делали дома?
– Ничего особенного. Устал, был, конечно, взволнован. Выпил два стакана воды, сказал старушке мамаше поставить самовар, сам отправился в трактир за папиросами…
– А затем?
– Что, собственно? Не совсем понимаю ваш вопрос. Жил, как обыкновенно, делал свое дело, как всякий сознательный коммунист и строитель будущего…
* * *
На дворе у нас, в полуподвальной дворницкой, жил бывший барский кучер, краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир. Он долго таскал его по снегу, по двору, ходил по квартирам, – хотел продать на выпивку, но, конечно, никто не покупал. Наконец, приехал в Москву под Рождество деревенский сосед дворника и купил:
– Ничего, – сказал, – этот мундир свои деньги оправдает! Будут ребята таскать, а то и сам изношу. В нем пахать, например, самое разлюбезное дело: его ни один дождь не пробьет. Опять же тепел, весь в застежках, в пуговицах. Ему сносу не будет!
* * *
Стали являться в Москву земляки.
На днях был чрезвычайно удивлен – явился наш бывший садовник: приехал, говорит, «повидаться с барином», то есть, со мной. Я его даже не узнал сразу: за эти семь лет, что мы не видались, рыжий сорокалетний мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлого, выжившего из ума старика с бледной от седины бородой, с желтым опухшим лицом. Все плакал, жаловался на тяжести жизни. Мне было с ним очень неловко – все время продолжал говорить со мной, как с барином, просил помочь, где-нибудь устроить на место, совершенно не понимая или не желая понимать, кто я таков теперь. Прожил у меня два дня. Я собрал ему по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу и на пропитанье несколько рублей. Он пихал это тряпье в свой нищенский мешок, трясясь от стариковского сладострастия к собственности, не слушая, что я ему говорю, бормоча: «Теперь я и доеду, и хлебушка куплю!» Под вечер ушел, наконец, с этим мешком на вокзал, на прощанье поймав и несколько раз поцеловав мне руку холодными, мокрыми губами и усами, оставив во мне мучительное родственное чувство…
* * *
Когда умер поэт Хлебников, о нем писали и говорили без конца, читали лекции, называли его гением. На одном собрании, посвященном памяти Хлебникова, его друг П. читал о нем свои воспоминания. Суть этих воспоминаний была такова:
П. давно считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему материально: Хлебников, «благодаря своей житейской беспечности», крайне нуждался. Однако, все попытки П. сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны: – «Хлебников был неприступен». – Но вот однажды П. удалось-таки вызвать Хлебникова к телефону. – «Я стал звать его к себе. Хлебников ответил, что придет, но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор, в вечных снегах, между Лубянкой и Никольской. Однако, минут через десять слышу звонок, отворяю и вижу: Хлебников!» – На другой день П. перевез Хлебникова к себе, и Хлебников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол. Он превратил стол в кровать, а кровать – в стол, и на этой кровати, совсем голой, стал писать свою книгу «Доски Судьбы», где фигурирует «мистическое число 317». – Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната его вскоре превратилась в совершенную закуту, и хозяйка выгнала с квартиры и П. и Хлебникова. Последнего приютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками Судьбы». Прожив у него недели две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги во что бы то ни стало необходимо побывать в Астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и вот он в восторге помчался на вокзал. Однако, уехать ему сразу не удалось: на вокзале его обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошеливаться, и Хлебников, наконец, уехал. Через некоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приехать за Хлебниковым: иначе, – писала она, – Хлебников погибнет. П., разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехал туда ночью, нашел Хлебникова, и тот тотчас повел его за город, в степь, а в степи стал говорить, что ему «удалось снестись со всеми 317-ю Председателями», что это великая важность для всего мира, и так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя, П. с трудом побрел в город. Здесь он, после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашел Хлебникова в каком-то кафе. Увидев П., Хлебников опять бросился на него с кулаками: – «Негодяй! Как ты смел воскреснуть! Ты должен был умереть! Я ведь уже снесся по советскому радио с 317 Председателями и избран ими Председателем Земного Шара!» – «С этих пор отношения между нами испортились, и мы разошлись», – говорил П. Однако, возвратясь в Москву, Хлебников вскоре нашел себе нового мецената, в лице булочника Филиппова, который и стал его содержать, исполняя все его прихоти. В последний раз П. видел Хлебникова в роскошном номере отеля «Люкс», где на двери висел большой и цветистый самодельный плакат. На этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла надпись:
«Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати до половины двенадцатого!»
* * *
Нынешней весной в последний раз побывал в Никольском.
Пришло неожиданное и удивительное письмо от Никольских мужиков. Писал от их имени новый учитель:
«Граждане сельца Никольское вспоминают вас, относясь с симпатией, в ознаменование чего и предлагают вам поселиться на родном пепелище, сняв у них в арендное содержанье бывшую вашу усадьбу и живя в добрососедских отношениях. Приезжайте для личных переговоров и хлопот, ничего не подозревая, ввиду того, что теперь вас никто пальцем не тронет, события миновали, и река вошла в свои берега…»
Я, едучи, думал: неужели и впрямь опять еду я туда, где встретил когда-то страшное начало этих «событий», откуда бежал в одну из самых зловещих октябрьских ночей семнадцатого года и где уже никогда не чаял быть снова! Не верилось, что опять увижу это «пепелище», пока не увидал собственными глазами давно знакомые места и лица.
А затем было очень странно видеть все прежнее, свое, собственное чьим-то чужим, – чьим именно, никто еще не знал толком во всей деревне, – странно взглянуть на все эти столь грубо одичавшие за пять лет «берега» и, в частности, на те изменения и разрушения, что произошли в усадьбе за время пятилетнего мужицкого владычества над ней… снова войти в тот дом, где родился, вырос, провел почти всю жизнь, и где теперь оказалось целых три новых семейства: бабы, мужики, дети, голые потемневшие стены, первобытная пустота комнат, на полу натоптанная грязь, корыта, кадушки, люльки, цыганские постели из соломы и рваных пегих попон, а стекла окон, их зимних рам, теперь никогда не вынимаемых, точно покрыты черными кружевами – так засидели их мухи…
На деревне встретили меня ласково, сами дивились на то. что произошло, с жалостью разглядывали мою бедную одежду и все говорили, что надо хлопотать, чтоб разрешили эту аренду «на вечность». Но ведь дом-то оказался занят, и в доме ко мне отнеслись, конечно, совсем по-другому, особенно бабы. Те тотчас же заявили без всякого стеснения: «Какая такая аренда? Ну, нет, никакого мира мы и знать не хотим, из дому не выйдем!» И я тотчас же понял, что и впрямь как-то нагло и глупо влез я в этот дом, в эту чужую, уже крепко внедрившуюся в него жизнь.
Короче сказать, провел я в Никольском всего два дня и уже только из приличия поддерживал на деревне переговоры об аренде.
Уехал, зная, что уезжаю уже, действительно, навеки, с великим душевным облегчением…
На днях встретил на Кузнецком Никольского Степана: стоит перед пустой витриной магазина и пристально смотрит на нее; на голове шапка, на плечах тулуп, на ногах валенки, хотя на дворе июль, градусов тридцать. Обрадовался мне, как родному, стал упрекать: «Напрасно вы погордились – жили бы себе на спокое, у нас теперь не хуже прежнего, все хорошо, тихо». И тут же рассказал, что вышло недавно поблизости от Никольского «нехорошее дельце»: остановились возле деревни на большой дороге цыгане и свели с деревни ночью лошадь, а мужики в лоск положили за это весь табор: убили целых шестнадцать человек мужчин и женщин и одного маленького цыганенка: дрались весь день, с утра до вечера – цыгане защищались не на живот, а на смерть, особенно один, совершенный красавец, отец двух таких же красавцев сыновей, которые так рядом и легли с ним…
* * *
Возле церкви у Никитских ворот встретил медленно идущую похоронную процессию: красная с золотом колесница, лошади в белых мантиях с красными бантами на ногах, и провожатые в белых треуголках с красными лентами; сзади – другая красная колесница, полная белых хризантем.
Несколько человек стояло на тротуаре и пристально смотрело на эту процессию. Спросил:
– Кого это хоронят?
– Говорят, какого-то Брюса.
– Это который календарь написал?
– Похоже, что так…
Возвратясь домой, перелистал последнюю книгу стихов покойного. Нашел в ней, между прочим, такие стихи:
В годы Кука, давно славные,
Бригам ребра ты дробил,
Чтоб тебя узнать, их главный – и
Не повторный опыт был…
И такие еще:
Березка родная в губернии
Горько сгорблена грузом веков,
Но не тем, что в Беарне ли, в Берне ли
Гнули спину иных мужиков…
* * *
Наш «рюрикович», наконец, отстрадался. Жизнь его была ужасна: голод, нищета и чахотка, точно огнем, сжигали его, – я ни у кого не видал таких пылающих глаз, такой худобы и темноты лица. А, между тем, никто из нас даже и сравниться не мог с ним в той легкости и даже веселости, с которой нес он все свои страданья и лишенья. Это меня всегда поражало за эти годы: чем знатнее был человек в свое время, тем легче и проще вступал он во все испытания новой жизни. Но покойный – даже и среди таких людей выделялся. Точно ничего и не случилось! Все также радостно встречался с нами и родственно, поспешно целовался, все то же оживленье, шутки, все те же «друзья мои» к каждому слову и детские мечты, планы: вот-вот жизнь станет лучше, свободней, и все мы уедем куда-нибудь на Кавказ, оснуем там какой-нибудь поселок – под вечным солнцем, у теплого моря, в виду вечно сияющих снегами гор, в чинаровых лесах, в цветущих тропических дебрях…
– И уже тут с нами не сладишь! – смеясь, говорил он, – батраки, бедняки, коммунисты! И как еще жить-то будем! Вон сестра Маша пишет: «Я теперь хожу в лаптях, работаю у мужиков на поденщиине…» И что же? Я уверен, что она счастлива!
Умер он 12 декабря в полдень. За час до его смерти выглянуло солнце, и он, лежа в своей каморке на продранном диване, сказал грустно и ласково:
– Вот и солнце, а я его уже не вижу…
На этом же диване и положили его – в остатках чистого белья, в черном сюртуке и серых брюках. А на другой день, в морозное утро, тащилась по Дмитровке белая рессорная телега, старая лошадь под белой сеткой. Сопровождали ее два мужика в белых кафтанах и белых жестяных цилиндрах; один из них нес небольшой березовый крест. Сзади шла кучка бедно одетых людей – мы…
* * *
На престольный праздник возле уездного монастыря была ярмарка.
Нищих, калек, убогих, слепцов с поводырями стеклось без счета.
Во время обедни все это лежало и сидело на траве у стен монастыря, со всеми своими палками, мешками. Особенно выделялись коричневые до блеска, до перламутра сожженные солнцем и до костей иссохшие старцы с голыми черепами, да один страшный малый: вместо носа, губ и части подбородка у него было что-то сплошное, вроде огромного шрама лиловатого цвета, с дырой посредине в кулак величиной, куда он запихивал сразу половину французской булки и мял ее остатками мышц и связок. Ужасней всего было то, что это был человек очень веселый, голубоглазый (хотя и в кровавых веках), и мял булку даже для потехи…
Когда из монастырских ворот, из-под расписных сводов, показалась парчевая рака, вся эта толпа бросилась к ней, давя друг друга, послышались крики, вопли. Пение, ладан, черные рясы монахинь, эта рака, медленно плывущая над головами, и эти крики, вопли… Позади всех, задрав голову, слепо и неотразимо пыряя вперед палкой, не поспевая за поводырем-мальчишкой, бежал мужик в бельмах…
А на ярмарке стоял балаган, гремел, бил в медные тарелки оркестрион, и все прочее являло картину, тоже давно известную: гам, говор, дикий и дурацкий крик клоуна, зазывавшего в балаган на представленье, густая толпа баб, мужиков, девок, белые баранчики в телегах, тонкое ржание жеребят с замшевыми мордочками, острый запах лошадиного навоза и растоптанного сена, малый, сидящий на земле с шарманкой между ног и под ее рев и свист поющий во весь звонкий голос:
– Все пташки, канарейки…
А на крылечке чайной, под красным флагом, – кумовья и сваты; раскрасневшиеся от чая и самогона лица с мутными, умиленными глазами, головы и бороды мудрецов Эллады…
Воротясь на постоялый двор, лег на деревянный диван, очень утомленный долгим шатанием по ярмарке, и закрыл глаза. На постоялом дворе не было ни души, хозяева отдыхали после обеда. Погода портилась, – в неприкрытое окно дул холодный ветер, слышался все усиливающийся шум деревьев… На минуту забылся, потом очнулся: дождь частой дробью осыпал стекла, поминутно сверкали ослепительные молнии, сквозь сердитый шум деревьев с ярмарки гремел «Интернационал»…
* * *
На трамвае, идущем по Арбату.
Надо мной стоит, высится громадный мужик, держится за ремень вверху и все что-то на меня поглядывает. Потом вдруг усмехается и весело и громко говорит:
– Погоди, погоди, тряхнем!
– Кого тряхнем?
– Знаем, кого! Только погоди еще маленько!








