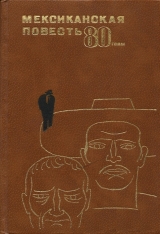
Текст книги "Мексиканская повесть, 80-е годы"
Автор книги: Хосе Эмилио Пачеко
Соавторы: Карлос Фуэнтес,Рене Авилес Фабила,Серхио Питоль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Конечно, все дела уладились. Папины друзья из Лос – Анджелеса покрыли долг в сто миллионов, чтобы не потерять плантации в Синалоа. Дед пролежал в постели целый месяц после устроенного нами дебоша, но уже был на ногах к 10 мая, ко Дню Матерей, когда трое мужчин из домища на Педрегале отправились вместе, как все прежние годы, на Французское кладбище положить цветы к склепу, где покоились моя бабушка Клотильда и моя мама Эванхелина.
Этот мраморный склеп напоминает наше жилище в миниатюре. Здесь спят они обе, сказал генерал прерывающимся голосом, опустил голову и заплакал, уткнувшись лицом в платок. Я стою между своим отцом и своим дедом, и мы держимся за руки. Рука деда холодная, сухая, шершавая, как шкурка ящерицы. Ладонь отца, напротив, пылает. Дед снова всхлипнул и отнял платок от глаз. Если бы я на него внимательно поглядел, то наверняка спросил бы себя – о ком он так убивается и о ком больше плачет, о своей супруге или о своей невестке. Но в тот момент мне хотелось знать лишь свое будущее. На сей раз мы пришли на кладбище без ансамбля марьячи. А музыка здесь бы не помешала.
II. Это были дворцы
Луизе Райнер, умевшей видеть
Никто ей не верил, когда она говорила, что собаки начинают объединяться: ненормальная, полоумная старуха, которая сама с собой день-деньской разговаривает, наверное, ее по ночам кошмары одолевают после того, что случилось с дочкой, да разве после такого уснешь спокойно? А потом, ведь у старых людей мозг усыхает, сморщивается, как ядро в орехе, и тарахтит твердым шариком в пустой голове. Но донья Мануэлита делает столько добрых дел, она поливает не только свои цветы, но и цветы всех соседей на втором этаже, каждый видит, как по утрам она из зеленой канистры окропляет своими желтыми пальцами герань в кадках вдоль всей железной балюстрады, как по вечерам она закрывает чехлами клетки, чтобы канарейки спали спокойно.
Но есть и такие, кто думает: донья Мануэлита, наверное, самый тихий человек на свете, почему на нее наговаривают? Старая, одинокая женщина, делает что положено, никого не тревожит. Утром – кадки, вечером – клетки. Часов в девять утра идет на рынок Мерсед, а на обратном пути в кафедральный собор, на площади Сокало,[26]26
Сокало – площадь в центре Мехико с правительственными учреждениями.
[Закрыть] помолиться немного. Затем возвращается в свой многоквартирный дом и готовит обед. Вареная фасоль, жареные лепешки тортильи, салат из свежих помидоров, лука, перца и всякой душистой зелени: запахи, идущие из кухни сеньоры Мануэлы, точно такие же, что вместе с чадом несутся от других старых жаровен с бурым углем. После обеда какое-то время она в одиночестве созерцает черную решетку жаровни и отдыхает, должна отдыхать. Говорят, она заслужила отдых. Столько – то лет быть служанкой в богатом доме, можно сказать всю жизнь.
После сьесты, к вечеру, она снова выходит, согнувшись от тяжести корзины с сухими тортильями, и в этот час вокруг нее начинают собираться собаки. Понятно почему.
Она бросает им тортильи, собаки это знают и сбегаются к ней. Когда удается накопить денег на цыпленка, она собирает косточки, а потом кидает их собакам, бегущим за ней по улице Ла-Монеда. Мясник говорит, что этого делать нельзя, куриные кости не годятся собакам, они слишком острые, могут застрять в глотке или вспороть кишку. И потому самые злобные люди болтают, мол, это доказывает, что донья Мануэла – плохой человек, она приманивает собак, чтобы их убивать.
Возвращается она часам к семи, промокшая с головы до ног в пору дождей, в башмаках, серых от пыли в засушливое время года. Все помнят ее такой: белесая, покрытая саваном пыли от октября до апреля, а с мая по сентябрь – размокшая, как сухарь в супе: платок прилип к волосам, капли дождя свисают с кончика носа, расплываются в морщинах под глазами и на щеках и среди белых волос на подбородке.
По возвращении с таких прогулок кофта у нее вся черная от воды, юбки и чулки – черные, и сушит она их ночью. Она одна не боится сушить одежду ночью. Вот и думают, старуха совсем свихнулась, ведь ночью может пойти дождь, и тогда все пропало. Ночью нет солнца. Ночью бродят воры. А ей все равно. Она развешивает свое мокрое тряпье в общем патио многоквартирного дома, где веревки пересекаются во всех направлениях. Мол, рассвет высушит, ворчат люди, а донья Мануэлита молчит. По правде сказать, никто не слышал, как она говорит. Никто не видел, когда она спит. Вещи доньи Мануэлиты исчезают с веревок еще до того, как кто-нибудь просыпается. Никогда не видели ее и за стиркой, согнувшуюся рядом с другими женщинами, которые трут, намыливают и сплетничают.
– Она похожа на старую и одинокую королеву, забытую всеми, – говорил Ниньо[27]27
Мальчик, малыш (исп.). В Мексике так называют хозяйских сыновей крестьяне, прислуга.
[Закрыть] Луисито до того, как ему запретили с ней видеться и даже здороваться. – Когда она поднимается по каменной лестнице, я могу себе представить, что дом этот был огромным дворцом, мама, что здесь жили, давно-предавно, могущественные и богатые сеньоры.
– Больше не смей с ней видеться. Вспомни о ее дочери. Тебе чаще, чем другим, следует вспоминать об этом.
– Я не знаю ее дочери.
– Хочешь, наверное, занять ее место. Нет, не дам, не выйдет, старая ведьма.
– Только она одна вывозила меня гулять, все остальные всегда так заняты.
– Твоя сестренка уже большая. Теперь она будет тебя вывозить.
Ниньо Луисито, сидя в кресле на колесах, которое толкала его сестренка Роса Мария, сам, по собственному усмотрению распоряжался, куда его везти. На улицу Такуба, если ему хотелось посмотреть на старые, времен вице-королевства, дворцы из шлифованного камня и тесонтле,[28]28
Порода вулканического происхождения (исп., мекс.).
[Закрыть] на просторные вестибюли, в деревянной обшивке, утыканной гвоздями со шляпками-монетками; на балконы из узорного чугунного литья, ниши с каменными святыми девами, высокие водостоки и позеленевшие металлические желоба. Или в другую сторону, к низким облупившимся домикам на улице Хесуса Каррансы, если ему вдруг вспомнится донья Мануэлита, ибо он был единственным, кто побывал у нее в комнате и на кухне и мог их обрисовать. Самое интересное, что обрисовывать было нечего. Кроме дверей, которые служили и окнами, – деревянной в кухне и занавески, обычной простыни на медных колечках, в комнате, – не было ничего примечательного. Одна койка. Люди украшали свои комнаты календарями, алтарями, изображениями святых, вырезками из журналов, цветами, флажками футбольных клубов и рекламными афишами корриды, бумажным национальным флагом, фотографиями празднеств в Вилья-де-Гуадалупе. У Мануэлиты не было ничего подобного. В кухне – глиняная посуда, мешок угля, каждодневный обед, в комнате – койка. Вот и все.
– Ты там был. Что у нее? Что она прячет?
– Ничего.
– Что там делает?
– Ничего. Она все делает снаружи, небось все видят: цветочные кадки, покупки, собаки, канарейки. А если ей не доверяют, то почему дают поливать герань и накрывать на ночь клетки? Не боятся, что цветы завянут, а птички подохнут?
Как медленно везет кресло Роса Мария, просто не поверишь, ей тринадцать лет, а она слабее доньи Мануэлиты, на каждом перекрестке и при переходе через улицу просит помочь поднять кресло на тротуар. А старуха могла сама. С ней Ниньо Луисито всегда разговаривал, когда они направлялись к улицам Такуба, Донселес, Гонсалеса Обрегона и к площади Санто-Доминго, с ней он всегда представлял себе город таким, каким тот был в колониальные времена, всегда рассказывал ей, старой, как возводился испанский город, шахматная доска, накрывшая руины ацтекской столицы. Маленьким, говорил он донье Мануэлите, его отдали в школу: сплошная пытка, жестокие шутки, «калека», «колченогий», кресло, перевернутое вверх колесами под дружный смех, трусливое бегство, а он лежит на земле и ждет, пока его поднимут учителя. Поэтому он просил: больше не надо, лучше дома, дети жестоки, это действительно так, не только слова, он сам убедился: лучше быть одному, читать, когда все уходят на работу, кроме мамы, доньи Лурдес и сестренки Росы Марии, и пусть ему разрешат читать одному и заниматься одному, ради бога. Ведь ноги ему не вылечат ни в какой школе, клялся, что в одиночку выучит гораздо больше, честное слово, пусть только купят ему в складчину книги, а позже он чему-нибудь обучится, честное слово, обучится, но только среди взрослых, с ними можно поговорить, они не откажутся, хотя бы из сострадания. Дети не знают, что это такое.
А донья Мануэлита знала, да, знала. Когда она везла его кресло к тем жутким местам, к пустырям у Северного Канала, направо от площади Перальвильо, то он молчал, а говорила она, показывала ему собак, собак же в тех местах больше, чем людей, бродячих собак, без хозяина, без ошейника, собак, неведомо где родившихся, зачатых на улице точно такими же тварями, как они сами, что случаются под смех мальчишек, под градом камней, а потом разлучаются навсегда, навсегда, навсегда, да и как вспомнить суке своего пса, если она одна, вот в таких же местах, приносит щенят, которые остаются сирыми на следующий после рождения день? Как запомнить суке своих собственных детей?
– И представь себе, Ниньо Луис, представь, что собаки запоминают друг друга, несмотря ни на что.
Мурашки странного холодного наслаждения пробегали по спине Ниньо Луисито, когда он смотрел на мальчишек с Перальвильо, бьющих камнями собак, которые сначала злобно тявкали, потом взвизгивали от боли и, наконец, разбегались, жалобно воя, поджав хвосты, с окровавленными мордами – желтые глаза, плешивые спины, – чтобы затеряться где-то на пустырях, обжигаемых дневным горячим солнцем Мексики. Собаки, мальчишки, все опаленные солнцем, где они кормятся? Где ночуют?
– Понимаешь, Ниньо Луис, если ты хочешь есть, ты можешь попросить. Собака не может. Собака должна брать, где найдет.
Но Ниньо Луису было трудно просить, а он должен был просить. Ему купили в складчину книги. Он знал, что раньше, в большом доме в Орисабе, книг было видимо – невидимо, прадед велел привозить их из Европы и даже ездил в Веракрус за иллюстрированными журналами и толстыми приключенческими романами, которые читал своим сыновьям в долгие ночи тропических ливней. Все шло с молотка по мере того, как семейство беднело; наконец перебрались в Мехико, здесь было больше возможностей, чем в Орисабе: отцу дали работу в архиве министерства финансов. Доходный дом расположен рядом с Национальным дворцом, и отец ходил пешком, экономил на автобусах, а почти все чиновники ежедневно теряли два-три часа, чтобы добраться из собственных домов в отдаленных районах до площади Сокало и вернуться обратно. Ниньо Луис замечал, как с годами исчезали воспоминания, семейные традиции. Его старшие братья уже не ходили в среднюю школу, не читали, один работал в отделе департамента Федерального округа, другой – в отделе обуви Железного дворца.[29]29
Название большого универсального магазина в центре Мехико.
[Закрыть] Конечно, они все вместе могли бы снять домик, например, в Колонии Линдависта, но это очень далеко, а здесь, в доходном доме на Ла-Монеде, они занимали лучшие комнаты – гостиную и три спальни, таких не было ни у кого. И в таком здании, которое столетия назад было дворцом, Ниньо Луису было легче фантазировать и вспоминать.
Если собаки помнят друг о друге, как говорила донья Мануэлита, то люди забывают о своих ближних и о самих себе, отвечал ей Ниньо Луис. В час ужина он любил вспоминать о большом доме в Орисабе, с белым фасадом и зарешеченными окнами, а сзади дома был крутой и влажный овраг, пахнувший мангровыми зарослями и черными платанами. На дне оврага несмолкаемо журчал порывистый ручей, а там, наверху, всю Орисабу опоясывали огромные горы, такие близкие, что даже страшно. Будто живешь под боком у гиганта, увенчанного короной облаков. А дожди шли и шли, без конца.
Все поглядывали на него как-то странно, его папа дон Рауль опускал глаза, его мама вздыхала и покачивала головой, один брат смеялся без стеснения, другой крутил указательным пальцем у виска, мол, Ниньо Луисито совсем спятил, чего это он мелет, если никогда не бывал в Орисабе, если ничего подобного не видывал, если семья еще сорок лет назад переехала в Мехико? А Роса Мария его даже не слушала, ела да ела, ее черные-пречерные глазки были каменными, без воспоминаний. Как страдал Ниньо Луисито, выклянчивая все это, книги или воспоминания, нет, я не забываю, я нашел почтовые открытки; у нас есть сундук, полный старых фотографий, его используют как комод, но я знаю, что в нем лежит.
Донья Мануэла знала об этом, потому что Ниньо Луисито многое успел рассказать до того, как ей запретили возить его на прогулки. Оставаясь одна в своей комнате, лежа на койке, она пыталась молча беседовать с мальчиком, вспоминая о том же, о чем вспоминал он.
– Представляешь, Мануэлита, каким был когда-то этот наш дом.
Таково было второе воспоминание Ниньо Луисито, словно бы прошлое их многолюдного дома, приютившего двенадцать семей, дополняло его представление о том доме, в Орисабе, принадлежавшем одной семье, его семье, когда их имя еще что-то значило.
– Представляешь, ведь это были дворцы.
Старуха напрягала память, чтобы вспомнить, о чем ей рассказывал мальчик, и затем представить себе – подобно ему и вместе с ним – господский дворец, вестибюль без продавца лотерейных билетов, фасад из шлифованного камня без прилепившихся лавок дешевой одежды, магазина подвенечных нарядов, фотографии, торговли мелочными товарами, без афиш, портивших старинный благородный облик здания. Дворец – чистый, суровый, горделивый, без веревок и корыт в патио, где в центре шумел фонтан; широкая каменная лестница идет наверх, первый этаж отведен для прислуги, экипажи, лошади, стойла с зерном, и запах сена, и суета.
А что было на втором этаже? О чем вспоминал Ниньо? Да, залы, где пахло воском и лаком, клавесины, говорила она, балы и ужины, спальни, где пол выложен прохладными изразцами, где кровати с москитными сетками, шкафы с зеркалами, свечи. Так издалека и беззвучно говорила донья Мануэла Ниньо Луисито после того, как им запретили видеться. Так она общалась с ним, жила его воспоминаниями и забывала о своем прошлом, о доме, где работала целую жизнь, двадцать пять лет, пока не состарилась, о доме генерала Вергары в Колонии Рома, пока хозяева не переехали на Педрегаль. У нее не было времени сдружиться с маленьким Плутарко, новая сеньора, Эванхелина, умерла года через три-четыре после свадьбы, а старая хозяйка, донья Клотильда, умерла много раньше, Мануэле было только пятьдесят лет, когда ее уволили, с ней у генерала связано слишком много воспоминаний, потому он ее и уволил. Он добрый. Платит за ее жилье в доходном доме на Лa– Монеде.
– Иди и доживай с миром, Мануэла, – сказал ей генерал, – когда я тебя вижу, мне вспоминается моя Клотильда, прощай.
Донья Мануэлита прикусывала свой желтый мозолистый палец, когда вспоминала эти слова своего хозяина, эти воспоминания врывались в их общие – ее и Ниньо Луисито – и были совсем не к месту, донья Клотильда давно умерла, святая была женщина, в пору религиозных гонений и в бытность генерала влиятельным человеком при Кальесе донья Клотильда приглашала священника совершать богослужение в подвале своего дома, и каждый день они исповедовались и причащались: хозяйка, служанка Мануэлита и дочь служанки Лупе Лупита. Священник приходил в крестьянской одежде и с чемоданчиком, как у доктора, где прятал свое церковное платье, вино и облатки, отец Тельес, молоденький священник, святой, которого святая донья Клотильда спасла от смерти, приютив у себя, когда все его собратья были поставлены к стенке и расстреляны спозаранку, с раскинутыми руками, как на кресте, – она сама видела снимки в газете «Эль Универсаль».
Поэтому ей казалось, когда генерал ее рассчитывал, что он шлет ее на смерть. Она пережила донью Клотильду, помнила многое, генерал же хотел остаться наедине со своим прошлым. Может быть, он и прав, может, и лучше для них обоих, хозяина и служанки, расстаться и каждому хранить свои тайные воспоминания отдельно от другого, без свидетелей, да, пожалуй, лучше. Она прикусывала свой желтый мозолистый палец: генерал остался со своими сыном и внуком. Мануэлита потеряла свою дочку и больше ее никогда не увидит, а все потому, что привела ее в этот проклятый муравейник, нарушила одиночество маленькой Лупиты, которая в хозяйском доме никого не видела, не хотела спускаться с первого этажа и покойно ездила там в своем креслице на колесах. В этом доме – другое дело, всяк лезет помочь, всяк вмешивается, поднимали ее по лестнице и спускали вниз, мол, надо ей на солнышко, на воздух, на улицу, увели ее у меня, украли, мне за нее заплатят. До крови донья Мануэлита впивалась в свой палец двумя оставшимися зубами. Надо думать о Ниньо Луисито. А Лупе Лупиты ей больше не видать.
– Отвези меня на пустырь, – попросил Ниньо Луисито Росу Марию, – туда, где собираются собаки.
Несколько каменщиков обносили оградой пустырь у Северного Канала. Они уже поставили цементные столбики с одной стороны пустующего участка, и Ниньо Луисито велел. Росе Марии повернуть в другую сторону, туда, куда еще не дошли строители. Теперь тут были не мальчишки, тут были верзилы в свитерах и полосатых рубашках, они громко смеялись и крепко держали за ноги серого, как цемент, пса, рабочие посматривали на них издали, орудовали своими лопатами, помешивали раствор и снова поглядывали, подталкивая друг друга локтями. А за пустырем – гул армады машин, стиснутой с двух сторон площадью Перальвильо. Автобусы, грузовики, пикапы, чад, резкие гудки, неколебимый шум. В Перальвильо трамвай настиг Ниньо Луисито, последний вагон города Мехико, и покалечил его. Одни верзилы сжимали песью пасть, другие держали за лапы, а один из них неумело, с трудом отрезал псу хвост, струи крови, клочья серой шерсти, лучше бы одним ударом мачете, быстро и чисто.
Растерзанный хвост наконец упал на землю рядом с обрезками мяса, кровь заливала дергающийся зад. Но остальные собаки из своры, собиравшейся каждое утро на пустыре, который рабочие начали обносить стеной, не разбежались. Там были все собаки, все вместе, в отдалении, но вместе, и молча смотрели на муки серого пса, а пена капала с морд, собаки, рожденные под нашим солнцем, смотри, Роса Мария, они не уходят, но они не запуганы, они вовсе не ждут, когда подойдет их черед, нет, Роса Мария, смотри, они переглядываются, о чем-то переговариваются, донья Мануэлита права, эти псы будут помнить боль своего собрата, будут помнить, как пострадал он от рук трусливых верзил, но черные-пречерные глаза Росы Марии были каменными, без воспоминаний.
Донья Мануэлита выглянула в свое дверное окошко, услышав, как поскрипывают колеса кресла: примерно к часу дня девочка с братом вернулись домой. Старуха издали увидела пыль на их ботинках и поняла, что дети побывали на собачьем пустыре. К вечеру она накинула на голову платок, положила сухие тортильи, прикрыла ветошью корзинку и вышла на улицу.
У двери ее поджидала собака. Глядела на нее остекленевшими глазами и скулила, словно звала за собой. На углу Видаль Алькосер к ним присоединилось еще собак пять, а на улице Гватемала собралось до двадцати, всех мастей, коричневые, пятнистые, черные, они кольцом окружили донью Мануэлиту, которая кидала им куски сухих лепешек, уже успевших позеленеть. Сначала они ее окружили, потом одни побежали вперед, указывая дорогу, а другие подгоняли сзади, мягко тыкаясь в ноги мордой, уши торчком, пока все не добрались до решетчатой ограды перед кафедральным собором. Еще издали старуха увидела серого пса, растянувшегося у деревянной резной двери, под барочным навесом портала.
Донья Мануэла со своими собаками вошла на огромную паперть и опустилась на каменные плиты рядом с раненым псом, значит, это ты, Серый Туман? бедный одноглазый пес? ничего, смотри, слепец, смотри, и благодари бога, что у тебя один глаз мертвый и голубой, как небо, и что видишь ты только полмира, слава тебе господи, да как же тебя отделали, поди ко мне, Серый Туман, ко мне на колени, дай, я тебе перевяжу хвост, будь они прокляты, бездельники, отродья несчастные, понимают, что вы не можете ни защититься, ни сказать, ни попросить о помощи, уж и не знаю, творят ли они такое над бедными животными, чтобы не набрасываться друг на друга, или только учатся на вас, чтобы резать ближних своих завтра же, кто их знает, кто знает, ну-ка, Серый, песик мой маленький, я же тебя с рождения знаю, барахтался ты в помойке, родился ты одноглазым, твоя мать тебя и облизать не успела, тут же тебя выкинули на свалку, оттуда я тебя и вытащила, вот так, теперь тебе лучше? бедный ты мой щеночек, тебя выловили эти трусы, самого слабого из моих псов, идите-ка все вы сюда, возблагодарим бога, помолимся о здравии всех собак, попросим об этом, там, внутри, в доме Спасителя, господа нашего, сотворившего всех и вся.
Тихо, с добрыми, ласковыми словами, согнувшись почти до земли, вошла тем вечером донья Мануэла в кафедральный собор со всеми своими двадцатью собаками, до самого алтаря удалось ей дойти вместе с ними, время было самое подходящее, там стояли всего лишь несколько богомолок да двое-трое нищих с распростертыми руками, устремивших взоры к небу. Донья Мануэлита преклонила колена у алтаря и громко молила, сотвори чудо, господи, дай людской голос собакам, научи их защищать себя, научи помнить друг о друге и о тех, кто их мучает, господи боже, ты, принявший муки на кресте, имей сострадание к твоим щенятам, не покидай их, дай им силы защищать себя, если ты не дал людям жалость и любовь к этим бедным тварям, господи боже Иисусе Христе, покажи, что ты взаправду бог и истинный человек, награди одинаково все свои создания, нет, не богатством, так много я у тебя не прошу, награди всех равным состраданием друг к другу, чтобы один понимал другого, а если это невозможно, дай равную силу, чтобы каждый мог защитить себя, не возлюби одни творения свои больше, чем другие, господи, ибо не будут тебя так любить те, кого и ты любишь меньше, и скажут, что ты сам дьявол.
Тут зашикали богомолки, одна из них с раздражением требовала тишины, другая кричала «надо уважать храм господень», а потом два священника со служками прибежали бегом к алтарю, испуганные, мол, какое святотатство, безумная старуха со сворой паршивых собак. Да разве думала о чем-то подобном донья Мануэла, никогда она не переживала минут более возвышенных, никогда не произносила таких красивых и таких прочувствованных слов, почти таких же красивых, какие умела говорить ее дочь Лупе. То была умиротворенная старуха, ощутившая себя не только омытой, а набальзамированной дневным светом, который струился с высочайшего купола, обращался в отблески труб серебряного органа, позолоченных рам, скромных подсвечников и лакированных скамей. И бог, к которому она взывала, отвечал ей, он говорил:
– Ты должна верить в меня, Мануэла, хотя мир жесток и несправедлив. Таково испытание, которое я тебе посылаю. Если бы мир был совершенен, у тебя не было бы необходимости верить в меня, ты понимаешь?
Но священники и служки уже оттащили ее от алтаря, пинками выгоняли собак; один обезумевший от ярости служка бил тварей распятием, другой махал курящимся кадилом, чтобы вовсе их ошарашить. Собаки завыли, залаяли в один голос, а донья Мануэла, истерзанная, взглянула на стеклянные гробы, где покоились восковые фигуры Христа, еще больше истерзанного, чем она или ее пес Серый Туман. Кровь на твоих терниях, кровь на твоих ребрах, кровь на твоих ногах, кровь на твоих руках, кровь на твоих глазах, Христос родимый, да что же с тобой сделали, что там наши страдания по сравнению с твоими? тогда почему не позволяешь ты мне и моим собакам высказать наше горе здесь, в твоем доме, таком большом, что вместил бы и твои страдания, и наши?
Лежа ничком на плитах портала, в окружении собак, она страдала от унижения, от того, что не умела рассказать всю правду священникам и служкам, а потом страдала от стыда, когда, подняв голову, увидела неподвижные, недоуменные взгляды Ниньо Луисито и Росы Марии. С ними была их мать, сеньора Лурдес. Ее взгляд, напротив, был красноречив, мол, теперь посмотрите сами на эту старуху: я всегда говорила, что надо вышвырнуть ее из дому, как священники вышвырнули ее из храма. В этом обвиняющем и злобном взоре донья Мануэла видела угрозу, отсвет старых сплетен, напоминание о том, что сама она старалась забыть и заставить их всех забыть своей смиренностью, своей скромностью, своей повседневной услужливостью, поливая ежедневно герань и заботясь о канарейках.
Луисито быстро перевел глаза с лица матери на лицо Мануэлы, быстро, обеими руками, подтолкнул колеса своего кресла и оказался возле распростертой на камнях старухи. Наклонился и протянул ей платок.
– Возьми, Мануэла. У тебя кровь на лбу.
– Спасибо, только не надо обо мне беспокоиться. Вернись к своей маме. Видишь, как недобро она на нас смотрит.
– Ничего. Я хочу попросить у тебя прощенья.
– За что же, Ниньо?
– Когда я бываю на пустыре и смотрю, как терзают собак, я испытываю удовольствие.
– Что ты, Ниньо Луис.
– Я говорю себе: если б не они, мучили бы меня. Словно собаки встают между мной и мальчишками, страдают за меня. Разве я не самый подлый трус, Мануэла?
Кто знает, бормотала потрясенная старуха, отирая его платком кровь со лба, кто знает, и с трудом поднималась на ноги, одной рукой упираясь в пол, другой – в свою коленку, потом, скользйув ладонями по своему вздутому животу, схватилась за кресло на колесах и встала во весь рост, будто статуя, одетая в лохмотья и упавшая из самой высокой ниши храма, кто знает, может, ты сделаешь что-нибудь, чтобы собаки тебя простили?
Мне четырнадцать лет, скоро будет пятнадцать, я могу поговорить с ними, как мужчина, меня всегда будут называть «Ниньо», потому что я никогда не стану большим, буду в своем кресле делаться все меньше и меньше, пока не умру, но сейчас мне четырнадцать лет, скоро будет пятнадцать, и я могу говорить с ними, как мужчина, и они должны меня выслушать, он повторял и повторял эти слова, разглядывая тем же вечером, перед ужином, фотографии, почтовые открытки, письма, спрятанные в сундук, теперь служивший комодом, ибо все должно иметь двойное назначение в таких вот многоквартирных домах, которые прежде были дворцами, а ныне стали прибежищем обедневших семей, живущих бок о бок с бывшими слугами, как, например, их самих, бывших богачей из Орисабы, и Мануэлиты, которая была только служанкой в богатом доме, так повторял про себя Ниньо Луис, сидя на своем обычном месте за столом, служившим и для еды, и для готовки, для занятий и для ночных счетных работ отца, дававших семье возможность каждый месяц сводить концы с концами.
Он сидел среди тишины, надеясь, что кто-нибудь другой заговорит первым, напряженно глядя на мать, страшась, что первой начнет разговор она, что расскажет здесь за ужином о том, что случилось сегодня с доньей Мануэлой, и пойдет гулять сплетня, и завтра весь дом узнает, что ее выгнали в шею из собора, вместе со всеми ее собаками. Но никто разговора не начинал, ибо сеньора Лурдес умела, если желала, установить мертвящую тишину, дать понять всем присутствующим, что сейчас не до шуток, что она намерена возвестить о чем-то чрезвычайно важном.
Губы доньи Лурдес кривились в горькой улыбке, предназначенной всем: ее супругу Раулю, ее двум старшим сыновьям, мечтавшим поскорее отправиться в кино со своими подружками, Росе Марии, засыпавшей за едой; но сеньора Лурдес ждала, пока все наполнят свои тарелки отварным рисом и горохом, чтобы в сотый раз поведать все ту же историю, которую всегда вспоминала, когда ей, бывало, вздумается опять обличить злодейство доньи Мануэлы, заставившей свою собственную дочь, Лупе Лупиту, поверить в то, что она, Лупита, в детстве однажды упала и стала калекой и потому должна теперь до конца дней своих передвигаться в кресле на колесах, но это гнусная ложь, девочка была здорова, гнуснейший эгоизм и злодейство Мануэлы, чтобы девочка всегда жила с ней, чтобы не остаться одной, и вот для этого-то она была готова загубить жизнь собственной дочери.
– Спасибо тебе, Пепе, – говорила донья Лурдес своему старшему сыну, – это ты заподозрил недоброе и убедил ее встать с кресла и попытаться ходить, и всему научил ее, благодаря тебе, сын, Лупе Лупита вырвалась из когтей своей матери.
– Ради бога, мама, дело уже прошлое, не стоит и вспоминать, прошу тебя, – отвечал Пепе, краснея всякий раз, когда мать повторяла эту историю, и поглаживал черный пушок на своей верхней губе.
– Потому я и запретила Луису водить дружбу с этой Мануэлой. А сегодня, часа два назад…
– Мама… – прервал ее Луис, – мне скоро пятнадцать, мне четырнадцать лет, мама, – перебил он ее, – я могу говорить с ними, как мужчина, – и взглянул на страшно усталое лицо отца, на сонное личико Росы Марии, девочки без воспоминаний, тупые лица братьев, на невероятно чванливое, надменное и настороженное красивое лицо матери, нет, никто не унаследовал гордых, суровых, вечных черт.
– Мама, а тогда, когда я упал с лестницы…
– Это по недосмотру, никто тут не виноват…
– Я знаю, мама, я не о том. Хочу сказать – все высунулись в окна посмотреть, что случилось. Я громко кричал. Я очень испугался. Но все только глядели, даже ты. Только она одна выбежала поднять меня. Только она обняла меня, посмотрела, не поранился ли, и погладила по голове. Я видел лица всех остальных, мама. Никто не хотел помочь мне. Наоборот, мама. Тогда все хотели, чтобы я умер, да, хотели, как говорится, из сострадания: бедняжка, не будет больше мучиться, так лучше, что ему ждать от жизни? Даже ты, мама.
– Ты просто выдумщик или, хуже того, подлый лгун.
– Я очень глуп, мама. Прости меня. Ты права. Донье Мануэле я нужен, она потеряла Лупе Лупиту и хочет, чтоб я заменил ее.
– Вот именно. Ты это только сейчас понял?
– Нет. Я всегда это знал, но только сейчас нашел слова, чтобы сказать об этом. Как хорошо, когда ты нужен кому – нибудь, как хорошо, когда знаешь, что, если бы не ты, другой человек был бы совсем одинок. Как хорошо нуждаться в ком-нибудь, как Мануэла в своей дочке, как я в Мануэле, как ты в ком-то, мама, как все… Ведь и Мануэле, и ее собакам что-то нужно, ведь всем нам что-то нужно, пусть даже это неправда, хочется, например, писать письма, говорить, что живем мы неплохо, даже прекрасно, живем в Лас-Ломас, так ведь? у папы своя фабрика, братья мои – адвокаты, Роса Мария учится в монастырском интернате в Канаде, я – твоя гордость, мама, первый ученик в классе, великолепный наездник, это про меня-то, мама…
Дон Рауль усмехнулся, кивнув в подтверждение:
– Ты всегда этого желала, Лурдес, тебя хорошо знает твой сын…
Мама не сводила глаз, одновременно и надменных, и страдающих, с Ниньо Луиса, отвергая, отвергая услышанное всей силой своего молчания, а папа снова покачал головой, на сей раз с сожалением:







