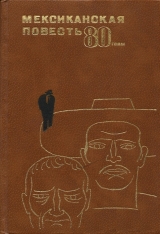
Текст книги "Мексиканская повесть, 80-е годы"
Автор книги: Хосе Эмилио Пачеко
Соавторы: Карлос Фуэнтес,Рене Авилес Фабила,Серхио Питоль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Его всегда удивляло непонятное, упорное возникновение этой плантации и во сне, и когда он пытался вспомнить отца.
На следующий день после странного сна он сидел, набрасывая заметки об этих давних каникулах, в том самом заведении, куда спускался каждое утро позавтракать и просмотреть газету, в кафе, как уже говорилось, с голыми стенами, совершенно непохожем на кафе Греко или бар при Альберго Ингильтерра, лишенном их обаяния и воспоминаний о некогда приходивших туда литераторах, той особой атмосферы сосредоточенности и элегантности, которую обычно связывают с литературой. В его кафе (он даже не помнит, как оно называлось… его уже нет, он несколько раз проходил мимо, теперь там антикварный магазин…) нечего было и видеть, разве что грязный календарь на стене и три – четыре столика на металлических ножках с оранжевыми бакелитовыми столешницами. Сидя за одним из них, он и принялся набрасывать описание этого далекого тропического поселка своих детских лет. В тот же день он смутно увидел интригу будущего рассказа.
Он вообразил рассказчика, сидящего в захудалом римском кафе и задумавшего отвоевать просторы, где проходило его детство. А писатель в свою очередь воображает себе мальчика, его семью, соседей, друзей и описывает час, когда герой впервые познал зло или, вернее, когда открыл собственную слабость, свою неспособность сопротивляться злу.
Оторвавшись от этих видений, он заполнил мелким четким почерком чуть ли не все страницы записной книжки и выпил столько кофе, что у него стянуло лицевые мышцы. Проигрыватель умолк, и официант, развязывая тесемки длинного белого фартука, объявил, что пора закрывать. Он понял, что и впрямь провел пять часов, укрывшись в этом гроте, что ливень давным-давно прекратился, что он не пошел, как ходил каждый вечер, к Раулю и что у него сложилось более или менее ясное представление о том, что он хочет написать.
В известном смысле речь пойдет об исследовании механизма памяти: о ее поворотах, ловушках, неожиданностях. Герой будет одного возраста с ним. Еще в годы его детства, после смерти деда, инженера-агронома, семья разделилась: сестра отца вышла замуж за инженера, работающего на сахарном заводе, и осталась жить при плантации. Его родители и бабушка поселились в Мехико. Каждый год они проводили рождество вместе. Он и сестренка приезжали с бабушкой гораздо раньше и проводили у тетки все каникулы. Первые его воспоминания были весьма туманны. Но в этом и заключалась задача: набросать отраженную неотчетливым детским сознанием историю, в которой рассказчик хочет быть свидетелем и вместе с тем чувствует себя участником.
Герой этой истории, сидя за столиком римского кафе, попытался прежде всего установить, хотя бы в общих чертах, забытую хронологию своих поездок на плантацию. Он почти уверен, что начал ездить туда еще до поступления в школу и, должно быть, проводил там зимние каникулы в течение шести или семи лет. Но говорить о зиме в этих местах уже само по себе нелепо: жара была неизменной причиной слезных жалоб, постоянных страданий его бабки, матери, тетки, началом и концом любого разговора; жара всегда была тут, даже во время ливня, а раскаленная копоть, изрыгаемая высокой заводской трубой, только усиливала ее.
Все путалось у него в голове: он не знал точно, в какую из поездок произошел тот или другой случай. Разговоры, события – все сливалось в каком-то едином времени, сложившемся из этих декабрьских месяцев разных лет, когда он еще был, а потом перестал быть ребенком. Наверное, потому, что уже давно он и думать забыл об этих годах, похоронил их в своей памяти, почти ненавидел их, хотя некогда эти каникулы в тропиках представлялись ему подобием рая. Он видит себя с выгоревшими, почти белыми, волосами, в рубашке с короткими рукавами и коротких штанишках, ноги все в царапинах, на коленках и локтях ссадины, а на ногах тяжелые грубые шахтерские башмаки с тупыми носками. Видит, как бегает по апельсиновым рощицам, по ухоженным садам с цветущими олеандрами, бугенвиллеями и жасмином, отделяющим один от другого дома заводских служащих.
Длинная стена окружала завод, дома и сады, а также места развлечений: гостиницу для приезжих, дамский клуб на верхнем этаже ресторана, теннисные корты, предназначенные отделять этот раскаленный оазис от остального поселка. По ту сторону стены жили рабочие, пеоны и торговцы – люди иного цвета и вида. Служанки являлись как бы одним из немногих мостиков между двумя мирами. Другим были прогулки на реку; часто компания детей и подростков отправлялась поплавать в заводях Атояка под любопытными взглядами чужаков, которые иногда подходили к ним, чтобы посоветовать, как лучше плавать и бороться с течением, или показать хорошие места для прыжков в воду. Однако не о различии между двумя этими мирами и не о их мимолетных связях будет рассказ. Действие должно развиваться только и исключительно внутри стены, хотя фигурируют в рассказе и толстяк Вальверде, и китайчата, дети служащих ресторана, к которым он относился как к тем, кто жил за стеной.
Герой полагает, что если бы он вновь посетил плантацию, то, возможно, все оказалось бы гораздо скромнее, чем представлялось его детскому взгляду. Он уверен, что и сад был не таким роскошным, каким сохранился в его памяти, и дома не так велики и не так современны, о чем говорили запомнившиеся ему тогдашние предметы комфорта – грелки и электрические колонки в ванной, например. Иностранная речь, главным образом английская, тоже придавала этому месту особый колорит, большая часть технического персонала были североамериканцы.
Он записывал, записывал все, что подбрасывала ему память, не заботясь о ценности воспоминаний, хлынувших безудержным потоком, зная, что многие случаи, как бы заурядны они ни были, лягут в основу рассказа, зародыш которого он увидел, вспомнив сон, где по неосторожности, по легкомыслию предал своего деда, открыв врагам преступный характер его деятельности.
Он набросал, например, в общих чертах происшествие на заупокойной мессе по деду, вызвавшее ссору между поселковым священником и прихожанами, которые посчитали себя обманутыми при сборе денег на покупку нового колокола; ссора эта позволила ему не ходить к мессе до конца каникул, поскольку его семья, оскорбившись, перестала посещать церковь. Записывал он и более приятные воспоминания: как кузены брали его с собой на охоту или о прогулках в соседние селения вместе со старым заводским сторожем, закоренелым пьяницей, тот давал им прохладительное питье из бутылки, закрывавшейся оправленным в железное кольцо стаканчиком, который он отвинчивал пальцами, а в питье – добавлял несколько капель рома: пусть его неутомимые питомцы почувствуют себя мужчинами. Он писал о жестоких сражениях между мальчишками с плантации, разделившимися на «союзников» и «немцев»; разгоряченные слухами о неизбежной опасности, подогретыми присутствием немецких подлодок близ Веракруса и объявлением войны странам «оси» (что означало это слово, никто толком не знал), они чувствовали себя причастными к жестокой бойне, которую каждую неделю им показывала кинохроника. Набросал некоторые характерные разговоры того времени, разглагольствования супруга своей тетки, заводского адвоката, за столом, уставленным бутылками пива: яростные и бессвязные проклятия его главному врагу – профсоюзу, потом и правительству вообще и местной школе в частности, ибо, как он говорил, ему опротивела демагогия учителей. И еще разговоры трепетавших дам, их тоска по каштанам, без которых ни один рождественский ужин невозможен, ужас перед сообщением, что чулки, и не только шелковые, изымут из продажи; донья Чаро, дородная супруга главного агронома, кричала не своим голосом, что скорее обмотает ноги бинтами, чем выйдет на улицу без чулок. Мужчины сетовали, что все труднее стало добывать покрышки, и опасались, что вскоре то же будет и с бензином. Казалось, взрослые вступили в душный мир страхов и неуверенности; дети же, возбужденные грозными предвестиями, заводили вольные, дикие игры и, пользуясь большей свободой, пускались в ночные похождения.
Все это он записывал, но время от времени возвращался назад, чтобы подправить какой-нибудь отрывок или добавить новые подробности, например к рассказу о заупокойной мессе по деду, нарушенной спорами между священником и прихожанами. Его удивляло, почему в его воспоминаниях приобрела такое значение эта религиозная церемония, оскверненная ссорой, возникшей из-за покупки колокола. Потом понял, его интересует не сам случай – слишком бурно закончившаяся месса, – а то, что на этой церемонии собрались все участники задуманной им истории: он и его сестра; китайчата, с которыми он строил города из пробок на берегах узких оросительных каналов; толстяк Вальверде, как обычно с ханжески поднятым к небу взором и молитвенно сложенными руками; соседи – инженер Гальярдо, сухощавый, с задубевшим лицом, которого у них в доме называли степным волком, его замкнутая, необщительная жена, их дети Фелипе и Хосе Луис, с годами ставшие самыми верными товарищами его игр. В углу у входа в церковь стояла – только из уважения к их семье, потому что вообще она к мессе не ходила, – Лоренса Комптон, девушка, что так изменилась после смерти своего отца.
Когда он думал о тех временах, ему казалось, будто рядом с ними всегда жили Гальярдо. Но вдруг вспомнил, что в первые два его приезда шале по соседству с домом тети Эммы пустовало. Он смутно видел темный запущенный дом и маленький неухоженный садик.
Возможно, это было плодом воображения и повлияли более поздние события – они-то и искажали воспоминания о прежних временах. У него не вызывало сомнений, что в последний год (он уже перешел в среднюю школу, и семья последний раз собралась в доме тетки на праздник рождества) никого из Гальярдо на плантации уже не было. А мрачный образ пустого шале посреди заглохшего сада, возможно, связан с первыми каникулами, когда Гальярдо еще не жили на плантации.
Они с сестрой всегда приезжали раньше, чем Гальярдо; едва кончались занятия, бабушка привозила их на плантацию, не дожидаясь родителей, те появлялись гораздо позже, как и Гальярдо, которые приезжали накануне рождества, но, не в пример его родителям, проводившим тут только праздники, оставались до конца января. Бывали годы, когда Фелипе и Хосе Луис не проводили рождество на плантации. Он припомнил памятную ночь, когда ему впервые позволили выпить вина за ужином и когда кто-то, кажется мать, выглянув на балкон и увидев освещенные окна соседнего дома, заметил, что они не очень великодушны, что надо было подумать о бедном инженере. Нехорошо, если этот человек сидит в сочельник один и пьет; что же еще может он делать в такой час? Дядя отозвался, что вряд ли стоило приглашать его, что он бы ответил какой-нибудь грубостью, ведь это самый неуживчивый человек на свете, настоящий степной волк. Это замечание, очевидно, было сделано задолго до истории, которую он собирался рассказать. В тот вечер, уже совсем поздно, к ним пришли братья Комптон, а с ними Лоренса, которая после смерти отца на короткое время очень сблизилась с его дядей и теткой.
Автор, живущий в Риме, так же как его герой, иногда ощущал себя человеком, который разрывается между различными привязанностями и потому не может чувствовать себя хорошо ни в одном близком ему окружении, и, хотя на первый взгляд он всюду плавал как рыба в воде, у него то и дело возникало ощущение, что да, что все верно, только вода эта какая-то странная, не такая, как в аквариуме или реке. Он отдавал себе отчет, что порой нить повествования ускользает от него раньше, – чем ему удается подойти к истории, которую он хотел рассказать. Он едва упомянул о Лоренсе, о степном волке, ничего не сказал ни о его жене, ни о китайчатах, а о подлом Вальверде сделал лишь несколько беглых замечаний. Чтобы объяснить растущую дружбу с братьями Гальярдо и нынешние свои раздумья о двойственном существовании между Римом и родиной, он должен был рассказать о том, как его герой незаметно подспудно все больше превращался в городского мальчика, который видел в плантации место экзотических развлечений, ничуть не похожее на то, каким представлялось оно детям, живущим там постоянно. Он вдруг обнаружил, что отличается от них, что потерял ключи от этого сообщества местных жителей, сообщества тесного, замкнутого, а порой и враждебного.
Он съел сандвич с рубленым яйцом, выпил свой cappuccino,[106]106
Кофе с молоком (итал.).
[Закрыть] попытался понять, о чем разговаривали возле проигрывателя заросшие невероятно грязными волосами бездельники с двумя тощими девицами, которые деланно смеялись, изображая изысканных особ: одна поправляла кое-как закрученные локоны, другая – не очень подходящую для этого знойного дня грубую шерстяную юбку, стараясь натянуть ее на колени, а сам при этом думал, что же отдаляло его от кузенов и других мальчишек с плантации: его городской вид, особая манера смотреть, действовать; особые жесты, приобретенные на улице Независимости или пока он катался на эскалаторах больших магазинов и на автобусах всякий раз, когда родители отправлялись в Кайокан или Сан-Педро-де-лос-Нинос; спокойная домашняя жизнь, которой не знали Альфредо, Губерт, Даниэль, а также Мирна, Джонни и Мариана; но зато они, потные, черные от солнца, могли провести целое утро в повозке с сахарным тростником, скакать верхом, ездить в фургоне из одного конца плантации в другой, разговаривать с кочегарами на какой – то почти непонятной тарабарщине; все это так, но их отделяло и другое: просторные дома, приволье, которого не знали ни он, ни братья Гальярдо, зажатые в тесных квартирах городского центра; к тому же ни в семье Гальярдо, ни в его семье не было иностранцев, столь частых в семьях на плантации. Однако он не собирался развивать эти линии в своем рассказе, понимая, что может пойти по другому руслу, чуждому намеченной теме, а кроме того, подвергнуться бесконечным назойливым допросам со стороны Билли и вызвать бессмысленные споры в тот день, когда вручит ей рукопись, если только в конце концов что-нибудь получится; поэтому он решил отбросить все тонкости и противоречия, которые привели к тому, что герой постепенно сблизился с одной группой и отошел от другой, более местной или, пожалуй, просто местной в прямом смысле слова.
Он никогда не мог бы заниматься описанием путешествий в классическом понимании этого жанра. Проходили годы, пока он усваивал расположение и координаты города; простейшие соотношения между любым зданием и соседней площадью, между каким-нибудь памятником и его собственным домом, стоящим на расстоянии нескольких кварталов, были ему недоступны. Описывать все это он совершенно не мог, он не был рожден для такой работы. Плантацию, чтобы сделать необходимый ему набросок, он воображал, как это ни смешно, в виде средневековой карты маленького городка, выросшего под сенью замка. Огромный сахарный завод при плантации и все его цехи – давильный, перегонки рома – соответствовали тяжелой громаде замка; вокруг раскинулся парк, где находились дома управляющего, техников и доверенных служащих, врача, адвоката, некоторых инженеров; различные общества, теннисный корт, отель для приезжих, ресторан, который содержали китайцы, и тому подобное; потом опять сады и дома и наконец живая изгородь, заменявшая средневековые крепостные стены. Двое ворот под постоянной охраной привратников открывали вьгход в другой мир, в мир поселка. Дома, расположенные внутри ограды, окружали дамский клуб, играющий роль общественной оси здешних мест. В важных случаях все, и взрослые и дети, роились поблизости от него. Но позади завода и всех его административных управлений находился еще один, отделенный от внешнего мира, маленький оазис – двухэтажный дом дяди и тети, с обширным садом и двумя шале по сторонам; в одном жил отец братьев Гальярдо, в другом – пожилая итальянская пара, часто посещавшая дом тетки. Дон Рафаэль или говорил об удобрениях и разновидностях сахарного тростника, или объяснял положение на европейских и азиатских фронтах, которое, казалось, знал досконально. Она же, донья Чаро, дородная добродушная женщина, говорила о каперсах. Вернее, о кухне, о соусах и маринадах, где главную роль играли каперсы. Из своей далекой молодости на Сицилии она только и запомнила что сбор каперсов, который видела из своего окна и иногда даже, по ее словам, принимала в нем участие. Ему казалось, когда он набрасывал свои заметки, что с годами добрая женщина стала путать каперсы и оливки.
Порой он чувствовал, как рассказчик подолгу утопает в общих местах, в воспоминаниях, никакого отношения не имеющих к развитию его истории и по сути не представляющих ни малейшего интереса. Кому, к черту, нужно то, что дон Рафаэль говорил об удобрениях, а донья Чаро – о чесноке, растертом с каперсами для приправы к макаронам? Или то, что его старшие кузены, которые учились уже в средней школе, в Кордове, и проводили, так же как он, каникулы на плантации, появлялись дома только к обеду, изредка к ужину, а уходили очень рано, со своими ракетками и ружьями, и делили время между теннисным кортом, охотой в поле, рекой и домом Комптонов, где они слушали пластинки, танцевали, пили ром, влюблялись в девушек этой семьи или в их подруг; это, впрочем, имело больше смысла, потому что относилось к Комптонам и тем самым к интриге рассказа. В этом доме была целая стая юных Комптонов; их отец, американец, управляющий плантацией, умер от инфаркта и оставил детей и вдову – мексиканку, с которой познакомился в Сан-Франциско; женщина эта, кажется, не говорила толком ни по-английски, ни по-испански, и ее можно было принять за немую. Он часто видел, как она, закутавшись в шаль, сидит в качалке, хрупкая, тоненькая, с огромными черными кругами под глазами, и мерно покачивается, не произнося ни слова, не задерживая ни на чем взгляд и только время от времени глубоко вздыхая. Возможно, это было слабоумие, женщина так и не вышла из детского возраста и страдала глубокой меланхолией. Она была матерью шумной гурьбы дочерей и сыновей, некоторые из них уже работали на плантации. Однажды сыновья Виктора Комптона, старшего из братьев, привели его к себе в дом, и он был совершенно ошеломлен. Ничего подобного он никогда не видел. Он вспоминал огромный зал, по которому можно было кататься на велосипеде. Повсюду стояли книжные полки, но не вдоль стен, как обычно, а посреди комнаты, где попало, мешая пройти; в самых неожиданных местах оказывались горшки с папоротником и тропическими растениями, чемоданы, стол, за которым иногда работал Губерт, и, как ему казалось, даже кровати. Кто-то слушал радио в углу этого ангара, в другом конце молодежь сбилась кучкой вокруг проигрывателя. Одни гости приходили, другие уходили.
Донья Росарио Комптон, мать семейства, как обычно, сидела в качалке, несколько газет и журналов лежали у ее ног; никогда он не видел, чтобы она их читала. Она вздыхала, покачиваясь, изредка еле слышно подзывала служанку, кого-нибудь из дочерей, из внуков, просила, чтобы послали купить сыру и минеральной воды, заказали китайцам лимонный торт, вынесли на террасу и полили цветы. Похоже было, что никто не обращает на нее внимания. Она продолжала покачиваться и тяжело вздыхать. Если ее желания исполняли, все равно нельзя было понять, довольна она или нет. Едва ли она понимала, что происходит вокруг. Не раз он слышал от Лоренсы, Эдны или других сестер Комптон, что их мать всегда была не в себе. Никогда он не видел ее вне дома, разве что в саду, где она сидела на другой качалке и жалобно вздыхала, широко открыв огромные, словно совиные глаза, еще увеличенные черными кругами, возможно подведенные тушью. Беззвучным голосом она просила садовника подстричь какой-нибудь куст, скосить траву в каком-нибудь конце сада, превратившегося в глухой лес, передвинуть плети бугенвиллей так, чтобы они вились вдоль лестницы. Даже произнося свои короткие однообразные просьбы, она едва открывала рот.
Когда он с ними познакомился, сеньор Комптон, вероятно, еще был жив, но он не помнил, как он выглядел. Лоренса недавно приехала из колледжа в Северной Америке, где провела несколько лет, и сразу стала душой всех сборищ. Ее нельзя было назвать красивой, она не была так привлекательна, как другиесестры, например напоминающая тропическую плотоядную орхидею Эдна, о которой после ее развода рассказывали всякие ужасы, или элегантная Перла. Не отличалась она и естественной прелестью юности, как другие ее сестры или невестки. Лоренса была склонна к полноте, широкое детское лицо осыпано веснушками, губы – крупные и пухлые, но ничуть не чувственные. Зато она была дружелюбна, разговорчива, заботилась об отце, братьях и даже о донье Росарио, хотя та и не могла это заметить. Ему нравилось смотреть, как она, словно вихрь, скачет верхом на лошади к воротам, ведущим в поселок. Было в ней что-то безумное, своевольное, что вызывающе противоречило жалобной неподвижности ее матери.
Как-то он навестил их в Мехико. Отец умер, и Лоренса никак не могла оправиться. Это была другая Лоренса: худая, в трауре, она беспокойно и жадно курила одну сигарету за другой.
– Кажется, я вернусь на плантацию, – сказала она, – не потому, что я нужна матери, вы знаете, она крепка как дуб. Но я убедилась, что в Мехико мне делать нечего. Не знаю, сколько я там пробуду; думаю, братьям меня не хватает. Почему бы мне не работать в управлении, хотя бы отвечать на письма или переводить их? Да, да, не делайте такого лица, в Мехико, уверяю вас, я тоже стала бы искать работу.
Пошли разговоры, что ее намерения нелепы, что она постарела от непрерывного курения, что ей не идет эта худоба. В декабре на плантации дядя и тетка рассказали, что для Комптонов эта смерть была неожиданным и страшным ударом, особенно для Лоренсы, так привязанной к отцу. К тому же и денег осталось совсем немного, раз Джонни и она работают. Лучше всего для Лоренсы, полагали они, было бы выйти замуж за кого-нибудь из приезжих холостых техников, а не то она никогда не остепенится.
Он заполнил заметками чуть не целую тетрадь. Вся история была ему ясна, и он довольно точно представлял себе ее участников. По-прежнему чувствовал утробную ненависть к толстяку Вальверде. Его возмущало, что трагедии, и большие и малые, могут разражаться из-за подобных людишек.
Настал час, когда рассказчик принялся приводить в порядок свои наброски.
Для начала рассказа у него было три варианта.
Первый: мальчик выкапывает из земли коробку для обуви и с изумлением видит, что птицы, похороненные им несколько дней назад, превратились в белесую гниющую массу и, к его ужасу, несмотря на то что он плотно завязал коробку, туда пролезли черви и набросились на дроздов, убитых на охоте его кузенами. Вдруг он почувствовал, что кто-то стоит рядом; увидел светло-коричневые туфли на толстой подошве, манжеты брюк, а подняв глаза – сердито нахмуренное лицо инженера Гальярдо, с любопытством наблюдавшего за его похоронными занятиями.
– Не пойму, откуда взялись черви. – Мальчик объяснил, как тщательно закрыл он коробку, чтобы не случилось как в прошлый раз, и вот опять они здесь. – Я тут под камнем похоронил дрозда, – добавил он, смутившись.
Инженер сказал что-то непонятное насчет разложения материи: объяснил, что, даже если коробка будет железная, без единой трещины, в любом мертвом животном заведутся черви, потому что зародыши гниения находятся в самом теле, а не проникают извне.
– Я хотел бы, чтобы кто-нибудь из моих сыновей изучал биологию, – добавил он. – У меня два сына, скоро они приедут. Проведут со мной каникулы. На этой неделе будут здесь. Вы наверняка станете друзьями. Но я хотел бы, чтоб в эти игры вы не играли.
Такова была одна из возможных завязок. Затем последовали бы приезд братьев Гальярдо с матерью, встреча и развитие дружбы. А отсюда уже пошло бы все остальное.
Другое начало можно было бы извлечь из того вечера, когда после киносеанса Лоренса и Губерт, ее младший брат, пошли к ним ужинать. Они всей семьей ходили на «Веселую вдову» и вернулись в отличном настроении. Лоренса была великолепна, она изображала повадки вдовы, напевала вальс, кружилась с братом по гостиной, танцевала на балконе, опять появлялась с пением в комнате, позабыв о трауре, снова превратившись в прошлогоднюю веселую девчонку, но сейчас это была уже не просто хорошенькая девчушка, а стройная тоненькая девушка, в этот вечер почти красивая.
Каким-то образом Лоренса вовлекла всех в разговор о соседях – инженере и его семье. Отец вспомнил о вчерашнем неприятном эпизоде с женой инженера. Они с сестрой были в это время у братьев Гальярдо, листали книжки, которые инженер купил на днях в Кордове, и внимательно разглядывали картинки в томах Жюля Верна. Они могли слышать каждое слово. Он заметил, как Гальярдо краснели от стыда, отводили глаза и погружались в книги, чтобы не встретиться взглядом с ним или его сестрой, пока жена инженера, отвечая отцу, рассказывавшему о фильме, который они собирались смотреть на следующий день, и бросая одну за другой карты на стол, внимательно смотрела, как они ложатся.
– Мы редко ходим в кино, а такие фильмы никогда не смотрим. – Она собрала карты в колоду и стала ее тасовать; потом, раскладывая карты и не отрывая глаз от стола, продолжала: – Мне говорили, обстановка в кино не такая уж приятная, там бог знает что делается.
– Нет, нет, не верьте, – возразил отец уже немного раздраженно, очевидно жалея, что затеял этот разговор. – Рубен Ланда, брат директора складов, организует сеансы и всегда оставляет нам три или четыре скамьи. Никто из нашего круга не сидит вместе с рабочими.
– Знаю, знаю; именно об этих рядах я и говорю; там – то, как я понимаю, и делается бог знает что… Тройка пик! – Она сдвинула карты в сторону, чтобы освободить место для тройки пик. – Есть люди, с которыми я бы в Мехико не встречалась; не вижу, почему я должна это делать здесь.
И, словно забыв о своем собеседнике, она вдруг умолкла и погрузилась в игру.
Отец не пересказал этот разговор. Только заметил, что редко случалось ему видеть столь неприятную и нелепую особу; нетрудно понять, почему У инженера такой тяжелый характер. Уж конечно неспроста. Лоренса снова принялась танцевать, как будто и не слышала разговора, который сама затеяла. Казалось, вальс из «Веселой вдовы» не давал ей покоя, отзывался во всем теле, будоражил ее…
Третий вариант начала заключался в том, что мальчик, сам не зная почему, постепенно отдаляется от своих кузенов и былых товарищей по играм. Подружившись с братьями Гальярдо, они образуют своего рода союз, возникший не только потому, что они соседи и дома их оказались в стороне от других, но также и потому, что всех их, нездешних, объединяла городская речь и общие интересы; а может быть, и досада, которой он раньше не замечал, на то, что местные жители вели себя как хозяева жизни; его раздражало в них, например, полное равнодушие ко всему, что происходило вне их владений. Разрыв постепенно углублялся, и не потому, что обмен книгами Жюля Верна и Джека Лондона или воспоминания о только им известных уголках Мехико внушали им чувство культурного превосходства. Речь шла о намеренном и полном размежевании.
Играя, они отводили маленькие каналы от водоема, устроенного для орошения сада, и по берегам строили города из пробок, которыми их снабжали китайчата или толстяк Вальверде; потом они разделяли эти города между странами «оси» и союзниками и бомбили их по очереди из какого-нибудь укрепленного пункта с такой яростно против «оси» и таким явным расположением и пристрастием к союзникам, что те после бомбардировок неизменно оставались целы и невредимы. Нужда в пробках заставляла их принимать в игру детей китайцев, служивших в отеле, и Висенте Вальверде, который совершенно, опротивел им своей тупой улыбкой и непрерывной дурацкой болтовней. Он, словно боясь молчания, все время старался заполнить паузы бесконечными и подчас бессвязными россказнями. Совершенно немыслимо было, чтобы Вальверде и китайчата играли в теннис, бильярд, бейсбол с местными ребятами или переступили когда-нибудь порог их дома; однако же казалось естественным, что он, его сестра и братья Гальярдо – временные гости на плантации – принимают китайчат в свои игры.
В какой-то год Гальярдо не приехали. Тогда-то и хотели в его доме пригласить инженера на рождественский ужин, а дядя заметил, что не стоит это делать, что инженер – степной волк и бывает доволен, только когда остается один.
Как-то воду для орошения перекрыли, несколько дней они не могли проводить свои каналы и занялись исследованием ранее неизвестной им территории; ближе к вечеру они отправлялись, всегда вместе с китайчатами и злосчастным толстяком, к лощине, расположенной далеко от домов и общественного центра плантации, рядом с административными зданиями; там иногда паслись лошади управляющего, конечно под защитой стены, отделявшей их от поселка. После того как закрывались все конторы, в этих местах не видно было ни души. Они спускались в овраг, где протекал ручей, в поисках диких помидоров. В такие минуты он воображал, будто совершает подвиги, достойные детей капитана Гранта или маленьких пиратов Галифакса, и завидовал вольной жизни других мальчишек плантации.
Иногда, пробравшись сюда, они видели, как выходит из своей конторы Лоренса. Видели, как она прощается с сослуживцами и идет по дороге к ромовому заводу. Через несколько часов, когда они вылезали из оврага, она, уже вернувшись обратно, сидела на камне с палочкой в руке, ударяла ею по траве, пытаясь подбросить осколок булыжника, или писала что-то на земле (возможно, он видел ее такой всего один или два раза, но именно этот образ запечатлелся в его памяти). Лицо ее не было счастливым, скорее озабоченным, отрешенным, а инженер Гальярдо большими шагами ходил вокруг нее и говорил тихим голосом, тоже озабоченный, отрешенный и печальный; казалось, ни он, ни она не замечали ребят, вылезших из оврага. Он бы не подумал о необычном характере этих встреч, не будь с ними толстяка Вальверде, который всякий раз не скупился на непристойные шуточки.
Наконец приехали братья Гальярдо. Больше они к ручью не ходили. Теперь они играли в апельсиновой рощице рядом с теннисным кортом, куда садовники отвели оросительные каналы. К этому времени уже определились два лагеря. В одном местные завзятые спортсмены под водительством Виктора Комптона младшего, племянника Лоренсы; в другом – те, кто играл в «пробочные города». И местные проявляли к ним все большую враждебность. Презирали они горожан за то, что те взяли в товарищи ребят, которых они – то не считали себе ровней, или же в глазах местных их принижало то, что они придумывали игры более спокойные и менее опасные? Правду сказать, в их возрасте эти младенческие забавы были смешны. В самом деле, уже прошло несколько лет, как они подружились с братьями Гальярдо, и сам он уже учился в средней школе.







