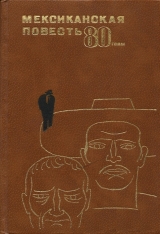
Текст книги "Мексиканская повесть, 80-е годы"
Автор книги: Хосе Эмилио Пачеко
Соавторы: Карлос Фуэнтес,Рене Авилес Фабила,Серхио Питоль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
– Это ты так думаешь, я-то знаю его лучше. Так или иначе, мы можем как-нибудь вместе поужинать…
Вернулся Олива, закончив свое выступление, из которого они уловили лишь несколько слов. Свет погас. Олива объявил:
– Пошли! Больше тут делать нечего!
А затем, в кафе «Вена», он решил выяснить отношения между ними всеми. Чтобы не возникло сложностей с другом, лучше будет, если Эльза прямо скажет, что никакие чувства ее с Оливой не связывают. Он отпустил несколько шуточек, и она была вынуждена вновь повторить, что костариканец Рубен – ее возлюбленный, а Олива лишь платонический воздыхатель, который только надеется на нечто большее. С детской улыбкой и счастливым, иногда растерянным, иногда твердым, выражением глаз девица пустилась в веселые непристойности, которые порой пугали. Олива помрачнел, попытался завести разговор об Эйзенштейне, о развитии, а потом угасании идей авангарда в Советском Союзе, чтобы сбить Эльзу с темы, но ни он, ни «на этого Оливе не позволили, решив продолжать интимные признания.
На следующий день он принимал ее у себя; они вместе позавтракали, потом ходили по картинным галереям, вернулись к нему и занимались любовью до десяти вечера, после чего он проводил ее до угла и посадил в автобус, который отвез ее в Койоакан. Начались отношения, продолжавшиеся без всяких помех несколько месяцев, по правде говоря – чересчур уж спокойные, пока в один прекрасный день он снова не почувствовал боль за ухом. На том же месте, где недавно была сделана операция, опять началось воспаление. Помрачнев, он некоторое время выжидал, не пройдет ли, однако напрасно: опухоль начала принимать ту же форму, что и раньше, только развивалась быстрее и была более болезненной. Эльза собиралась поехать с матерью и дядюшками в Акапулько; они уговорились, что он тоже приедет и остановится в том же отеле; перед родными они сделают вид, будто незнакомы, а ночи будут проводить вместе. Он подумал, что надо бы показаться врачу перед отъездом, боль по временам становилась невыносимой.
– Увидишь, все это пустяки, – говорила девушка совершенно безмятежно. – У всех иногда появляются затвердения, то на шее, то в паху, то еще где-нибудь. У моего отца выскочило такое под мышкой, когда мы были в Италии, и ужасно его мучило. А лечение было очень простое: примочки горячей водой с солью. Тебе нужно солнце Акапулько и морская вода. Вернешься рожденным заново.
Он все же пошел к врачу, пока Эльза получала летнее платье у своей портнихи. Встретились вечером в ресторане Чапультепека.
В клинике он обратился к тому же врачу, который оперировал его несколько месяцев назад. Тот забеспокоился, обследовав опухоль. На его вопросы отвечал, что новая вспышка совершенно непонятна. Необходимо сделать биопсию, прежде чем резать, и, если говорить правду, следует приготовиться к худшему. Он не очень понял, что еще сказал доктор на своем заумном медицинском языке. Да это и не так важно, ему достаточно знать, что есть подозрение на рак, хотя наружная опухоль, возможно, и не так опасна, гораздо опаснее близость лимфатических желез. Лицо хирурга под маской озабоченности, когда он говорил о необходимости немедленного вмешательства, было печальным, сосредоточенным. Конечно, поездка в Акапулько – безрассудство; ничего нет вреднее морских купаний. Если он согласен, ему сделают операцию, как только будут получены результаты биопсии. Разве что вмешательство не потребуется.
Он шел в ресторан, обуреваемый разноречивыми чувствами. Темный страх накатывал на него, отступая лишь при мысли, что болезнь окружит его ореолом исключительности в глазах возлюбленной. Он повторил Эльзе весь разговор с врачом; скрыл свое волнение под шуточками, будто рак передается при любовных объятиях. Она сразу решила отказаться от путешествия. Она может притвориться больной и подождать, по крайней мере пока не будет сделана операция. Он воспротивился. К чему эти мрачные игры? При первой возможности они вдвоем поедут в Акапулько, без матери, без дядюшек. К его удивлению, Эльза не настаивала, постаралась, не очень удачно, не обнаружить чувства облегчения, потом вытащила из сумки образцы тканей и разложила их на столе; рассказала ему о своем купальном костюме, о туалетах, которые ей шьют, нарисовала их на салфетке. Вероятно, он нуждался в поддержке: его вдруг испугала смерть. Ничего такого он не чувствовал, когда был у врача, а вот теперь, увидев, как Эльза с удовольствием уплетает огромный кусок финикового торта, почувствовал. Она болтала какие-то пошлости, словно не понимая, что они, может быть, последний раз вместе, что смерть как бы затаилась у него внутри – и неизвестно, будет ли он жив, когда она вернется с купаний. Он пришел в ярость. Сказал, что в таком платье она будет самой привлекательной девушкой в Акапулько, что он предсказывает ей сногсшибательный успех, что все американские туристы сойдут От нее с ума.
– Ты думаешь? – спросила она доверчиво.
– Да, все захотят переспать с тобой, и ты захочешь переспать с кем-нибудь из них.
Это было начало конца. Эльза призналась, что не исключено, что она, возможно, и заведет роман с каким-нибудь туристом. И в весьма резком споре, может быть единственном за время их связи, выяснилось, что она не только была готова переспать с кем попало, но в течение тех месяцев, когда они были любовниками, несколько раз встречалась в отеле с Рубеном Феррейрой, студентом из Коста-Рики, а одну ночь провела со своим кузеном.
Когда он сказал, что и вообразить не мог, какая она шлюха, что для него все эти месяцы не существовало никого, кроме нее, Эльза ответила как ни в чем не бывало:
– Никто от тебя этого не требовал, да и тут совсем другое, неужели не понимаешь? У тебя было полно любовниц, ты ходил к шлюхам сколько хотел. А у меня нет такого опыта; мне необходимо победить свой невыносимый физиологический комплекс. Много лет я думала, что не могу никому понравиться.
Он не помнит, какие слова были сказаны на прощание. Когда они опять встретились, все уже было позади. Операцию ему сделали, биопсия, по словам врача, не показала ничего внушающего тревогу. Кажется, встречу устроил Мигель Олива, хотя он не был в этом уверен; она подробно расспросила его о здоровье. И показалась ему необыкновенно красивой, вся в белом, с еще золотистыми от загара лицом и руками. Рассказала, что в Акапулько было очень весело; упомянула как бы вскользь о приключении с одним канадцем; ничего особенного, добавила она. Все держались достойно. В эти дни он узнал, что Олива наконец добился своего и переспал с ней, хотя она, казалось, целиком была поглощена занятиями в своей школе. Иногда она неожиданно появлялась у них на работе, и они вместе завтракали или ужинали. (Еще до недавнего времени он хранил пластинки, которые она ему тогда подарила.) Мать купила Эльзе автомобиль, и та почувствовала большую уверенность, ощутив свободу передвижения; с удовольствием вспоминал он веселую поездку в Чапинго и другую, не такую интересную, в Тепоцтлан; кончались эти поездки всегда в постели. Однажды, к собственному изумлению, он открыл, что до безумия влюблен в эту тварь, и сказал ей об этом, но Эльза предпочитала свободу, чтобы серьезно учиться и все время отдавать живописи. Для этого она потребовала устроить ей мастерскую дома. Опыт в любовных делах, который много недель представлялся ей столь важным, теперь утратил для нее всякий смысл. Немногое свободное время, что оставалось от занятий в художественной школе и мастерской, она посвящала чтению: изучала «Эстетику» Гегеля с учителем-испанцем. Она хотела стать личностью. А он не уважал ее, не принимал всерьез. Вот, например, может он объяснить, почему он рассмеялся, услышав от нее о Гегеле? Он умел ценить в ней только тело и в этом смысле ничуть не лучше Рубена Феррейры. Но такое отношение к женщине что может дать ему самому, спрашивала она. И как давно он ничего не пишет? Она слышала, что две книжечки его рассказов совсем недурны; ей самой они показались интересными, но ему уже около тридцати, не может же он ими довольствоваться! И пребывать в ожидании вдохновения, как в ожидании Годо.[103]103
Речь идет о пьесе «В ожидании Годо» (1953) – писателя Сэмюэля Беккета, по происхождению ирландца (писал на английском и французском языках), здесь имеется в виду безнадежное ожидание.
[Закрыть] Понимает ли он, почему она никогда не сможет жить с ним? Именно поэтому. И почему он смеется, если она ссылается на Годо? – крикнула она с яростью. Не вернется она к нему, это она знает твердо; никто ей не нужен…
После этого разговора все ему показалось лишенным смысла. Однажды он сел в автобус. Как у большинства его знакомых, машины в то время у него не было. Вдруг он подумал, что до самого этого часа все люди были для него как бы покрыты целлофановой пленкой, которая отчуждала их, защищала и делала неизмеримо красивей, теперь же, в автобусе, когда он рассматривал пассажиров, создавалось впечатление, будто пленку эту внезапно сорвали. Он увидел лица, жесты, ухватки, говорившие об уродстве не только физическом, но и духовном. Все было не таким, каким он до сих пор видел. Он существует, всегда существовал в свинском мире. За белоснежным фасадом рыли землю боровы. Действительность проявляла решительную враждебность его воле. На первом попавшемся углу он вышел из автобуса, не в силах терпеть это зрелище. Дошел пешком до своего жилья на улице Сена и несколько дней провел в постели.
У него был жар. Он стал подозревать, что не оправился после операции, ощущая по множеству признаков, как болезнь развивается и пожирает его организм. Работа опротивела ему, начались неприятности из-за допущенных им промахов. Друзья раздражали его; по вечерам он, как отшельник, запирался у себя дома и не отходил от зеркала, изучая свою грудь, шею, пах, подмышки. Он попросил на работе отпуск по состоянию здоровья и несколько дней провел в Халапе. Все труднее было ладить с отцом; узость отцовских взглядов, отцовская тупость бесили его. Разговаривать с отцом стало невозможно. Недавняя революция на Кубе совсем свела его с ума; забастовка докеров в Темпико, демонстрация учителей в Нижней Калифорнии, протест против повышения цен на маис – все казалось отцу зародышами бунта; он боялся экспроприации своих ферм, прибылей от кофе и домов; старый друг, кубинец, бывший когда – то его компаньоном по ликерному заводу, писал отцу из своего убежища в Тегусигальпе ужасающие письма. Несколько лет назад он еще говорил с отцом о старых фильмах, об актрисах далекого прошлого, и это всегда приводило старика в хорошее настроение, но теперь потерял охоту. Ему больше нравилось дразнить его, видеть, как он глупеет от злобы и страха. К тому же с некоторых пор кино для отца как будто утратило свою притягательную силу. Он позабыл имена, которые так долго были окружены для него магическим ореолом. Единственной оставшейся ему страстью была забота о своих доходах. Однажды во время спора он заявил отцу, что хочет посетить Кубу. Он знает, что скоро умрет, и, прежде чем это случится, хотел бы поближе посмотреть, что происходит в мире. Он уволится с работы и проведет несколько недель в Гаване, своими глазами увидит, что это за революция, которая нагнала столько страху. Только упоминание о близкой смерти избавило его от, бури возмущения. И он понял, что родители сами убеждены, будто он безнадежно болен раком, что опухоль околоушной железы повторится и на этот раз операция будет ни к чему.
Он вернулся в Мехико и, обдумывая предстоящее путешествие, решил расширить его. Почему бы ему не повидать Европу? Скупость отца до сих пор не позволяла этого. Он объездит континент, пока будет в состоянии двигаться (возможно, им овладело желание побывать там, где жила Эльза, самому увидеть фрески Беноццо Гоццоли и Луки Синьорелли). Почти не понимая, что делает, он изъял свои вклады, опустошил квартиру, продал мебель и картины. И так верил, будто отправляется в последний путь, что спустил свою библиотеку по смехотворно низкой цене. Вернется он только умирать. Трех-четырех книг будет более чем достаточно. Он купил место на «Марбурге», немецком грузовом судне, которое принимало и пассажиров; оно доставит его в Бремен. Все дела он устроил с поспешностью приговоренного к смерти. В конце концов стало ясно, что не видать ему ни Гаваны, ни Камагуэя, ни Сантьяго, ни революционного восторга, в чем и признался он себе с легкой грустью, но ведь можно посетить какую-нибудь из социалистических столиц; он знал, что стоило посмотреть Будапешт или Прагу.
Болезнь, близость смерти, несомненно, также разрыв с Эльзой и неспособность снова завоевать ее (хотя в этом он не хотел признаваться) привели к тому, что он взглянул на свою страну, свою работу, занятия литературой, свое прошлое с невыразимым разочарованием. Не сделано ничего, чем можно было бы гордиться. Его работа в министерстве, совершенно бесполезная, была просто одним из способов грабить казну. Его литературная продукция составляла две малюсенькие книжечки рассказов, о которых он стеснялся даже упоминать. Начинал он писать с увлечением, со страстью; однако теперь ясно видел, что результаты ничтожны; ему не удалось достигнуть того, к чему он стремился, и он почти утратил желание повторять свои попытки. Особенно угнетало его ежедневное общение с глубоко развращенной средой. В этом смысле пример Гильермо Линареса – историка, перед которым он преклонялся несколько лет назад, молодого учителя, с которым в университетские годы чувствовал себя связанным общностью интересов, – показал ему скудость всех его тщеславных притязаний. Он словно увидел себя в кривом зеркале. Он перестал уважать Линареса, как многих, как многое, после второго своего пребывания в больнице; теперь он убедился, что друга его ничуть не интересовали идеи, двигало им только стремление устроиться. Линарес, повторял он с презрением, наиболее очевидный пример растления интеллигенции, порожденного личным честолюбием. И для него самого все могло превратиться в разменную монету. Он больше не думал ни о создании значительного очерка, ни даже о литературном авторитете, а только о статейках, непосредственно воздействующих на публику и способных тотчас принести ему успех. Каждая его похвала или хула должна была вызывать немедленный эффект. Его обуял страх превратиться в Линареса. Пав духом, он вообще перестал писать, ожидал Годо, как не раз упрекала его Эльза, хотя, возможно, дело было даже не в этом, а в обыкновенной лени или, если уж говорить начистоту, в отсутствии таланта.
Дни, проведенные в больнице и сразу же после выхода из нее, были для него днями некоего очищения, подлинной утраты иллюзий. И пока он ожидал выписки – в этот раз он не мог отправиться на следующий день домой, а должен был ждать больше недели, пока зарубцуется рана, в санаторной палате, где его ежедневно навещал врач, чей печальный взгляд и продуманное немногословие ясно говорили, что болезнь неизлечима, а неизбежная третья операция будет последней, – в свободные минуты между чтением Диккенса или Гальдоса, за которых он хватался как за единственную надежду, все окружающее представлялось ему столь же постыдным, а его жизнь к двадцати семи годам столь же даром растраченной, загубленной, пустой и лживой, сколь пусто и лживо было пышное красноречие, удушающее всю нацию.
Иногда ему приходило на ум – правда, об этом он подумал, уже находясь посреди Антлантики, – что каждый человек, сбившись с дороги, потерпев крушение, пытается вообразить вокруг себя пустоту: умалить собственную вину, отыскивая в окружающей действительности объяснение и причины всех своих крушений.
Морское путешествие продолжалось немногим более месяца. Высадившись в Бремене, он отправился через Ла-Манш в Лондон, так тесно связанный с его литературным чтением.
Далее последовало неизбежное увлечение Парижем, от которого он освободился, сбежав как можно скорее, и, наконец, немного ошалев и умирая от усталостй, попал в Рим, где устроился в скромной квартире на Виа Виттория. Здесь он предполагал прожить несколько недель.
Он спрашивал себя, были ли у него действительные основания ожидать с такой уверенностью наступления близкой смерти. Насколько он помнил, все врачи, к которым он обращался, решительно отвергали злокачественный характер опухоли. Неужели он доверился только врачу клиники, уклончиво намекавшему на возможность рака? И новая опухоль возникла через полгода на том же самом месте, где была вырезана первая, по чистой случайности? Или в результате нервного потрясения? И не была ли постоянная близость смерти связана с желанием уничтожить мир и вместе с ним ненавистные воспоминания, например о том, что Эльза разлюбила его, что она когда захочет может лечь в постель со студентом из Коста-Рики, с Мигелем Оливой, да вообще с первым встречным? Иной раз, сидя вечером на террасах Пинчо и созерцая город, он повторял с высокопарной печалью, что проводит здесь время в ожидании надвигающегося конца, но, как ни странно, несмотря на романтический характер подобных мыслей, это ожидание сочеталось с невероятным жизнелюбием. Он словно испугался, что ему не хватит времени узнать все, что он хотел узнать, увидеть, прочесть и даже написать. Начал он еще на грузовом судне и с удивлением наблюдал процесс создания нового рассказа, первого за долгое время. Потом, уже в Италии, он совершил молниеносные поездки, слишком утомительные из-за неудачно составленного плана, во Флоренцию, в Неаполь, Орвието и Триест; посещал библиотеки, где читал главным образом старые хроники о Риме эпохи Ренессанса; писал в парках и кафе. К вечеру приходил на Пьяцца-дель-Пополо, усаживался за столик, с любопытством разглядывал себя в зеркалах, чтобы убедиться в собственном существовании, поглаживая при этом шею, радуясь и удивляясь, что прожил еще один день без видимых признаков конца. Настал час, когда колебания между предчувствием гибели и верой в победу жизни кончились. Но для этого понадобилось совершенно неожиданное событие, происшедшее в Халапе.
Пока он посещал музеи, кино, театры, митинги – бурные итальянские политические споры представлялись ему настоящим праздником, – обходил обязательные художественные и исторические памятники, без определенной цели блуждал по улицам – иногда лишь ради удовольствия прочесть на памятной доске, кто жил или умер в этом доме, что в конце прошлого века здесь писал Томас Манн своих знаменитых «Будденброков», останавливались Гёте или Гоголь, – начало исчезать чувство, будто его жизнь сводится к пустой трате времени, хотя бы и самой приятной, в ожидании новой вспышки болезни. Пополнять свои знания, чтобы умереть! В рассказах о временах чумы, холеры, мора часто описываются сборища, устроенные, чтобы исчерпать все наслаждения перед неизбежным концом. Подобные оргии в преддверии смерти не привлекали его; случайные любовные встречи в эти первые месяцы с англичанками, скандинавками или немками – с которыми он знакомился в местах художественного паломничества, поскольку их жилища были для него недоступны, – вызывались только тем, что сам он именовал здоровой потребностью. В иной день он испытывал внезапный упадок духа: малейшая боль в горле, мигрень или бронхит – и он надолго сваливался в постель, поднимаясь лишь затем, чтобы проглотить какую – нибудь еду или сварить еще одну из своих бесчисленных чашек кофе.
Он разыскал Эухению и стал встречаться с некоторыми из живущих в Риме латиноамериканцами; через них познакомился с итальянцами и иностранцами, которые так или иначе интересовались тем же, чем и он. Не раз – до того как Билли и Рауль вернулись из Венеции, где проводили лето, – он убеждался, что не много у него было дней столь же приятных, как дни, пролетевшие в Италии, что измены его юной Крессиды[104]104
Персонаж пьесы Шекспира «Троил и Крессида» (1609).
[Закрыть] словно затерялись в начале времен и тоска растаяла, что пишет он с наслаждением, возродившимся во время путешествия по морю, и не только не рассеялся в своих поездках по Италии, а, напротив, вошел в колею, собрался, стал работать почти каждое утро и, закончив рассказ, начатый на «Марбурге», принялся набрасывать другой, навеянный воспоминаниями о каникулах, проведенных в детские годы на сахарной плантации близ Кордовы. Его позднее опубликовал «Орион».
Рождение этого рассказа связано с событием, которое когда-то потрясло его, и с поразительными проявлениями механизма человеческой памяти.
Получив телеграмму, извещающую о крайне тяжелом состоянии отца, он вызвал по телефону Халапу; дрожащим голосом тетя Каролина сообщила, что произошло худшее, мать удручена, убита горем. Он настоял, чтобы ее позвали к телефону. По-видимому, она сохраняла присутствие духа лучше, чем тетка; сдержанно и твердо она объяснила, что не подозревала об инфаркте, поразившем утром отца. Казалось, будто опасность миновала; врач полагал, что это лишь легкий приступ. Однако после полудня инфаркт повторился. Отец умер, сам того не сознавая, мгновенно, не успев исповедаться. Они уже послали вторую телеграмму.
Когда он прощался с родителями, ему и в голову не приходила подобная развязка. Последний раз они обедали в довольно мрачном настроении; отец не видел необходимости в этой поездке; он вообще смутно себе представлял, чем, собственно, занимался его сын все последние годы. Но мог понять, что сыну надоела столица. Еще бы! Лучше всего бы ему переехать в Халапу; он подыскал бы ему хорошее место в университете, в туристическом ведомстве, в каком-нибудь правительственном учреждении, с жалованьем побольше, чем на той работе, что он оставил в Мехико. Вместо этого нелепого путешествия он бы лучше постарался сделать карьеру на родине. Пусть отдохнет немножко, если того требует здоровье! Проведет несколько дней на ранчо в Теосило; что может быть лучше? А потом пусть предоставит все отцу. Он может в любое время поговорить с губернатором.
Всякий раз, упрекая его в нежелании работать в Халапе, отец разражался несправедливыми обвинениями и в конце концов впадал в старческую ярость. Не умеет он организовать свою жизнь! В его возрасте он уже был женат и растил детей. Все эти писания просто причуда, хуже того – глупость. Он читал его вещи, и ему ни одна не понравилась, и друзьям его тоже; никто не нашел в них и проблеска дарования; все как-то невнятно. Этим путем он ничего не добьется. Он упустил юридическую карьеру, соглашаясь на ничтожные должности. Ему все только бы и водиться с богемой. Чтобы не вступать в спор, он перевел разговор на серьезность своей болезни и на то, как мало он знает мир. Он хотел осуществить путешествие, пока силы еще позволяют, пока еще не слишком поздно.
Отец долго смотрел на него молча, словно взвешивая слова сына, словно примеряя их к тому, как он выглядит, и в конце концов сказал дрогнувшим голосом:
– Не надо так беспокоиться. Думать о болезнях – значит навлекать их на себя. Многие из моих друзей умерли оттого, что только одно и знали: сердце, артерии, печень… Что ж, может быть, ты и прав, морское путешествие пойдет тебе на пользу.
И вот он держит в руке телефонную трубку и слышит голос матери; без слез и рыданий, только с бесконечной усталостью она говорит, что отец не страдал, что все было делом нескольких секунд, что ему уже послали вторую телеграмму – он получит ее с минуты на минуту – и как жаль, что он не сообщал номера своего телефона (без упрека не обошлось!) и они не могли с ним связаться. Уже приехала его сестра Мария-Элена с мужем. Они подумали, что он, единственный сын, захочет присутствовать на похоронах. Похороны отложили на два дня. Он ответил неопределенными фразами, которые всегда кажутся нелепыми, даже тому, кто их произносит: надо смириться перед судьбой, необходимо отдохнуть, пусть примет снотворное и поспит. С ужасом подумал о том, что не поедет в Мексику, что оставляет мать в такое время одну и никуда не двинется из Рима – ведь он сам болен и ждет смерти; он дотронулся до шеи и ощутил боль в железках, которая в эту минуту была для него чуть ли не бальзамом. Да у него и денег нет на поездку; одна старинная приятельница по работе высылала ему каждый месяц определенную сумму из тех средств, что он собрал перед отъездом из Мексики. Ему понадобились бы пять месячных получек, не считая денег на билет. Если даже ему пошлют все телеграфом, он почти наверняка попадет в Халапу после похорон. Он знал, что и в том случае, если Рауль или Тереса одолжат ему нужную сумму и деньги будут в кармане, он все равно никуда не поедет. Его не вытащат из Италии раньше чем через пять месяцев, как он и наметил заранее. Он снова позвонил попозже, попросил позвать к телефону сестру, начал что-то путано объяснять насчет регистрации паспорта, которая возможна только через несколько дней, как сообщил ему сейчас один друг из посольства; его документы отправлены в консульство, в Милан, для оформления. Пусть они не ждут его, пусть скажет об этом матери, пусть заботится о ней; не дожидаясь ответа, он повесил трубку и тут же, на почте, сел писать письмо, отнявшее немало времени. Уже совсем поздно возвращаясь домой, он зашел в бар неподалеку от Пьяцца Колонна, чтобы вырваться из нравственной апатии, из паралича чувств, в котором находился все это время.
Он просидел в баре до самого закрытия. Естественнее было бы обратиться к Раулю, однако он этого не сделал. Он предпочитал разговаривать этой ночью с кем-нибудь, кого он едва знал, или даже с совсем незнакомыми, чтоб рассказать, что означали для него родители, дом, особенно детство, потому что каждую минуту уверенность в смерти отца подкреплялась двумя повторяющимися в воображении картинами, которые возвращали его к детским и отроческим годам.
Однажды он рылся в шкафу, разыскивая старые номера журнала «Леоплан». Ему было лет десять-одиннадцать, и эти груды пожелтевших журналов оказались источником его первого недетского чтения: рассказы Сомерсета Моэма, «Конец Нормы» Аларкона, «Сафо» Альфонса Доде; последний роман так его потряс, что он решил как-нибудь перечесть его и сравнить свое теперешнее впечатление с туманными образами, сохранившимися с детских лет. Его отец собирал журналы. Больше всего ему нравились развлекательные кинематографические «Сине Мундиаль» и «Синеландия». Он знал, что тому, кто тронет сокровища этой примитивной библиотеки, пощады не будет, поэтому старался вытаскивать «Леопланы», когда отца не было дома. Но однажды тот появился неожиданно и застал его с журналами в руках. Он заговорил раньше, чем отец успел раскрыть рот. Показав на фото в каком-то кинематографическом журнале, он спросил, видел ли отец фильм «Сад Аладдина». Отец взял журнал, неторопливо снял очки, рассмотрел фото и заявил, что это не Марлен Дитрих, а Мэри Астор, скорее всего в «Пленнике Зенды». Он снова спросил, бегло взглянув на заголовок статьи, кого предпочитает отец, Джоан Блондель или Кей Френсис. Отец ответил, на этот раз сурово и отчужденно, что только варвар может сравнивать Блондель, типично американскую девицу, с Френсис, чье изящество, равно как изящество Констанс Беннет, было совершенно европейским; это так же нелепо, как сравнивать пиво из Орисавы с хорошим французским вином. Затем отец пустился рассуждать в полном самозабвении и, как ему показалось, бесконечно долго о фильмах и актерах, чьи фотографии появлялись в этих журналах, о грации Жанетты Макдональд в «Светлячке», об удачном соединении Греты Гарбо, Джоан Кроуфорд и братьев Барримоур в «Большом отеле». Все обошлось, он ускользнул к себе в комнату и, растянувшись на кровати, приступил к чтению романов из «Леоплана». А отец нетерпеливо требовал кинопрограмму, чтобы решить, на какой фильм идти сегодня вечером.
Он старался вспомнить более значительные события, заставлял себя восстанавливать их, но упорная память возвращалась к этому шкафу, поискам старых журналов и выслушиванию бесконечных монологов о великолепии «Шествия любви» или «Королевы Кристины». Другая картина, преследующая его как наваждение, воскрешала пору летних каникул, которые он проводил на плантации в жарком поясе, где, казалось, пылал самый воздух. Он видел, как каждое утро закапывает и откапывает птиц, на которых охотились накануне его кузены, черных дроздов с блестящими перьями в сгустках запекшейся крови; он хоронил их в коробках из-под обуви или завернув в газету. Но тогда он был гораздо младше, ему исполнилось лет пять-шесть, а то и меньше. Он устроил птичье кладбище в дальнем углу сада, позади огромного камня, скрывавшего его от дома. В то утро, после погребальной церемонии над новой партией дроздов, он выкопал нескольких из тех, что похоронил раньше, и, к великому изумлению, увидел, что они покрыты плотными белесыми пятнами червей, и почувствовал омерзительное зловоние. Он понять не мог, как пролезли туда черви, ведь он так хорошо завернул птиц и уложил в коробки, обвязав веревочкой, или засунул в хорошо закрытые бумажные пакеты. Откуда они там появились? Как проникли сквозь картон? Он был поглощен этой загадкой, когда заметил рядом с собой две длинные ноги; узнав башмаки, он поднял глаза и увидел недоумевающее лицо ‘отца, пораженного этими утренними занятиями. Он вспыхнул от стыда, сообразив, что и его кладбище, и его обязанности могильщика больше не представляют тайны; но ему только и пришло в голову спросить, почему произошло такое с птицами. Отец помог ему встать, повел к крану, чтобы он вымыл руки, строго запретил продолжать эти игры, потому что от червей можно подхватить какую-нибудь заразу. Они отправились гулять, и отец долго рассказывал о разложении органической материи, о гниении мяса, но несколько рассеянно и как будто не придавая особого значения тому, что говорил. Они подошли к кинотеатру поселка; и тут лицо отца просияло улыбкой. Он сказал, что сегодня вечером показывают настоящую жемчужину; просто невероятно, что объявлен фильм, еще не шедший в Халапе; он возьмет сына с собой на сеанс, если тот пообещает бросить свои погребальные игры; он увидит «Китайское море», ни больше ни меньше, и отец с видом знатока принялся объяснять нескольким рабочим, без всякого интереса разглядывавшим афиши, какие тут заняты актеры и каковы их лучшие роли. Потом без всякого перехода опять вернулся к теме разложения: оно таится в каждом из нас, а смерть наша только его ускоряет.
Он по-прежнему собирал птиц, которых убивали днем его кузены, а утром хоронил их, но больше никогда не разрывал ни одну могилу: слова отца внушили ему небывалое отвращение, и чувство это пугало его больше, чем вид полусгнивших пичуг.
Если судить по точности и постоянству воспоминаний, два этих заурядных и нелепых случая были единственными, когда между отцом и сыном возникло хоть сколько-нибудь живое общение. Странно было и то, что с тех пор, как они произошли, он вспомнил о них впервые. Шкаф со старыми журналами! Разлагающиеся птицы! И правда, какая чушь!







