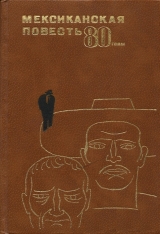
Текст книги "Мексиканская повесть, 80-е годы"
Автор книги: Хосе Эмилио Пачеко
Соавторы: Карлос Фуэнтес,Рене Авилес Фабила,Серхио Питоль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
– Увы, ничего этого я не смог тебе дать.
– Я никогда не жаловалась, Рауль.
– Да, – отвечал папа, – никогда, но один раз, в самом начале, ты сказала, чего бы тебе хотелось, только раз, более двадцати лет назад, и я запомнил, хотя ты больше никогда этого не повторяла.
– Никогда не повторяла, – сказала сеньора Лурдес, – никогда и ни в чем тебя не винила, – и посмотрела с какой-то отчаянной мольбой на Ниньо Луиса.
Но мальчик говорил об Орисабе, о большом доме, о фотографиях, почтовых открытках и письмах, он не был там никогда, поэтому должен был вообразить себе все: балконы, ливни, горы, овраг, мебель того богатого дома, друзей обитавшей в нем семьи, поклонников, почему в мужья выбирают того, а не другого, мама? и никогда не раскаиваются? понятно: можно воображать, как жилось бы с другим, а потом писать ему письма и уверять, что все получилось отлично, что выбор был правильным, да? мне четырнадцать, я могу говорить с вами, как мужчина…
– Не знаю, – сказал дон Рауль, словно очнувшись от сна, словно он и не следил за ходом разговора. – Всех нас сбила с пути революция, одних повернула к лучшему, других к худшему. Одно дело быть богатыми до революции, и другое – потом. Мы распоряжались богатством по старинке и просто-напросто отстали, так-то. – И он тихо рассмеялся, как смеялся всегда.
– Я же не отправляла свои письма, ты это прекрасно знаешь, – сказала сдавленным шепотом донья Лурдес Ниньо Луису, как всегда укладывая его вечером в одну кровать с Росой Марией, которая уснула еще за столом…
– Спасибо, мама, спасибо тебе, что ты ничего не сказала про Мануэлу и ее собак. – И он нежно ее поцеловал.
Весь следующий день донья Мануэлита ждала самого худшего, и во всем ей чудилась враждебность. Наверное, поэтому рано утром, когда она снимала с веревок свою одежду или когда позже поливала герань, у нее было ощущение, что за ней следит множество глаз, тихо раздвигаются занавески, полуоткрытые шторки осторожно сдвигаются, и множество глаз, черных, подернутых плотной пеленой старости или молодых, круглых, влажных, тайком глядят на нее, ждут ее появления, одобрительно смотрят, как она делает свою работу, чтобы заслужить прощения за Лупе Лупиту. Донья Мануэла вдруг поняла, что и вправду трудится, чтобы ей сказали спасибо, чтобы ничем ее больше не попрекали. В тот день она особенно ясно это почувствовала, но вместе с тем ей казалось, будто что-то уже определилось, что все молча пришли к единому соглашению; в благодарность за ее заботу о цветах и птицах никто ничего не скажет о случившемся в соборе, никто ее не осудит, все прощают себе всё.
Донья Мануэла провела этот день взаперти. Она убедила себя, что ничего дурного не случится, но жизнь всегда заставляла ее быть начеку, не дремать, донья Мануэла, держи ухо востро, заснувшую креветку вода уносит, а как же. Она затаилась в своей клетушке, на кухоньке, но какая-то странная печаль, доселе ей незнакомая, овладела ею в тот день. Если на нее зла больше не держат, почему о том не дали знать раньше? почему только теперь, когда ее выгнали из собора, соседи стали относиться к ней по-людски? Она этого не понимала, нет, хоть умри, не понимала. Почему сеньора Лурдес, мама Луиса и Росы Марии, не насплетничала?
Она растянулась на своей койке, смотрела на голые стены и думала о своих собаках, как благодаря ей, от нее самой, они все узнали, стали говорить, ей же рассказывать, мол, изувечили Серого, он лежит на паперти, бедный калека, давай попросим господа нашего бога, донья Мануэла, чтобы нас больше не трогали, не травили.
Вот и Ниньо Луисито, похоже, ее понимал, они друг друга жалели, она жалела его, он, наверное, жалел ее, у них столько общего, во-первых – кресла на колесах, креслице Луисито, креслице Лупе Лупиты. Молодой Пепе, брат Ниньо Луиса, вытащил Лупе Лупиту из креслица на колесах. Мануэла ее посадила туда, чтобы уберечь свою дочку, а не себя спасти от одиночества, служанка всегда одинока, хотя бы только потому, что она служанка, да, чтобы оградить дочку от жадных глаз, от ненасытных рук. У генерала Вергары – дурная слава, его сын, молодой Тин, – страшный бабник, нет, не взять им Лупе Лупиту, на калеку никто не позарится, противно небось, да и стыдно, кто знает…
– Теперь я скажу тебе, дочка, когда ты бросаешь меня навсегда, что хотела я тебя уберечь, только хотела тебя уберечь от тяжелой доли служанкиной дочери, да к тому же если дочка – красавица, с рождения хотела тебя уберечь, потому и назвала так, одним именем дважды: Лупе Лупита, дважды именем Святой Девы,[30]30
Имеется в виду Святая Дева Гуадалупе, покровительница Мексики.
[Закрыть] под двойную святую защиту вверила, доченька…
Долго тянулся тот день, донья Мануэлита знала, что делать нечего, остается лишь ждать. Время придет. Знамение будет. Он больше не позволит себя жалеть, ее друг, Луисито. У них так много общего: креслица на колесах, его брат Пепе, который не пожалел Лупиту, не посмотрел на чтимое имя, и навсегда ушла дочка.
– Я это тебе сейчас говорю, Лупе, потому как больше тебя не увижу. Я хотела охранить тебя, ведь только тебя оставил мне твой отец. Это сущая правда. Я любила твоего негодяя отца больше, чем тебя, а без него стала любить тебя, как его.
И тут она услышала громкий лай, донесшийся из патио их дома. Было уже больше одиннадцати, но донья Мануэла еще не ужинала, погруженная в свои воспоминания. Никогда, никогда ни одна из ее собак не совала нос в патио, все они знали об опасностях, их там подстерегавших. Но вот раздался лай второго пса. Старуха накинула на голову черный платок и вышла из комнаты. Птицы волновались в клетках. Она забыла прикрыть их на ночь. Они беспокойно сновали, не решаясь запеть, не решаясь заснуть, как в те дни затмения солнца, которые дважды на своем веку пережила Мануэла, когда животные и птицы умолкали, едва светило скрывалось.
Но этой ночью, напротив, сияла луна и было тепло по – весеннему. Все более уверяясь в истинном смысле своей жизни, утверждаясь в той роли, какую ей предназначено играть до самой смерти, донья Мануэлита заботливо накинула парусиновые колпаки на клетки.
– Ну вот, спите спокойно, эта ночка не ваша, сегодня – моя ночка, спите.
Закончив дело, за которое все ей были признательны и которое она делала ради этой признательности и чтобы все жили в мире, она пошла к тому месту, откуда большая каменная лестница вела вниз. Она знала, что там должен сидеть в своем кресле Ниньо Луис и ждать ее.
Так оно и было. И иначе быть не могло. Ниньо Луис встал с кресла и предложил руку донье Мануэлите. Мальчик пошатывался, но старуха была еще крепкой, надежно его поддерживала. Он оказался более высоким, чем она или даже чем он сам полагал, и ему четырнадцать лет, скоро пятнадцать, почти настоящий мужчина. Они вместе спустились по лестнице. Луисито одной рукой опирался на балюстраду, другой на Мануэлиту, это были дворцы Новой Испании, Мануэла, представь себе – праздники, музыка, ливрейные лакеи, которые высоко держат канделябры с яркими свечами для гостей на ночных пиршествах и, стиснув зубы, дают каплям растопленного воска жечь свои руки, спускайся со мной, Мануэла, пойдем вместе, Ниньо.
Двадцать собак сеньоры Мануэлы заполонили патио, подняв лай, радостный лай, все сразу, все они, Серый Туман и другие, грязные, голодные, суки со вздутыми животами – от глистов или брюхатые, кто знает, время покажет: суки с длинными обвисшими сосцами, недавно наплодившие еще собак, еще больше собак, чтобы заселить город сиротами, пригульными, детьми Святой Девы, ищущими прибежище под барочными навесами церквей. Донья Мануэла взяла Ниньо Луисито за руку, обняла его за пояс, собаки лаяли от счастья, подняв морды к луне, будто такая лунная ночь была первой при сотворении мира, еще до горя, еще до жестокости, и Мануэла вела Луисито, собаки лаяли, но служанка и мальчик слышали музыку, старинную музыку, ту, что столетия назад звучала в этом дворце. Погляди на звезды, Ниньо Луисито, моя Лупе Лупита всегда спрашивала, погаснут ли когда-нибудь звезды? спрашивает она об этом сейчас? Конечно, Мануэла, конечно, спрашивает, танцуй, Мануэла, рассказывай, а мы будем танцевать, вместе, мы – для тебя, твоя дочка и я, Лупе Лупита и Луисито, правда? Да, да, правда, здесь двое, да, теперь я их вижу, лунная ночь и звезды, как сейчас, танцуют вальс, двое вместе, для меня они одно и то же, ждут того, что никогда не приходит, что никогда не проходит, двое детей из сна, в плену одного и того же сна: не уходи, сынок, не уходи никуда, стой, обожди, обожди, а Лупита ушла, Мануэла, ты и я, мы останемся здесь, в этом многолюдном доме, тут – не она и я, тут – ты и я, и мы ждем, чего ты ждешь, Мануэла? чего ждешь, кроме смерти?
Как громко лают собаки, для того и вышла луна этой ночью, для того и вышла, чтобы лаяли на нее собаки, и слушай, Луисито, слушай музыку, а я тебя поведу, как хорошо ты танцуешь, Ниньо, забудь, что это я, думай, что танцуешь с моей красавицей Лупе Лупитой, что держишь ее за талию и в танце тебя дурманят духи моей дочки, ты слышишь ее смех, смотришь в глаза, глаза доверчивого олененка, а я чувствую, что еще могу помнить любовь, мою единственную любовь, отца Лупе, любовь служанки, в потемках, на ощупь, тайком, ночью, выраженную одним – единственным словом, повторенным тысячу раз:
– Нет… нет… нет… нет…
Одурманенная танцем, опьяненная воспоминаниями, донья Мануэлита оступилась и упала. Упал с ней и Ниньо Луисито, оба в обнимку, весело смеясь, а музыка тем временем затихла, собачий лай звучал громче.
– Обещаем помогать собакам, Ниньо Луисито?
– Обещаем, Мануэла.
– Ты можешь крикнуть. А собака – нет. Собака должна брать.
– Не беспокойся. Мы будем о них заботиться.
– Неправду говорят, что я люблю собак, потому что не любила свою дочку. Это неправда.
– Конечно, неправда, Мануэла.
И только тогда донье Мануэлите пришло вдруг в голову: почему при таком жутком шуме – лай, музыка, смех – никто не выглянул из окна, не открылась ни одна дверь, ни один человек не цыкнул на них? И это тоже благодаря ее дружочку, Ниньо Луису? Значит, никто никогда ее больше не тронет, никто никогда?..
– Спасибо, Ниньо, спасибо.
– Представь себе, Мануэла, подумай только. Столетие назад это были дворцы, большие, красивые дворцы, здесь жили очень богатые люди, очень важные люди, как мы с тобой, Мануэла.
К полуночи ему очень захотелось есть, и он встал, никого не потревожив. Пошел на кухню и в темноте взял булочку. Намазал ее сливочным маслом и стал жевать. И тут у него промелькнула мысль, что так достойно и нужно, хотя толком не понимал, что именно. Раньше он всегда просил. Даже это: булочку с маслом. Теперь впервые он брал, а не клянчил. Он взял оставшиеся сухие лепешки и вышел в патио бросить собакам. Но животных там уже не было, ни Мануэлиты, ни луны, ни музыки, ничего.
III. Маньяниты[31]31
Утречко, зорька (исп. уменьш.). В Мексике так же называется поздравительная песенка, которую поют утром в день рождения.
[Закрыть]
Лоренсе и Патрисии Грасиеле
1
Раньше Мехико был городом, где ночь уже несла в себе утро. В два часа, до зари, когда Федерико Сильва, бывало, выходил на балкон своего дома на улице Кордоба, перед тем как лечь спать, уже чувствовался запах влажной земли грядущего дня, долетал аромат хакаранды[32]32
Вид мексиканской мимозы.
[Закрыть] и ощущалось соседство снежных вулканов.
На заре все подступало ближе, и леса, и горы. Федерико Сильва закрывал глаза и всей грудью вдыхал неповторимый запах раннего утра в Мехико, дурманное свежее веяние забытого илистого озера. Так, должно быть, благоухало первозданное утро. Только тот, кто умеет ощутимо представлять себе исчезнувшее озеро,[33]33
Мехико стоит на месте, где во времена ацтеков посреди озера Тескоко находился основанный ими г. Теночтитлан, разрушенный конкистадорами. Практически город и сейчас покоится на своего рода водной подушке.
[Закрыть] по-настоящему знает этот город, думалось Федерико Сильве.
Но так было раньше, а теперь его дом оказался почти рядом с громадной площадью-чашей, где находится станция метро Инсурхентес. Один его друг, архитектор, сравнил это место беспорядочного стечения и пересечения проспектов и улиц – Инсурхентес, Чапультепек, Хенова, Амберес, Халапа – с площадью Звезды в Париже, и Федерико Сильва очень смеялся. Перекресток Инсурхентес, пожалуй, больше похож на гигантский судок: наверху – выше иных соседних крыш – эстакада с потоком автомашин; ниже – улицы, перекрытые надолбами и цепями, еще ниже – лестницы и туннели, ведущие к площади с множеством «бутербродных» и «устричных», с толпами бродячих торговцев, нищих, уличных певцов и студентов – скопищем молодых дикарей, которые сидят и жуют слоеные тортильи, балагурят и глядят на ленивое колыхание смога, пока маленькие чистильщики полируют им туфли, отпускают комплименты и шуточки вслед тонконогим девчонкам-коротышкам в узеньких мини-юбках; настоящие хиппи, перья в волосах, подсиненные веки, посеребренные губы, кожаные жилеты на голое тело, цепочки, ожерелья. И, наконец, – вход в метро: врата ада.
Его убивали ночи, предвещавшие яркое утро. В этом квартале теперь – не продохнуть, не проехать. Среди показного великолепия Розовой Зоны, претенциозного космополитического фасада, гигантской деревни, где Колония Рома предпринимает отчаянные, хотя и безуспешные попытки выглядеть прелестным жилым районом, перед Федерико Сильвой несся этот дьявольский, безудержный поток, эта река Стикс, обдающая бензиновым чадом площадь, где кишат люди, где сотни парней балагурят, глазеют на плывущий смог, подставляют ноги под жирные щетки чистильщиков, сидят и чего-то ждут на этой утопленной в землю круглой цементной площади, на этом грязном блюдце. Блюдце со следами какао, холодного, жирного, расплескавшегося.
– Какая гадость, – говорил он вялым голосом. – Кто подумает, что это был маленький красивый город в пастельных тонах. И можно было пройти пешком от Сбкало до Чапультепека,[34]34
Парк Чапультепек – место отдыха и развлечений на южной окраине города.
[Закрыть] и все было под боком: правительство и развлечения, дружба и увлечения.
Это была одна из старых песен заядлого холостяка, привязанного к забытым вещам, которые уже никого не интересовали. Его приятели, Перико и маркиз, говорили ему: не будь таким занудой. Пока была жива его мама (вот ведь как долго жила святая женщина), он ревностно выполнял сыновний долг и поддерживал дом на улице Кордоба. А теперь к чему? Он получал выгодные предложения от покупателей, оставалось только ждать пика цен на недвижимость и не упустить момент. В этом-то он прекрасно разбирался, сам был владельцем многоквартирных домов, жил на ренту, на спекуляции.
На него пытались оказать давление, воздвигнув по обе стороны его жилища небоскребы, так называемые современные здания, но Федерико Сильва говорил: современно лишь то, что возводится навечно, а не то, что строится за один месяц, становится обшарпанной громадой за два года и рушится через десять лет. Ему было стыдно, что страна церквей и пирамид, сотворенных навеки, ныне довольствуется городом из прессованных опилок, известки и всякой дряни.
Его стиснули, его придушили, у него отняли солнце и воздух, зрение и обоняние. А уши забили шумами. Его дом, сжатый двумя башнями из стекла и бетона, – что поделать? – дал трещины и покосился из-за осадки грунта под их несусветной тяжестью. Однажды, когда он надевал пальто, у него упала монета, и долго катилась, пока не ударилась о стену. Раньше в этой самой спальне он играл в солдатики, затевал исторические баталии: Аустерлиц, Ватерлоо, даже Трафальгар в своей ванне. Теперь же он не мог ее и наполнить, потому что вода лилась через край, в сторону, куда накренился дом.
– Живешь, как в Пизанской башне, только без всякой славы. Вчера, когда я брился, мне на голову упала штукатурка, а в ванной комнате вся стена растрескалась. Когда же они поймут, что наша пористая почва не выдерживает наглого нажима небоскребов?
Его жилище не было старинным зданием в собственном смысле слова, а представляло собой обычный частный дом так называемого французского стиля, популярного в начале века и вышедшего из моды в двадцатых годах. А точнее сказать, строение больше походило на испанскую или итальянскую виллу с плоской крышей, с асимметричными каменными оштукатуренными стенами и входной лестницей, ведущей на высокий первый этаж, подальше от земляной сырости.
И сад – сад тенистый, влажный, ограждающий от жарких зорь долины и бережно хранящий по ночам все ароматы близкого утра. Какая роскошь: две высокие пальмы, каменистая дорожка, солнечные часы, железная скамья, покрашенная зеленым; фонтанчики, бьющие из водопровода у каждой клумбы с фиалками. С какой злостью смотрел он на – эти дурацкие зеленые стекла, которыми новые здания защищались от древнего солнца Мексики. Испанские конкистадоры были мудрее, они умели ценить монастырскую тень, прохладу патио. Как же не защищать все это от агрессивного города, который сначала был ему другом, а теперь стал его злейшим врагом? Его, Федерико Сильвы, которого друзья прозвали Мандарином.
Потому что восточный тип его лица так бросался в глаза, что и не думалось об индейской маске, воплощающей эти черты. Подобное случается при виде многих мексиканских лиц: забываешь об отпечатках всем известных исторических событий и видишь вдруг изначальный облик тех, кто пришел из тундры и с гор Монголии. И потому лицо Федерико Сильвы было как угасшее дыхание древнего озера Мексики: ощутимое прошлое, почти мираж.
Очень, очень опрятным, очень аккуратным, очень гладеньким и низеньким был хозяин этой застывшей маски – и с такими неизменно черными волосами, что они казались крашеными. Но из-за кулинарных новшеств у него уже не было крепких, белых, вечных зубов его предков. А вот черные волосы сохранились, вопреки кулинарным новшествам. Истощаются поколения, презирающие старую пищу, силу, заложенную в перце, фасоли и кукурузной тортилье, где хватает и кальция и витаминов для тех, кто ест мало. Он смотрел на эту проклятую площадь Глориету, похожую на грязное блюдце, где молодежь пьет газированное пойло и ест всякую гадость, синтетические конфеты и жареную картошку в целлофановых пакетиках – еда-отрава с севера и вдобавок еда-зараза с юга: трихина, амеба, всемогущие микробы в каждой свиной отбивной, в тамариндовой водице, в худосочной редьке.
Как среди всей этой мерзости не оберегать этот маленький оазис прекрасного, его личный Эдем, который уже ни в ком не возбудит зависти. По собственной воле, сознательно, он оставался на обочине всех дорог. Смотрел, как мимо проходят караваны мод. Правда, для себя он одну оставил. Ту, что сам выбрал, раз и навсегда. Для других она перестала быть модой, но он берег ее, поддерживал, ограждал от изменчивых вкусов. И его мода никогда не выходила из моды. Так же, как его костюмы, его шляпы, его трости, его китайские халаты, элегантнейшие кожаные туфли для его маленьких восточных ножек, тонкие замшевые перчатки для его миниатюрных рук мандарина.
Многие годы, с начала сороковых, ожидая, когда умрет его мать и оставит ему наследство, он часто думал, что, когда придет его очередь, он будет умирать один, в мире и покое, как ему заблагорассудится, один в своем доме, освободившись наконец от тяжкого гнета матери, такой чванной, такой властной и в то же время такой старой, такой напудренной, такой накрашенной и в таком пышном парике – до последнего дня. Гримеры из похоронного агентства потрудились на совесть. Стараясь придать ей вид более свежий и цветущий, нежели тот, что был у нее при жизни, они с гордостью представили Федерико Сильве плод своего художества: бредовую карикатуру, размалеванную мумию. Он взглянул на нее и приказал гроб больше не открывать.
В дни отпевания и погребения доньи Фелиситас Фернандес де Сильва собралось несметное множество родственников и друзей. Изысканная, сдержанная публика, которую называют аристократией, как будто нечто подобное, думалось Федерико Сильве, может существовать в испанской колонии, завоеванной беглым людом, писарями, мельниками и свинопасами.
– Удовольствуемся, – говорил он своей старой приятельнице Марии де лос Анхелес Негрете, – тем, что мы есть: средне-высший класс, который, несмотря на все исторические бури, сумел во все времена обеспечить себе весьма приличные доходы.
Предки самого «старинного» рода, представленного в этой компании, сколотили свое состояние в XVII веке, самая «молодая» знать разбогатела до 1910 года. По неписаному закону из общества исключались нувориши, нажившиеся на революции,[35]35
Имеется в виду Мексиканская революция 1910–1917 гг.
[Закрыть] но допускались те, кто в гражданскую войну разорился, а затем использовал революцию для восстановления своего «standing».[36]36
Положение, вес (англ.).
[Закрыть] Однако самым нормальным, самым приличным считалось всегда быть богатым – как в колониальную пору, так и во времена империи и республиканских диктатур. Родовое имение маркиза де Каса Кобос восходило к эпохе вице-короля О’Доноху,[37]37
О’Доноху, Хуан – последний вице-король Новой Испании, подписал в 1821 г. акт о независимости Мексики.
[Закрыть] а его бабушка была фрейлина императрицы Карлоты; предки Перико Арауса были министрами у Санта-Аны,[38]38
Санта-Ана Антонио, Лопес де (1794–1876) был президентом, позже – фактически диктатором Мексики.
[Закрыть] и Порфирио Диаса; а сам Федерико, со стороны Фернандесов, вел происхождение от одного из адъютантов императора Максимилиана,[39]39
Максимилиан Габсбург (1832–1867) – австрийский эрцгерцог, во времена англо-франко-испанской интервенции в Мексике был объявлен императором Мексики (1864–1867).
[Закрыть] а со стороны Сильва – от одного из магистров Лердо де Техады.[40]40
С. Лердо де Техада (1827–1889) – мексиканский президент, помогавший национальному герою Мексики Бенито Хуаресу в борьбе против Максимилиана.
[Закрыть] Такова генеалогия, таково лицо класса, отнюдь не старадающего от политических пертурбаций в стране, где жизнь то и дело преподносит сюрпризы, где сегодня она сонлива, а завтра встает на дыбы.
По субботам он с друзьями играл в маджонг, и маркиз говорил:
– Ты не волнуйся, Федерико. Как бы она нас ни лягала, а революция в Мексике обуздана навсегда.
Они не видели сумрачных взоров, не замечали тигров, затаившихся во всех этих мятущихся юнцах, которые там сидят и смотрят на плывущий смог.
2
С того самого дня, как он похоронил мать, ожила его память. Более того, он понял: только потому, что ее больше нет, к нему возвращаются подробнейшие воспоминания, прежде придавленные игом доньи Фелиситас. Именно теперь он вспомнил, что раньше полночь уже возвещала утро и что он выходил на балкон подышать, заранее принять дары нового дня.
Но это было лишь одно из многих воспоминаний, и походило оно больше на возродившийся инстинкт. Наверное, говорил он себе, память старых людей оживает после смерти других стариков. И с тех пор ждал вести о смерти какого – нибудь родственника или приятеля в уверенности, что к нему явятся новые воспоминания. Вот так же когда-нибудь кто-то вспомнит и о нем.
Каким его вспомнят? Совершая утренний туалет перед зеркалом, он видел, что, в общем, мало изменился за последние двадцать лет. Подобно восточным людям, которые, постарев, воплощают свою вечность. Но также и потому, что за все это время не изменил стиля своей одежды. Безусловно, лишь он один носил теперь летом соломенную шляпу, введенную в моду Морисом Шевалье. И с наслаждением повторял, смакуя каждый слог, ее иностранное название: «straw bat», «cannotier», «paglietta». А зимой – черный «homburg» с шелковой кромкой, котелок Энтони Идена, самого элегантного мужчины своего времени.
Он всегда вставал поздно. И не находил нужным скрывать, что он – рантье, живущий в свое удовольствие. Сыновья его друзей терзались какими-то социальными угрызениями совести, а посему в восемь утра их должны были видеть уже на ногах в каком-нибудь кафе жующими «hot cakes»[41]41
Здесь: горячие тосты (англ.).
[Закрыть] и рассуждающими о политике. К счастью, у Федерико Сильвы не было сыновей, которые стыдились бы своего богатства или стыдили бы его за то, что он до полудня валяется в постели, ждет, пока его слуга и повар Дондэ подаст ему завтрак, а затем спокойно пьет кофе и читает газеты, не спеша одевается и приводит себя в порядок.
Все эти долгие годы он хранил одежду, которую носил в юности, а когда умерла донья Фелиситас, собрал и разложил экстравагантные наряды своей матери по разным шкафам; в один – платья, бывшие в моде до первой мировой войны, в другой – в двадцатых годах, а в третий – мешанину, которая полюбилась сеньоре в тридцатые годы и которой она осталась верна до конца: цветные чулки, серебристые туфли, боа ядовито-красных тонов, длинные юбки из розового шелка, блузы с глубоким вырезом, сотни ожерелий, шляпок для загородных прогулок, жемчужных брошей, булавок.
Каждый день он ходил обедать к «Беллингхаузену» на улице Лондрес, где у него был свой столик в углу еще с той поры, когда он заказал себе костюм, который носил теперь. Ел он один, важный, серьезный, легким кивком приветствуя знакомых, и велел включать в свой счет стоимость обеда дам, знакомых его или его мамы – тоже евших в одиночестве; и никаких объятий, шумных возгласов «где-пропадали» или прочих вульгарностей: «счастлив-вас-видеть», «боже-какая-радость». Он ненавидел фамильярность, был полновластным хозяином маленького неприкасаемого пространства вокруг своей персоны, вокруг смуглого аккуратного человечка. Он желал внушать уважение.
Фамильярность он допускал лишь в отношениях с вещами своего дома. День за днем он наслаждался, глядя на них, любуясь ими, трогая, поглаживая, порой нежно лаская лампы Тиффани и пепельницы, статуэтки и рамки Лалика. Они доставляли ему особое удовольствие, но и вся обстановка у него была изысканная: посеребренные туалетные столики с круглыми зеркалами, высокие алюминиевые торшеры, кровать с блестящей никелированной спинкой, в спальне все белое: атлас, шелк, телефон, шкура медведя, стены покрыты лаком цвета старой слоновой кости.
Его молодость была отмечена двумя происшествиями. Во-первых, посещением Голливуда, где мексиканский консул в Лос-Анджелесе помог ему попасть на «Ужин в восемь». Прием был устроен в белой гостиной Джин Харлоу, и ему посчастливилось издали увидеть актрису. Это было как серебряное сновидение. В Иден-Роке он познакомился с Коулом Портером, когда тот только что закончил мьюзикл «Just One of Those Things»,[42]42
Здесь: «Он создан для этих дел» (англ.).
[Закрыть] и со Скоттом Фитцжеральдом и Зельдой, когда тот писал роман «Ночь нежна». Тем летом, на Ривьере, он сфотографировался с Портером – с Фицджеральдами не удалось, – маленький любительский снимок, без вспышки. А потом – и это во-вторых – в своем номере отеля «Негреско», в полной тьме, он наткнулся на голую женщину. Друг друга они не знали. Женщину выхватил из темноты лунный свет, будто свет дня, будто луна стала солнцем, высветив наготу, срам, не прикрытый фиговым листком – ширмами.
Путешествие на Лазурный Берег всегда было в центре субботних воспоминаний. Федерико Сильва прекрасно играл в маджонг, и три его постоянных партнера – Мария де лос Анхелес, Перико и маркиз – провели то лето с ним вместе. Вспоминали обо всем, кроме этого случая, любовного приключения, рыжей девушки, похожей на Джин Харлоу. Если кто-либо из друзей чувствовал, что готовится вторжение в запретную зону, тут же следовал многозначительный взгляд, дававший понять, что погода может испортиться. Тема разговора тотчас менялась, ностальгию откладывали на другой раз, и все снова возвращались к обычным рассуждениям о семье и деньгах.
– Это нельзя отделять друг от друга, – говорил Федерико Сидьва во время игры. – Вот у меня нет семьи, и, когда я уйду из жизни, мои деньги достанутся другим, какой-то другой семье. Забавно!
Извинился, что заговорил о смерти. Что о деньгах – нет. Каждому из них удалось в свое время завладеть частицей богатства Мексики – рудниками, лесами, землями, скотом, плантациями – и быстро обратить это, пока что-нибудь не стряслось, в единственно надежную форму собственности: недвижимое имущество в городе Мехико.
Федерико Сильва весьма смутно представлял себе дома, столь регулярно приносившие ему доходы, старые колониальные дворцы на улицах Такуба, Гватемала, Ла-Монеда. Он никогда их не посещал. И совсем не знал людей, там живущих. Возможно, когда-нибудь он спросит у сборщиков квартирной платы: а кто обитает в этих старинных дворцах, что за люди, понимают ли они, что живут в самых славных и благородных домах Мексики?
Он никогда не приобретал новые здания, вроде тех, что отняли у него солнце и завалили набок его собственный дом. Поклялся себе никогда их не приобретать. И повторил это снова, с улыбкой, когда они, как обычно, по субботам садились у него за маджонг. Все знали, что быть принятым в доме Федерико Сильвы – большая честь. Только у него было такое: в столовой – мебель, обитая красной кожей; свое место у каждого гостя, определенное строжайшим этикетом – по общественному ранжиру, возрасту, роду прежней деятельности, – карточка с его именем и меню, написанное от руки самим хозяином дома, гостей безупречно обслуживал расторопный Дондэ.
Восточная маска Федерико Сильвы чуть скривилась в ироничной усмешке, когда тем вечером он окинул взглядом стол, сосчитав отсутствовавших, друзей, некогда восседавших там на своих местах. Потер свои фарфоровые ручки мандарина: ах, смерть устанавливает самый строжайший этикет, а самое постоянное место – могила. Люстра Лалика – с большой высоты и резко вниз – обдавала безжалостным светом гойевские лица его друзей, сотрапезников, обвислые творожистые щеки, узкие щели губ, глазные впадины.
Интересно, что теперь с той рыжей девицей, которая разделась догола ночью в моем номере в отеле «Негреско»?
Дондэ начал разливать суп, и его профиль индейца-майя вклинился между Федерико Сильвой и сеньоритой, сидевшей от него справа, Марией де лос Анхелес Негрете. Нос у слуги начинался чуть ли не с середины лба, а маленькие глазки косили внутрь.
– Как странно, – заметил по-французски Федерико Сильва, – знаете ли вы, что такой профиль и глаза считались у майя особенно красивыми? Младенцам нарочно сплющивали голову и заставляли подолгу смотреть на качающийся у носа шарик на нитке. Возможно ли такое: спустя века унаследовать черты, искусственно приобретенные?
– Все равно что унаследовать парик и вставные челюсти, – кобыльим ржанием отозвалась Мария де лос Анхелес Негрете.
Профиль Дондэ между хозяином и гостьей, протянутая к супнице рука, наполненная разливательная ложка, ударивший в нос запах пота; тебя раз и навсегда предупреждали, Дондэ, мойся после кухни и перед тем, как подавать на стол; иногда никак невозможно, сеньор, не успеваю, сеньор.
– Ты о себе или о моей матери, Мария де лос Анхелес?
– Прости, Федерико?
– Я имею в виду парик. Челюсти.
Кто-то задел ложку, Федерико Сильва, Дондэ или Мария де лос Анхелес, неизвестно кто, но горячий фасолевый суп плеснул в вырез платья сеньоры, крики, что ты делаешь, Дондэ, простите, сеньор, уверяю вас, это не я, ох, творожная грудь Марии де лос Анхелес, ох, «чичаррон»[43]43
Свиная поджарка (исп., мекс.).
[Закрыть] из «чичи»,[44]44
Грудь (исп., мекс.).
[Закрыть] иди, вымойся, Дондэ, ты меня позоришь, Дондэ, парик и челюсти моей матери, голая рыжая дева, Ницца…
Он вдруг проснулся, охваченный ужасом, тоскливо и отчаянно силился вспомнить, чем кончился сон, хотя был уверен, что не вспомнит: еще одно сновидение, утраченное навсегда. Хмельной от грусти, он накинул китайский халат и вышел на балкон. Глубоко вздохнул. Напрасно старался уловить запахи грядущего утра. Тина ацтекского озера, пена индейской ночи. Нет, ничего. Подобно снам, утраченные ароматы не возвращаются.
– Что-нибудь случилось, сеньор?
– Нет, Дондэ.







