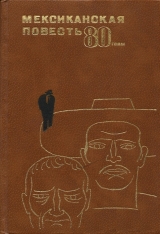
Текст книги "Мексиканская повесть, 80-е годы"
Автор книги: Хосе Эмилио Пачеко
Соавторы: Карлос Фуэнтес,Рене Авилес Фабила,Серхио Питоль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
– Я слышал, как сеньор вскрикнул.
– Пустое. Иди спать, Дондэ.
– Как прикажет сеньор.
– Спокойной ночи, Дондэ.
– Спокойной ночи, сеньор.
3
– Я столько лет тебя знаю, и ты всегда был очень разборчив в одежде, Федерико.
Он не мог простить своей старой приятельнице Марии до лос Анхелес, что она однажды посмеялась над ним: здравствуйте, мосье Верду. Может быть, в старомодной элегантности и есть что-то чаплинское, но лишь в том случае, если она маскирует бедность. А Федерико Сильва, и это все знали, был не из тех, кто бедствует. Просто, как все люди с хорошим вкусом, он умел выбирать вещи, которые долго служат. Будь это пара туфель или дом.
– Экономь свет. Ложись пораньше.
Он, например, никогда не надел бы краги, если взял трость. А когда для своих ежедневных прогулок по улице Кордоба к ресторану «Беллингхаузен» надевал пиджак кирпичного цвета и сделанный на заказ в 1933 году пояс «Бастер Браун», то старался ослабить зрительный эффект неописуемо тусклым плащом, который с нарочитой небрежностью перекидывал через руку. И только в считанные, действительно холодные дни надевал фетровую шляпу и черное пальто с белым кашне. Он прекрасно знал: у него за спиной друзья перешептывались, мол, такое постоянство в отношении гардероба лишь доказывает его унизительно зависимое положение. Поживите с доньей Фелиситас, и сами будете носить вещи по двадцать или тридцать лет…
– Экономь свет. Ложись пораньше.
Однако почему тоща после смерти доньи Фелиситас он продолжал носить все ту же одежду? Но об этом его никто не спрашивал теперь, когда он вступил во владение всем имуществом. Можно подумать, что донья Фелиситас его испортила, приучила довольствоваться слишком малым. Нет, его мама только казалась очень скупой. Все пошло с этой фразы, прозвучавшей шутливым, но горьким упреком, который как-то вечером вырвался у доньи Фелиситас, чтобы обмануть самое себя, сделать вид, будто ничто не меняется, будто она не видит, что ее сын стал совсем взрослым, вечерами уходит без спроса, решается оставлять ее в одиночестве.
– Ведь я содержу тебя и взамен прошу очень немного: не оставляй меня одну в доме, Федэ. Я могу умереть в любую минуту, Федэ. Я знаю, что со мной остается Дондэ, но мне вовсе не хочется умереть на руках у слуги. Хорошо, Федэ. Наверное, так и есть, как ты говоришь, у тебя очень важное свидание, такое важное, что можешь бросить свою мать. Да, бросить, именно так я выразилась. Но, может быть, ты смягчишь горе, которое мне причиняешь, Федэ. Сам знаешь как. Ты обещал в этом году посещать спиритические сеансы отца Тельеса. Сделай мне это маленькое одолжение, Федэ. Я кладу трубку. Я очень устала.
Она клала трубку на белый телефон и сидела в кровати с блестящей никелированной спинкой, обложенная белыми подушками, укрытая белыми мехами, большая дряхлая кукла, молочно-беленький полишинель, сидела, жеманно припудривая свое мучнистое лицо, на котором горящие глаза, оранжевый рот, красные щеки выглядели непристойно яркими пятнами, манипулировала большой белой пуховкой, утопая в благоуханном и удушливом облаке рисовой пудры и ароматического талька, лысая головка в белом шелковом чепчике. По ночам парик с локонами – черными, упругими, блестящими – водружался на матерчатую, набитую ватой голову бестелесного манекена на посеребренном туалетном столике, как, бывало, парики прежних королев.
Федерико Сильве нравилось порой на субботних сборищах разыгрывать своих старых друзей, рассказать им страшную историю. Ничего нет более приятного, чем благодарная публика, к тому же Мария де лос Анхелес так легко приходила в ужас. Это доставляло особое удовольствие Федерико Сильве. Мария де лос Анхелес была старше его, в детстве он ее обожал, плакал, когда прелестная семнадцатилетняя девушка отправлялась на бал со взрослыми юношами, а не с ним, маленьким преданным другом, тихо воздыхавшим по несравненной рыжеволосой красе, по этой розовой коже, этому воздушному тюлю и шелковым лентам, скрывавшим и кутавшим ее вожделенные формы, моя распрекрасная Мария де лос Анхелес, теперь походившая на королеву Марию Луизу с портрета Гойи. Понимала ли она, что, пугая ее, Федерико Сильва старался привлечь ее внимание, как когда-то, в свои пятнадцать лет, единственно возможным для себя способом: нагнать на нее жуткого страха?
– Видите ли, вероятнее всего, гильотина была изобретена для того, чтобы жертва умирала безболезненно. Но результат был как раз обратный. Быстрота казни продлевала агонию жертвы. Ни голова, ни тело не имеют времени, чтобы освоиться с тем, что их разделили. Они продолжают чувствовать себя единым целым, в течение нескольких секунд голова осознает случившееся. Для жертвы эти секунды кажутся вечностью.
Понимала ли эта старуха, заливавшаяся кобыльим смехом – лошадиные зубы, творожные груди, – беспощадно озаряемая сверху лампой Лалика, безопасной, наверное, только для Марлен Дитрих, что желают привлечь ее внимание? Густые тени, могильные впадины, призрачная мистерия. Головы, отсеченные светом.
– Обезглавленное тело продолжает дергаться, нервная система функционирует, руки протянуты, умоляют. А отрезанная голова с мозгом, переполненным кровью, начинает мыслить особенно ясно. Глаза, вылезающие из орбит, обращены к палачу. Язык второпях проклинает, напоминает, возражает. А зубы впиваются в прутья корзинки. Нет ни одной корзинки под гильотиной, которая не была бы искусана, словно легионом крыс.
Мария де лос Анхелес издавала полуобморочный стон, маркиз де Каса Кобос щупал ей пульс, Перико Араус предлагал платок, смоченный одеколоном, Федерико Сильва выходил на балкон своей спальни в два часа ночи, когда все уже уходили, думал, кто же будет следующим трупом, ближайшим покойником, который позволил бы ему расширить сферу воспоминаний. Он вполне мог бы получать ренту с памяти, но для этого люди должны умирать. Какие воспоминания вызовет его собственная смерть? И кто о нем вспомнит? Он закрывал стеклянные двери балкона и укладывался в свою белую постель, на бывшую кровать своей матери. И старался заснуть, считая людей, которые его вспомнят. Их было очень немного, но зато люди уважаемые.
После смерти доньи Фелиситас Федерико Сильва начал подумывать о собственной смерти. И давал наставления Дондэ:
– Когда меня найдут мертвым, до того, как известить кого-либо, поставь вот эту пластинку.
– Да, сеньор.
– Запомни ее. Не ошибись. Я положу ее здесь, на самом верху.
– Не беспокойтесь, сеньор.
– А на моем ночном столике раскроешь вот эту книгу.
– Как прикажет сеньор.
Пусть думают, что он умер, слушая «Неоконченную симфонию» Шуберта и не дочитав «Тайну Эдвина Друда» Диккенса, вот и книга, у изголовья… Но эта посмертная фантазия не была слишком оригинальна. И он решил написать еще четыре письма. Первое от лица самоубийцы, второе – приговоренного к казни, третье – смертельно больного, и четвертое – жертвы катастрофы, устроенной природой или людьми. В последнем случае возникало множество проблем. Как сделать, например, чтобы совпали во времени три события: его смерть, отправка письма и землетрясение в Сицилии, ураган в Кайо-Уэсо, извержение вулкана на Мартинике, авиакатастрофа в…? Напротив, три первых письма можно было послать людям, живущим в отдаленных местах, попросить, чтобы они, узнав о его смерти, были бы столь любезны и отправили эти три письма, написанные им самим, скрепленные его личной подписью, адресованные его друзьям: от самоубийцы – Марии де лос Анхелес, от приговоренного к казни – Перико Араусу, от смертельно больного – маркизу де Каса Кобосу. В какой же они будут растерянности, в каком замешательстве станут терзаться неразрешимым вопросом: неужели этот человек, которого мы отпеваем, которого хороним, действительно был нашим другом, Федерико Сильвой? Однако чужие и легко вообразимые растерянность и замешательство были ничто по сравнению с его собственными. Перечитывая три уже написанных письма, Федерико прекрасно знал, какое кому адресовать, но не мог придумать, кого же просить отправить их по адресу. Он не выезжал за границу после того путешествия на Лазурный Берег. Коул Портер умер с улыбкой; чета Фицджеральдов и Джин Харлоу – в слезах. Кто же отошлет его письма? Напрягая память, видел своих друзей: Перико, маркиза, Марию де лос Анхелес молодыми, в купальных костюмах, в Иден-Роке, сорок лет назад… Где теперь девушка, похожая на Джин Харлоу? Она была его единственной тайной сообщницей, она в смерти вознаградила бы его за боль и унижение, которому подвергла в жизни.
– Какого черта ты здесь?
– Я задаюсь тем же вопросом при виде тебя.
– Извини. Я ошиблась номером.
– Нет. Не уходи. Я ведь тоже тебя не знаю.
– Отпусти, или я закричу.
– Ну пожалуйста…
– Отпусти меня! Не хочу, даже будь ты последним мужчиной на всей земле. Паршивый китаец!
Последним мужчиной. И он снова аккуратно разложил письма по конвертам. Чья-то тяжелая рука опустилась на его слабое плечико, звеня браслетами, цепями, звякая металлом о металл.
– Что там у тебя в конвертах? Твои денежки, старикан?
– Это он?
– Точненько. Он самый, шлепает каждый день мимо толкучки.
– И не признаешь его в этом халатике Фу Манжу.
– И клюки не хватает.
– И слюнявчиков на ботинках, ох… твою мать.
– Слышь, старикан, не пугайся. Это мои друзья Брадобрей и Покахонта. Я – Артист, к твоим услугам. Слово даю, мы тебя не тронем.
– Что вам надо?
– Вещички, которых тебе совсем не надо, только всего.
– Как вы вошли?
– Пусть тебе пентюх расскажет, когда очухается.
– Какой пентюх?
– А какой тебе прислуживает.
– Здорово мы ему дали пол дых, чтоб его…
– Должен вас огорчить. Денег дома я не держу.
– Говорю тебе, не надо нам твоих вонючих денег. Суй их сам, куда хочешь, старикан.
– Не трепись попусту, Артист, начинаем?
– Давай.
– Слышь, Брадобрей, ты подзаймись старичком, а мы с Покахонтой тут пошуруем.
– Ладно.
– А другим оставаться внизу?
– Другим? Сколько же вас?
– Ох, твою… не смеши, старый хрыч, слышь, друг, он спрашивает, сколько нас, чтоб его…
– Поди-ка к нему, Покахонта, пусть поглядит на твою мордочку, покажи ему зубки, кусни его за нос, вот так, моя Покахонта, и скажи ему, сколько же нас, карамба.
– Ты никогда на нас не глядел, когда шел мимо толкучки, дедуня?
– Нет. Никогда. Не интересуюсь я такой…
– В этом и дело. А тебе бы на нас поглядеть получше. Мы вот тебя заприметили, уж который месяц тебя примечаем, иль не так, Брадобрей?
– Точно. Много лет и счастливых деньков, Покахонта. Я б на твоем месте обиделся, ей-бо, что старикашка на тебя не зырит, ты вся такая видная, такая краля, походочка вихлястая, не хуже Танголеле.
– Вот видишь, Фу Манжу, ты меня обидел. Никогда на меня не смотрел. Ну, теперь ты меня не скоро забудешь.
– Хватит разоряться, братва. Давай распахни шкапчики, Покахонта. А потом пусть ребята выносят мебелишку и лампы.
– Как скажешь, Артист.
– А тебе говорю – займись старичком, Брадобрей.
– Момент, никогда еще не случалось брить такого знатного кабальеро, чтоб тебя…
– Глянь-ка, Артист, сколько шляп у этого дохляка, сколько обувки, вот это да, не старик, а сороконожка.
– Денег навалом.
– Чего вы от меня хотите?
– Чтоб ты тихо сидел. Дай я тебя хорошенько намылю.
– Не трогайте мое лицо.
– Уй, сначала на нас и не глянь, а теперь меня и не тронь. Если будешь смирным, дохляк…
– Полюбуйтесь-ка, ребятки, или я не хороша?
– Ну, даешь, Покахонта! Где ты раскопала эти махры?
– В магазине на витрине! Вон, три шкафа, полные хламья, настоящая барахолка, ребятки! Бусы, шляпы, чулки синие и красные, все, что душе угодно, клянусь родной мамочкой.
– Не сметь. Не трогать вещи моей мамы.
– Помалкивайте, дон Дохляк. Слово, что мы вас не тронем. Чего трепыхаетесь? Эти вещички вам совсем ни к чему, одно старье, все ваши лампы и пепельницы и другое барахло, на кой черт они вам сдались, а?
– Вам не понять, дикари.
– Слышь, ребята, как он нас?
– Ну, дядя, это ты зря. Если у меня кожаная жилетка на голое брюхо и если у тебя, Покита, перья на голове, значит, мы настоящие дикари, так сказать, последнее ха-ха ацтеков? Так вот, дон Дохляк, отсюда мы выйдем пышно убратые, я – в твоих шмотках, а моя Покита в одежде твоей мамаши, за тем мы сюда и пришли.
– Украсть одежду?
– Все, старикан, твою одежу, твою обстановку, ложки – чашки, все.
– Но зачем, какая этому цена…
– В том и дело. Нынче моль в цене.
– Вы хотите продать мои вещи?
– Уй, в Лагунилье это с ходу пойдет, как твой драндулет «акапулькоголд», а что выручим за манатки, старый…
– Сначала ты выберешь для себя вещички, моя красотка Покита, лучшие бусы, самую яркую горжетину, все, что тебе по нраву, моя жаркая.
– Не болтай, Артист. Не распаляй меня, мне и так приглянулась эта беленькая постелька, вдруг еще захочется нырнуть в нее, с тобой вместе.
– Опять?
– Да хотя бы. Ну, а сейчас к делу, не отвлекайся, мой милый Артист.
– Брадобрей, работай живее.
– Глядите, как я его разукрасил, вся харя в пене, как сам Сантиклос.[45]45
Искаженное Санта-Клаус.
[Закрыть]
– Оставьте меня, довольно, сеньор.
– Что-что? Ну-ка, головку набок, побреемся как след.
– Говорю вам, хватит.
– А теперь головку влево, будьте вежливы.
– Не трогайте меня за голову, вы меня растрепали!
– У-тю-тю, детка, тихо, милок.
– Несчастные побирушки.
– Что ты сказал, старый хрен?
– Мы – побирушки?
– Побирушки те, кто побирается, слышь, дохлятина? Мы – берем.
– Вы – чума, мерзость, зараза.
– Что-что, старикашка? Эй, Артист, может, он нализался иль накурился?
– Да нет, его зло разбирает, что он уже падаль, а мы только на свет народились.
– Сука вас народила, всех вас, тараканы, крысы, паразиты проклятые.
– Осторожно, Фу Манжу, ты мою маму не трожь, тебе говорю – не надо…
– Осторожно, Брадобрей.
– Вот вы, которого зовут Брадобрей, вы…
– Что скажешь, мой птенчик?
– Вы – самый мерзкий подонок, самая гнусная сволочь, какую я только знал. Я запрещаю хватать меня за голову. Если вам хочется, хватайте за что угодно свою мать, сучье отродье поганое.
– Ах ты, пас-с-скуда, ну… получ-ч-чи.
4
Среди бумаг Федерико Сильвы было найдено письмо, адресованное донье Марии де лос Анхелес Валье, вдове Негрете. Душеприказчик отправил его, и старая сеньора, перед тем как читать, подумала о своем друге, ее глаза наполнились слезами. С неделю как умер, а теперь вдруг это письмо, им написанное, когда же?
Вскрыла конверт и вынула листок. Дата не значилась, хотя место отправки было указано: Палермо, Сицилия, без даты. Федерико писал о подземных толчках, которые ощущаются в последнее время. Специалисты предсказывают сильное землетрясение, Гораздо более страшное, чем то, которое было на острове в 1964 году. Он, Федерико, предчувствует, что здесь и окончится его жизнь. Он не подчинился приказу об эвакуации. У него есть на это свои причины: его желание покончить с собой будет исполнено самой природой. Он затаился в номере отеля и смотрит на сицилийское море, пенное, как сказал бы Гонгора, и как это прекрасно, что можно умереть в таком дивном месте, вдали от всякого безобразия, бесцеремонности, уродования прошлого – всего того, что он так ненавидел в жизни.
«Моя дорогая, помнишь ли ты ту рыжеволосую девицу, которая устроила скандал в «Негреско»? Ты вправе думать, что я так примитивен и жизнь моя была так монотонна, что я навсегда остался зачарован обликом прекрасной женщины, не захотевшей мне принадлежать. Я видел, как ты, Перико, маркиз и все мои друзья старались обходить эту тему. Бедный Федерико. Потерпел, мол, фиаско в своем единственном любовном приключении, потом состарился возле деспотичной матери и вот умер.
Хотя вы и правы по существу, но видите лишь внешнюю сторону дела. Ведь я никому ничего не рассказывал. Когда я попросил ту девушку остаться, провести ночь со мной, она отказалась, бросив такую фразу: «Да будь ты последним мужчиной на всей земле». Но эта обидная фраза, веришь ли, спасла меня. Просто я сказал себе, что в любви нет последних, только лишь в смерти. Только смерть может нам сказать: Ты – последний. Больше нет ничего, больше нет никого, Мария де лос Анхелес.
Эта фраза могла унизить меня, но не испугать. Хотя поженился я все же из страха. Я боялся передать своим сыновьям то, что во мне заложено матерью. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю, наше воспитание весьма схоже. Я счел нецелесообразным дать дурное воспитание сыновьям, которых не было. Не в пример тебе. Прости за откровенность. Ситуация, думаю, ее извинит. В любом случае, назови это как хочешь: боязнью согрешить, обыкновенной скаредностью, нежеланием плодить себе подобных.
Конечно, за малодушие приходится расплачиваться, когда родители умирают и, как в моем случае, не имеешь потомства. Навсегда теряешь возможность дать сыновьям что-то лучшее или что-то другое, чем то, что получил от своих родителей. Не знаю. Верно одно: что ни делай, всегда рискуешь разочароваться или ошибиться. Если, например, такой католик, как я, должен вести девчонку на операцию или, еще хуже того, посылаешь ей со слугой деньги на аборт, чувствуешь себя грешником. Но, может быть, эти нерожденные сыновья спаслись, не попав в наш мерзкий жестокий мир? Или наоборот: попрекают тебя тем, что им отказано испытать жизнь, искусить судьбу, называют тебя преступником, трусом? Не знаю.
Я в самом деле боюсь, что все вы запомните меня именно таким – растерянным, трусливым. Поэтому я и решил написать тебе сейчас, перед смертью. У меня была одна любовь, только одна, – ты. Любовь, которой я проникся к тебе в пятнадцать лет, сохранилась на всю жизнь, до самой смерти. Теперь я могу признаться, что ты отвечала и моему намерению оставаться холостым, и моей потребности любить. Не уверен, поймешь ли ты меня. Но только тебя я мог любить, не изменяя остальным своим убеждениям и правилам. Такой человек, каким был я, и должен был любить тебя только так, как любил я: постоянно, молча, безрадостно. И в то же время именно потому, что я любил тебя, я стал таким, каким был: одиноким, замкнутым, очеловеченным лишь некоторой долей юмора.
Не знаю, сумел ли я выразить свои мысли, смог ли я разобраться в себе самом. Все мы думаем, что хорошо себя знаем. Глубочайшее заблуждение. Подумай обо мне, вспомни меня. И ответь, сможешь ли ты объяснить то, о чем я тебе теперь скажу. Это, наверное, единственная загадка моей жизни, и разгадать я ее не смог до самой своей смерти. По ночам, перед тем как лечь, я выхожу на балкон своей спальни подышать воздухом. Я стараюсь уловить дуновение грядущего утра. Мне удавалось ощутить запах озера, погубленного городом, тоже погубленным. С годами это дается мне все труднее.
Но не это истинная причина, почему я выхожу на балкон. Часто, когда я там стою, меня начинает бить дрожь, и я с замиранием сердца чувствую, что этот час, эта свежесть, это вечное предвестие бури – хотя бы из пыли, нависшей над Мехико, – могут заставить меня действовать по какому-то безотчетному побуждению, как зверя, укрощенного в этой среде и бродящего на свободе в другой, оставшегося диким где-то на иных широтах. Я боюсь, что вернется, во тьме или с молнией, в ливне или с вихрем пыли, призрак зверя, которым могу быть я сам или мой нерожденный сын.
У меня внутри – зверь, Мария де лос Анхелес, можешь ты это себе представить?»
Старая сеньора поплакала, пряча письмо в конверт. И замерла вдруг в испуге, вспомнив историю о гильотине, которой Федерико пугал ее по субботам. Нет, она не ходила смотреть на покойника, на горло, перерезанное бритвой. Перико и маркиз не столь чувствительны, они ходили.
IV. Сын Андреса Апарисио
Памяти Пабло Неруды
«Нет ни святилища у него, ни кровли».
Письмо Милены
Место
Оно не имело имени и потому не считалось местом жительства. У других районов было название. У этого – нет. Будто по недосмотру. Будто подросший ребенок, которого не крестили. Хуже того: которого даже никак не прозвали. Никто утруждать себя не хотел. Да и для чего называть это место? Может, так и сказал кто-нибудь, не желая ломать голову, – ведь люди тут долго не задерживались. Как проходной двор – и само место, и его лачужки из картона и гофрированного железа. Ветер гулял среди их наскоро сделанных корявых стенок, солнце навсегда поселилось на их железных крышах. Вот кто действительно здесь жил постоянно. Люди попадали сюда случайно, сами не зная как, растерянные, потому что совсем ничего – еще хуже, потому что эти обширные пустыри с приземистыми зарослями сенисы[46]46
Лекарственное растение, популярное в Мексике.
[Закрыть] и гобернадоры[47]47
Лекарственное растение, похожее на полынь.
[Закрыть] были границей, отделявшей их от кварталов с названием. Здесь – ни названия, ни сточной канавы, а электричество крали со столбов, подсоединяя к линии провода своих ламп. Названия месту не давали, потому что не думали тут оставаться. Никто не считал эту землю своей. Все были «парашютисты»[48]48
«Парашютистами» в Мексике называют тех, кто заселяет земли без разрешения властей.
[Закрыть] и словно заключили молчаливый уговор: убраться отсюда по первому требованию. Тогда они пойдут к другой городской границе. Во всяком случае, время, проведенное здесь, где не надо платить за квартиру, – это выигранное время, передышка. Многие пришли сюда из более благоустроенных районов, с названиями: из Сан-Рафаэля, Бальбуэны, с Северного Канала, даже из Несауалькойотля, где уже обитают, мало – мальски прилично, два миллиона, имеется железобетонная церковь и даже супермаркет. Пришли, потому что не смогли прижиться и в этих бедняцких районах и не захотели принести в жертву жалкие остатки собственного достоинства, не пожелали стать сборщиками мусора или посыпать песком дорожки в парке Чапультепек. Бернабе однажды вдруг подумал: у этого места нет прозвища, потому что оно само как столица, тут есть все самое плохое, но, может быть, и все самое хорошее, это как поглядеть, и потому оно не нуждается в собственном имени.
Он не мог точно выразить свои мысли, ибо слов ему всегда не хватало.
У его матери сохранилось старое зеркальце, и она часто в него смотрелась. А Бернабе, понятно, смотрел вокруг, на это захудалое место, где в зимнее время живая земля хоронится под сухими струпьями, где весной взвиваются вверх столбы пыли, а летом проливные дожди смешивают потоки грязи со струями нечистот, круглый год текущими в поисках выхода, которого нигде не находят. Откуда льется вода, мама? Куда бежит дерьмо, папа? Бернабе научился дышать не спеша, медленно вдыхать грязный воздух, прижатый к земле холодными облаками, стиснутый кольцом гор. Поверженный воздух, который едва вставал на ноги, покачиваясь на равнине Мехико, устремляясь в открытые рты. Своей мыслью он не поделился ни с кем, потому что со словами у него не ладилось. Все застревали где-то внутри. Слова ему трудно давались, потому что то, что говорила его мать, никак не вязалось с окружающим; потому что его дяди старались громко хохотать и весело улюлюкать, показывая, будто бы им очень хорошо живется, один день в неделю, а потом тащились в банк и на бензоколонку, но главное, потому что он забыл голос своего отца. Уже одиннадцать лет они жили здесь. Никто их не трогал, никто не гнал. Никто не требовал убираться отсюда. Уже успел умереть слепой старикан, который играл на гитаре и пел для столбов с проводами песню об электрическом токе: «свет электричества сияет, искрится». Почему, Бернабе? Дядя Росендо говорил, что это как злая шутка. Пришли сюда ненадолго, а застряли на одиннадцать лет. И если они здесь уже одиннадцать лет, то будут всегда.
– Один твой папочка вовремя смылся, Бернабе.
Отец
Отца вспоминали только вместе с его подтяжками. Он никогда не снимал их, словно бы в них было его спасение. Говорили, они привязывают его к жизни, но если бы он сам был, как они, оказался бы более податливым. Все замечали, как снашивается его одежда, но не подтяжки, они всегда оставались новыми, сверкающими, с позолоченными зажимами. Его подтяжки, как и его благородство, стали легендой, говаривали старики, еще употреблявшие подобные словечки. Нет, говорил ему дядя Ричи, просто твой отец был упрям как мул и не мог забыть прошлое. В школе Бернабе подрался с одним нахальным верзилой, который все допытывался, где его папа, а когда Бернабе ответил, что умер, верзила расхохотался и сказал, мол, так все говорят, а на самом деле папы не умирают, просто твой папа тебя бросил, а может, ты вообще его никогда не видал, он пожил с твоей мамой да бросил ее, когда ты еще и на свет не родился. Упрямый, но хороший был человек, сказал дядя Росендо, понял? Когда он не улыбался, он выглядел совсем старым, а потому он все время улыбался, без всякой причины, ох, и чудак был муженек Ампарито, скалил зубы да скалил, ну совсем без всякой причины, а самого горечь снедала, выучился он на агронома, и послали его, совсем желторотого, помочь кооперативу в одной деревне, в штате Герреро, он тогда только женился на твоей маме, Бернабе. Приехал он туда, а деревня вся дотла сожжена, многие кооператоры убиты, а урожай присвоили касик и владельцы грузовиков. Отец твой стал правду искать, даже полез к центральным властям, в верховный суд, чего только не говорил, чего не обещал, чего не затевал. Он первый раз в жизни сунулся в заваруху и повернул слишком круто. Когда в деревне пронюхали, что туда чужаки придут порядок наводить и за преступления карать, все объединились, жертвы и палачи, выступили против твоего отца да еще обвинили его самого. Мол, лезет в чужие дела, ищет, дурень, какую-то справедливость, смуту сеет – чего только ему не наговорили. Все они были одной веревочкой повязаны, их соединяла древняя вражда, соперничество, убийства. Справедливость устанавливали они сами, сами знали, что такое честь и достоинство, и не нуждались в защите пришлого инженеришки. Когда прибыли федеральные власти, все, даже братья и вдовы убитых, сказали, что во всем виноват твой отец. Они лишь посмеивались: пусть государственный суд разбирается со своим государственным агрономом. Он, как говорится, так и не очухался от удара. Начальство на него посматривало с подозрением, считало идеалистом, который не понимает жизни, и по службе не продвигало. Так и сидел он за своим столом, без надбавок, без премий, с одними долгами, а все потому, что в нем надломилось что-то, погас огонек в душе, как он говорил, а сам все улыбался, оттягивая подтяжки большими пальцами. Что тут поделать. Справедливость, наверное, не в ладах с любовью, скажет он иногда, эти люди прощают друг другу даже преступления, их любовь сильнее моих посулов и слов о справедливости. Это все равно что навязывать им мраморную статую прекрасной греческой богини, когда у них уже есть своя – черненькая, страшненькая, но любимая и такая теплая под простыней. Чего еще хотеть? Твой папа, Андрес Апарисио, все время думал, улыбался и думал, о горах Юга, об индейской деревушке, затерянной в глуши, без дорог, без телефона, где время определяют по звездам, новости сообщают по памяти и где только одно совершенно точно: каждый будет похоронен вместе с другими, на том же участке земли, с розовыми ангелами и сухими желтыми семпасучилями,[49]49
Кладбищенские цветы.
[Закрыть] и все это знали. Эта деревня объединилась и разбила его в пух и прах, видишь ли, сродство душ объединяет крепче, нежели справедливость, а тебя, Бернабе, кто тебя так избил? почему у тебя опухла губа и ухо в крови? Но Бернабе не стал говорить своим дядям о том, что сказал ему нахальный верзила в школе, и о том, что они подрались на кулачках, потому что Бернабе не умел объяснить верзиле, кто был его отец, Андрес Апарисио, не получалось у него со словами, и впервые, еще неосознанно, смутно, не вдумываясь, почувствовал, что если нет слов – есть кулаки. Но ему действительно очень хотелось сказать этой сволочи, паразиту, что его отец умер, ибо только это сохраняло его достоинство, ибо мертвыц имеет власть над живыми, хотя бы и кончил плохо. Мертвых надо уважать, или нет, черт подери?
Мать
Она всегда старалась говорить вежливо и правильно, а ее характер – сентиментальный, но сухой, романтический, но жесткий – словно бы сформировал ее лексикон, чтобы в этом захудалом месте был сохранен такой язык, на котором тут уже никто не говорил. Лишь кое-кто из стариков, тех, что твердили о вошедшем в легенду благородстве ее мужа,
«Андреаса Апарисио, ей вторили, а она упорно накрывала В стол скатертью, расставляла столовые приборы, говорила: нельзя приступать к еде, пока все сидящие за столом не наполнят тарелки, нельзя вставать из-за стола раньше нее, женщины, супруги, хозяйки дома. Она всегда начинала просьбу с «пожалуйста» и просила других не забывать слово «пожалуйста». В ее жилище всегда говорили «будьте как дома», принимали гостей, когда еще приходили гости и даже отмечали дни рождения, праздник волхвов, рядились паломниками, как в старину, зажигали свечи и разбивали горшок с подарками. Но так бывало, когда здесь жил ее муж, Андрес Апарисио, и приносил жалованье из министерства сельского хозяйства; теперь, не получая никакой пенсии, она не могла звать гостей, теперь заходили одни старики, которые обменивались с ней такими словами, как «великолепно» и «несомненно», «прошу прощения» и «разрешите», и всякими прочими изысканностями и извинениями. Но и старики мало-помалу сходили на нет. Они прибывали с огромными семьями, представлявшими три, а то и четыре поколения – как бусинки, нанизанные на одну нить, – но уже лет через десять можно было увидеть только К подростков и детей, а стариков, говоривших красивые слова, приходилось искать, как иголки в пресловутом стоге сена. С кем разговаривать, когда все ее старики умрут? – думала она, глядясь в зеркальце в круглой посеребренной оправе, доставшееся ей от матери, когда они жили все вместе на улице Гватемала до того, как была разморожена квартирная плата и домовладелец Федерико Сильва без всякого сожаления повысил плату и им. Она не могла поверить, что это распоряжение самого хозяина, думала – воля его матери, алчной и деспотичной доньи Фелиситас, но позже соседка по дому донья Лурдес сказала, что мать сеньора Сильвы скончалась, а он так и не понизил квартплату, отнюдь нет. Когда Бернабе подрос, он старался усвоить ровную обходительность матери, ее манеру ласково и красиво говорить на людях, но не смог. Чувствительной она становилась, лишь когда говорила о бедности или об отце, но и злее не говорила ни о чем другом. Бернабе не понимал смысла таких сценических перевоплощений своей мамы, но зато понял, что не стоит всерьез принимать слова, которые она произносит, словно бы между ее словами и делами – глубокая пропасть, ты, Бернабе, из приличной семьи, не забывай об этом, не дружи с хулиганами в школе, держись от них подальше, помни, что ты обладаешь бесценным сокровищем – порядочными родителями и хорошим воспитанием. Только дважды его мама Ампаро была совсем другой. Первый раз, когда услышала, как Бернабе грубо выругался на улице; войдя в лачужку, он увидел, как она в отчаянии уронила голову на туалетный столик, прижав к вискам кулаки, а зеркальце выскользнуло у нее из рук прямо на пол: Бернабе, я не смогла дать тебе то, что хотела, тебе тут не место, ведь ты родился и рос не здесь, как это несправедливо, Бернабе. Но зеркало не разбилось. Бернабе никогда ни о чем ее не расспрашивал. Он понял: когда она сидит за столиком с зеркалом в руке и поглядывает на себя, разглаживая подбородок, задумчиво трогая пальцем брови, стирая ладонью брызги времени под глазами, его мама разговаривает, и этот немой разговор значил для него больше, чем все ее слова, потому что умение выражать свои мысли вслух всегда представлялось Бернабе почти чудом, для разговора ему требовалось больше мужества, чем для драки, ибо тумаки заменяли слова, только они. Второй раз мама была другой, когда он вернулся из школы после стычки с верзилой, он не знал, разговаривает ли мама с собой или услышала, что он уже пришел, уже там, за одеялами, которыми его дяди разгородили домишко и каждое воскресенье понемногу его перестраивали, заменяя картон адобами,[50]50
Кирпичи-сырцы.
[Закрыть] а адобы кирпичами, создавая видимость достатка, в каком они жили, когда их отец был адъютантом генерала Висенте Вергары, знаменитого легендарного генерала Вырвихвоста, который пригласил их одним погожим утром в конце ноября на завтрак по случаю годовщины Мексиканской революции. Теперь все иначе; Ампарито права, старики умирают, а молодые ходят с постными лицами. Андрес Апарисио был не такой, нет, он всегда улыбался, чтобы не выглядеть старым. И было у него благородство, ставшее притчей во языцех. Только однажды улыбка сбежала с его лица. Здесь, в этом месте, один человек сказал ему что-то гнусное, и твой папа забил того до смерти, ногами, Бернабе. И мы его больше никогда не видели. О сынок, как же тебя изуродовали, сказала наконец донья Ампарито, бедный мой сын, зачем ты дрался? перестала смотреться в зеркальце, взглянула на сына, мальчик мой дорогой, крошка моя дорогая, как же тебя избили, миленький мой, и зеркальце упало на новый кирпичный пол, и теперь оно разбилось вдребезги. Бернабе смотрел на нее и не удивлялся приливу нежности, которую она ему так редко дарила. Она не отрывала от него взгляда, словно бы понимала, что он понимает, что не ‘должен удивляться материнской ласке или что нежность доньи Ампарито была такой же временной, как житье в этом скверном месте, где они жили уже одиннадцать лет, куда никто не являлся с приказом убраться, а дяди заменяли картон адобами, адобы – кирпичами. Мальчик спросил, правда ли, что отец умер. Она сказала, что никогда не видела его мертвым во сне. Ответила ему словами ясными и точными, дав сыну понять, что ее холодное здравомыслие вовсе не растворилось в нежности. Лишь когда она увидит во сне своего мужа мертвым, она будет считать его мертвым, таков был ее ответ. И вдруг стала совсем другой, словно раскрылась, сделалась сразу и твердой и мягкой, подойди, обними меня, Бернабе, я люблю тебя, миленький мой, золотой мой, слушай меня и запоминай. Никогда не убивай за плату. Никогда не убивай, не зная за что. Если случится убивать, убивай по своему разумению, по велению сердца. И ты навсегда останешься чист и силен. Никогда не убивай, сынок, не получая взамен от жизни хоть немного, дорогой мой.







