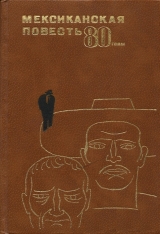
Текст книги "Мексиканская повесть, 80-е годы"
Автор книги: Хосе Эмилио Пачеко
Соавторы: Карлос Фуэнтес,Рене Авилес Фабила,Серхио Питоль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
IX. Обязательный курс английского
Молодой человек задавал мне вопросы и записывал ответы на разлинованных желтых листах. Отвечал я явно не то. Профессионального его жаргона я не понимал, а потому между нами и не могло возникнуть взаимопонимания. Я и вообразить никогда не мог того, что он стал выспрашивать по поводу матери и сестер. Меня заставили рисовать каждого члена нашей семьи, деревья, дома. Потом испытывали тестом Роршаха (найдется ли человек, который не увидит чудищ среди чернильных пятен?); в других тестах были числа, геометрические фигуры, фразы – их надо было дополнить, дорисовать, дописать. Все это было так же бессмысленно, как и мои ответы.
«Что вам больше всего нравится?» Лазить по деревьям, перелезать через ограды старинных домов, есть лимонное мороженое, люблю дождливые дни, приключенческие фильмы, романы Сальгари. Нет-нет, пожалуй, больше всего я люблю, проснувшись, понежиться в постели. Но даже по субботам и воскресеньям отец заставляет меня вскакивать в полседьмого и делать зарядку. «Что вам больше всего не нравится?» Жестокость к людям и животным, насилие, крик, злобная пристрастность, издевательства старших братьев и сестер, арифметика; не люблю также, что некоторым есть нечего, а другие все хапают; не переношу, когда в рисе или в жарком попадаются дольки чеснока; не могу спокойно видеть, как рубят деревья или причиняют им боль; неприятно, если хлеб бросают в мусорный ящик.
Девушка, тоже занимавшаяся со мной тестами, принялась разговаривать с молодым человеком. Разговор шел при мне, словно я предмет мебели. «Все совершенно ясно, доктор, типичный эдипов комплекс. Коэффициент интеллекта у мальчика значительно ниже нормы. Слишком много опеки, подчинения. Чересчур властная мать, подавляет его. Судя по всему, имела место ситуация, вызванная первичной привязанностью: мальчик пошел к этой сеньоре, надеясь застать ее с любовником». – «Извините, Элисита, не могу с вами согласиться; полагаю, все обстоит как раз наоборот: мальчик исключительно умный, с таким ранним развитием, что в свои пятнадцать лет вполне может свихнуться. Атипичное поведение – результат отсутствия должной опеки, а также следствие чрезмерной ригидности обоих родителей, острого чувства неполноценности; учтите, что он слишком маленького для своих лет роста, притом младший из двух братьев. Обратите внимание и на то, как он идентифицирует себя с жертвами – животными и деревьями, не способными защитить себя. Он ищет тепла и ласки, которых не находит в семейной ауре».
Мне хотелось крикнуть им: «Кретины, вы бы хоть договорились между собой сначала, прежде чем вываливать при мне это словесное дерьмо, да еще на языке, который заучили, как попугаи, а сами не понимаете. Ну почему нужно на все ярлыки наклеивать? Почему вы не можете допустить, что просто кто-то в кого-то влюбился? Вы сами – разве вы никогда ни в кого не влюблялись?» Тип подошел ко мне и сказал: «Можешь идти, малышка. Результаты тестов мы передадим твоему папочке».
Отец дожидался меня в приемной, он сидел с очень серьезным видом, листая затрепанные номера «Лайф», «Лук», «Холидей», без меры гордый тем, что может бегло читать их. Он только что лучше всех в группе взрослых сдал экзамены на ускоренных курсах английского языка, куда ходил по вечерам, все время занимался по учебникам, заводил пластинки. Чудно было видеть, как человек в летах (настоящий старик – ему 42 исполнилось) занимается словно школьник. Рано утром, сделав зарядку, еще до завтрака, он повторял формы неправильных глаголов: be, was, were, been; have, had, had; get, got, gotten; break, broke, broken; forget, forgot, forgotten[93]93
Формы глагола «быть», «иметь», «брать», «разбивать», «забывать» (англ.).
[Закрыть] – и старался добиться правильного произношения в словах apple, world, country, people, business;[94]94
Яблоко, мир, страна, народ, дела (англ.).
[Закрыть] слова эти для Джима были естественными, а для моего отца – необычайно трудными.
Потянулись страшные недели. Один только Эктор мне сочувствовал: «Ну ты и дал, Карлитос. Всем показал, это я понимаю. Надо же: в твоем возрасте – и не побоялся поклеиться к этой бабе; она ведь настоящая красотка, соблазнительней Риты Хайворт. Что будет, что будет, дружище Карлос, когда ты вырастешь? Ну молодец, только так и надо: с малых лет бросайся на ба, б, хватай их, даже если пока ничего не получается, не разевай варежку. Здорово, ей – ей, здорово; ведь сколько у нас в семье баб, впору самим обабиться, – а вон нет же! Только ты, Карлос, смотри берегись: как бы этот гад не узнал все, не подослал к тебе наемных убийц – они такое с тобой сделать могут…» – «Но, Эктор, послушай меня, ты все преувеличиваешь. Я всего-навсего сказал ей, что влюбился. Что в этом плохого? Никак не пойму, правда, с чего такой сыр-бор разгорелся».
«Рано или поздно такое должно было произойти, – твердила мать. – А все из-за жадности вашего папы: денег, видите ли, у него на собственных детей не хватает, зато вполне хватает на другие цели; из-за этого, бедняжка, ты и попал в школу для голодранцев. Подумать только: туда приняли даже сына этой бог знает что. Надо будет отдать тебя в школу, где учатся только дети из семей нашего круга». А Эктор говорил: «Какого такого круга, мама? Мы же самое что ни на есть ни рыба ни мясо, середнячок, типичная мексиканская семейка, знавшая лучшие времена семейка из колонии Рома – это и есть сейчас главный класс в Мексике, наш круг. Карлитосу и эта школа подходит. Она как раз соответствует нашему уровню. Да и куда еще вы его денете?»
X. Огненный дождь
Мать стояла на том, что наша семья – то есть ее семья – одна из самых уважаемых в Гвадалахаре. В ней никогда не мог случиться скандал вроде того, которому я стал причиной. Мужчины в ней все были честные и работящие. Женщины – набожные, самоотверженные супруги, образцовые матери. Дети – послушные и почтительные. Но потом началось все это непотребство и смута: грязные индейцы и голодранцы принялись вымещать свою злобу на всех достойных людях из хороших семей. Революция[95]95
Имеются в виду новые власти в центре и на местах, появившиеся после революции 1910–1917 гг.; утверждалось, что они «наследники» революции, продолжающие ее.
[Закрыть] – точнее говоря, все тот же всесильный местный касик – прикарманила наши ранчо и наш дом на улице Сан-Франсиско под тем предлогом, что из нашей семьи вышло много руководителей «кристерос». А в довершение всего мой отец, которого мать в глубине души презирала (хотя у него был диплом инженера, родился он в семье портного), разбазарил полученное от тестя наследство, бросившись в бессмысленные авантюры вроде создания местной авиалинии, которая должна была связать города центральной части страны, или учреждения фирмы по экспорту текилы в Соединенные Штаты. На деньги, что позже ему одолжили материны дядья, отец купил мыловаренный завод; тот вполне оправдывал себя в годы войны, но теперь североамериканские фирмы заполонили национальный рынок, и дело шло к разорению.
Поэтому, не уставала повторять мать, мы и попали в этот распроклятый Мехико. Гнусное место, Содом и Гоморра, ему суждено погибнуть от дождя огненного, сущий ад, где возможны такие кошмарные вещи, как совершенное мною преступление, – в Гвадалахаре это было бы совершенно немыслимо. Поганый федеральный округ – в нем нам приходилось страдать и унижаться, живя вперемешку со всякой швалью. Кругом зараза, дурные примеры. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Как могли, – повторяла мать, – в школу, считающуюся приличной, принять незаконного сына (что такое сын незаконный?), а проще говоря, ублюдка этой публичной женщины? У этой шлюхи в постели столько клиентов побывало, что неизвестно, кто из них отец этого ребенка». (Что такое ублюдок? Что такое, публичная женщина? Почему мать называет маму Джима шлюхой?)
Мать и думать забыла об Экторе. Он гордился тем, что был боевиком в университете, похвалялся, что он один из ультраправых активистов, добившихся отставки ректора Субирана, и был в числе тех, кто своими руками стирал слова «Бога нет» на мурале Диего Риверы в гостинице «Прадо». Эктор читал «Майн Кампф», книги о фельдмаршале Роммеле, «Краткую историю Мексики» досточтимого Васконселоса, «Гараньон в гареме», «Ночи ненасытной гетеры», «Мемуары нимфоманки», порнографические книжонки – их выпускали в Гаване и из-под полы продавали на улице Сан-Хуан де Летран и около отеля «Тиволи». Отец глотал книги «Как обзавестись друзьями и преуспеть в делах», «Научись владеть самим собой», «Сила позитивного мышления», «Жизнь начинается в сорок лет». Мать, занимаясь делами по дому, слушала все радиосериалы, а иногда отдыхала, читая романы Уго Уэста или М. Делли.
Поглядеть сегодня на Эктора – кто бы мог подумать, каким он был в молодые годы! Теперь это подтянутый пятидесятилетний сеньор, облысевший, степенный, элегантный – вот каким сейчас стал мой брат. Такой солидный, уверенный в себе, серьезный, набожный, респектабельный, по всем статьям достойный своей роли делового человека, связанного с транснациональными корпорациями. Настоящий кабальеро – католик, отец одиннадцати детей, видный представитель крайне консервативных кругов Мексики (в этом, надо отдать ему должное, он до конца и без колебаний оказался последовательным).
Но в то далекое время служанки в ужасе отбивались от «молодого сеньора», пытавшегося силой овладеть ими; вдохновленный боевым лозунгом молодчиков из своей шайки «Мясо служанок дешевле баранок», Эктор, в ночной рубашке, возбужденный, распаленный порнографическими книжками, врывался в полночь в комнатку в мансарде, где жила прислуга, пытался изнасиловать очередную девушку, и, хотя ему и не удавалось добиться своего, от крика просыпались родители, мы все, в том числе и сестры, сбивались в кучу у винтовой лестницы, жадно следя за происходящим; отец с матерью ругали Эктора, грозились выгнать его из дома и тут же увольняли служанку – она, конечно, была главной виновницей, ведь она раздразнила «молодого сеньора». Эктор то и дело лечился от дурных болезней, которыми его награждали проститутки с Меаве и даже с улицы 2-го Апреля; он участвовал в кровавых стычках соперничавших банд с берегов речки Пьедад; как-то ему камнем выбили зубы, и он в ответ железным прутом раскроил череп какому-то слесарю; в другой раз, накачавшись наркотиками с друзьями из парка Уруэта, он устроил погром в ближайшем китайском ресторанчике; отцу пришлось обивать пороги муниципалитета, платить штраф, возмещать убытки, крутиться, используя знакомства, чтобы Эктор не оказался в Лекумберри. Когда я услышал рядом с именем Эктора слово «наркотики», я подумал было, что он у кого-то занял деньги: у нас в семье в шутку именно этим словом называли долги (в этом смысле отец мой был полный и безнадежный наркоман). Потом сестра Исабель объяснила мне, что на самом деле означает это слово. Неудивительно, что Эктор проникся ко мне самыми теплыми чувствами: на какое-то время в нашей семье я заменил его в роли паршивой овцы.
XI. Призраки
А еще в начале года случился переполох в доме из-за того, что Эстебан стал женихаться с Исабель. В тридцатые годы Эстебан еще мальчиком стал знаменитым, снимаясь в детских фильмах. Потом он вырос, детский голосок у него пропал, и невинное личико тоже. Ролей в кино и в театре ему не давали; Эстебан зарабатывал на жизнь, почитывая юмористические рассказики на XEW, пил по-черному и надумал, женившись на Исабель, попробовать счастья в Голливуде, хотя ни слова по-английски не знал. Он приходил к невесте пьяный, потеряв галстук, от него разило спиртным, костюм был весь в пятнах и лоснился, туфли забрызганы грязью.
Страсти Исабель никто не мог понять. А она была фанатичной любительницей кино. И в ее глазах Эстебан был принцем, звездой экрана, она видела его в кино в золотую его пору, к тому же Тайрон Пауэр, Эррол Флинн, Кларк Гейбл, Роберт Митчум или Кэри Грант были для нее недостижимы, а с Эстебаном она могла вволю целоваться. И неважно, что звездой он был когда-то, и всего-навсего мексиканского кино (над этим обстоятельством в семье особенно охотно издевались: отечественный кинематограф у нас любили примерно так же, как Мигеля Алемана с его режимом). «Нет, только посмотри, какое лицо у этого Педро Инфанте – просто шоферюга!» – «Еще бы, потому он так этому быдлу и нравится».
Как-то ночью отец ужасно расшумелся, стал выгонять Эстебана из дома: он поздно вернулся со своих занятий английским и застал жениха и невесту в полутемной гостиной как раз в тот момент, когда артист запустил руку под юбку Исабель. Эктор догнал Эстебана на улице, принялся его бить, свалил наземь, пинал ногами; Эстебан, весь окровавленный, все же с трудом поднялся и убежал. Исабель с Эктором больше не разговаривала, да и мне по любому поводу выказывала свою неприязнь, хотя я-то пытался Эктора остановить, когда он топтал беднягу Эстебана, валявшегося на земле. Исабель с Эстебаном никогда больше не встречались; некоторое время спустя, добитый жизненными неудачами, бедностью и пьянством, Эстебан повесился в захудалой гостинице где-то на улице Такубайя. Иногда по телевидению показывают фильмы с его участием; мне кажется, что передо мной оживает призрак.
Единственным светлым пятном в моей жизни в ту пору было то, что меня поселили в отдельной комнате. До этого мы спали с младшей сестренкой Эстелитой на одинаковых кроватках. Но когда я был изобличен как развратник, мать решила, что ее младшей дочери грозит опасность. Эстелиту перевели к старшим сестрам, к большому неудовольствию Исабель, учившейся в последнем классе в школе, и Росы Марии, которая только что окончила курсы машинисток со знанием испанского и английского языков.
Эктор просил, чтобы нас поселили вместе. Но ему было отказано. После очередных подвигов, окончившихся разговором в полиции, и новой попытки изнасиловать служанку Эктора на ночь загоняли в подвал и запирали на большой висячий замок. В подвале у него были только старый тюфяк и простыни. А комнату, где он спал прежде, отец приспособил, чтобы хранить подальше от нескромных взглядов бухгалтерскую отчетность по заводу; там же он в тысячный раз повторял свои уроки английского, заводил пластинки. At what time did you go to bed last night, that you are not yet up? I went to bed very late, and I overslept myself. I could not sleep until four o’clock in the morning. My servant did not call me, therefore I did not wake up.[96]96
В котором часу вы вчера легли спать, что до сих пор еще не встали? Я лег очень поздно и потому проспал. Я не мог заснуть до четырех утра. Слуга не разбудил меня, вот я и не проснулся, (англ.)
[Закрыть]
He знаю другого взрослого человека, которому за столь короткий срок – меньше чем за год – удалось бы выучить чужой язык. Впрочем, другого выхода у отца не было.
Однажды я невольно подслушал разговор родителей – они говорили обо мне. «Бедный Карлитос». – «Не беспокойся, это пройдет». – «Боюсь, на всю жизнь отметина останется. Как ему не повезло. И почему именно с нашим сыном такое случилось?» – «Несчастный случай. Бывает, человека и грузовик собьет, верно? Еще пара недель, он и вспоминать об этом перестанет. Ему сейчас, может быть, кажется, что мы несправедливы к нему, но когда вырастет, поймет: добра ему желали». – «А все из-за того, что мы, вся страна, живем в атмосфере распущенности, которую этот самый продажный режим поощряет. Ты только полистай журналы, послушай радио, посмотри кино: все словно сговорились совращать невинных».
Одним словом, никто меня не понимал, я был совсем один. Только Эктор сочувствовал, но и он относился к тому, что я сделал, как к баловству, веселой проделке, будто я мячом окно разбил. Ни родители, ни братья, ни Мондрагон, ни отец Ферран, ни те, что приставали ко мне с тестами, ни капельки не поняли. Они судили меня по своим законам, в которых мой случай попросту не был предусмотрен.
В конце июля меня перевели в новую школу, третью по счету. Снова я оказался в роли новичка, попавшего в чужие владения. В этой школе ребята не делились на арабов и евреев, не сражались в пустыне, там не было стипендиатов из бедных семей; правда, и здесь обучение английскому, как и везде, было обязательным. Первые мои недели в этой школе были просто мучительными. Я все время думал о Мариане. Родители считали, что излечили меня наказанием, исповедью, психологическими тестами, а на самом деле все это на меня совершенно не подействовало. Зато я потихоньку, к изумлению киоскера, стал покупать «Веа» и «Водевиль» и все чаще вспоминал наставления священника. Я смотрел на фотографии Тонголеле, Калантаны, Сью Май Кэй, а видел одну Мариану. Нет, вовсе я не излечился, если считать любовь болезнью в этом мире, где только ненависть – естественное состояние.
С Джимом, разумеется, я больше не встречался. Не хватало смелости пойти к нему домой, как и сходить в старую школу. Когда я думал о Мариане, мне неудержимо хотелось увидеть ее, но останавливал страх показаться в ее глазах смешным и нелепым. Ну зачем мне было совершать такую глупость, заваривать всю эту кашу: ведь, удержись я от своего идиотского признания в любви, не было бы никакой заварухи. Но сожалеть было поздно: сделанного не исправишь, иначе я поступить не мог – даже сейчас, столько лет спустя, я понимаю, что смертельно влюбился в Мариану.
XII. Колония Рома
В октябре случилось сильное землетрясение. В ноябре появилась комета. Говорили, что скоро начнется атомная война, наступит конец света и уж точно в Мексике разразится новая революция. Потом вспыхнул пожар в мастерских «Ла Сирена», было много жертв. К новогодним каникулам в нашей семье многое изменилось: отец продал завод – он был назначен управляющим североамериканской фирмы, поглотившей его мыло. Эктор стал учиться в Чикагском университете, старшие сестры жили в Техасе.
Как-то в полдень я возвращался с тенниса из «Юниор – Клуба». Я сидел на поперечной скамье автобуса «Санта – Мария»,[97]97
В то время рейсовые автобусы в Мехико обозначались не номерами, а именами.
[Закрыть] читал роман про Перри Майсона и вдруг увидел: на углу Инсурхентес и Альваро Обрегон, подняв руку, стоит Росалес. Автобус притормозил, Росалес вошел в салон, через плечо на ремне у него висел лоток с жевательной резинкой «Адамс». Увидев меня, он переменился в лице и тут же выскочил из автобуса. Росалес хотел спрятаться за деревом у здания «Альфонсо и Маркос», где прежде моя мать делала перманент и маникюр (теперь, заимев свой автомобиль, она ездила в салон красоты в Поланко).
Росалес был самым бедным учеником в старой школе, мать его работала санитаркой в больнице. Все, что я рассказываю, произошло в считанные секунды. Выскочив на ходу из автобуса, я пошел прямо к Росалесу. Он пытался уйти, я догнал его. Нелепая сцена: «Ради бога, Росалес, чего ты меня стесняешься? Это же здорово, что ты работаешь (мне – то самому пока нигде еще не пришлось работать). Маме помогать – чего тут стыдного, наоборот – очень это хорошо (я в роли «докторши по сердечным делам», дающей советы из «клиники человеческих душ»). Послушай, давай съедим по мороженому в «Ла Белла Италиа»? Я угощаю. Не представляешь, как приятно тебя встретить (я в роли великодушного господина, у которого, несмотря на девальвацию и инфляцию, полно денег на карманные расходы)». Росалес помрачнел, лицо у него стало бледное, он попятился. Но остановился, прямо глянул мне в лицо.
«Нет, Карлитос, раз уж ты такой любезный, угости меня чем-нибудь посущественней. Я с утра не ел. Проголодался до смерти. Слушай, ты на меня не обижаешься из-за наших ссор?» – «Да что ты, Росалес, какие там ссоры (теперь я в роли всепрощающего господина, способного забыть причиненные ему обиды, потому что ничто уже его не берет». – «Хорошо, в таком случае все в порядке, Карлитос: пойдем посидим, поговорим».
Мы пересекли Обрегон, прошли по Инсурхентес. «Рассказывай: ты в следующий класс перешел? Как Джим сдал экзамены? Что у вас там говорили, когда я перестал ходить в школу?» Росалес молчал. Мы уселись за столик. Он попросил тортилью с колбасой, две – с мясом, бутылку «Сидраль Мундет». «А ты разве есть не будешь?» – «Не могу, дома ждут к обеду. Мама приготовила ростбиф – я очень его люблю. Сейчас поем – потом не смогу. Мне, пожалуйста, стакан кока-колы – и похолодней».
Росалес поставил лоток со жвачкой прямо на стол. Он смотрел на Инсурхентес: по ней мчались «паккарды», «бьюики», «хадсоны», ползли трамваи, фонарные столбы были покрашены серебрянкой, автобусы ярко раскрашены, люди все еще в шляпах – такого больше нигде не увидишь. На здании напротив – реклама «Дженерал электрик», обогревателей «Гельвекс», электрических радиаторов «Мэйб». Молчание затянулось, мы оба чувствовали себя неловко. Росалес явно нервничал, избегал моего взгляда. Руки у него были влажные, он теребил поношенные брюки из дешевого тонкого сукна.
Принесли заказ. Росалес жадно откусил от тортильи с колбасой и отпил сидра, чтобы легче было проглотить еду, даже не пожевав. Мне стало противно. Он был голоден, давно и по-настоящему голоден: он не ел, а жрал. С набитым ртом он спросил: «А ты? В следующий класс перешел? Тебе ведь в новую школу пришлось пойти? Куда – нибудь на каникулы едешь?» Пластинка на электрофоне кончила играть «Ла мукуру», зазвучала «Райдере ин зе Скай». «На рождество мы едем к моему брату и сестрам в Нью-Йорк. Номера в «Плаза» забронировали. Когда – нибудь о гостинице «Плаза» слыхал? Но послушай, почему ты на мои вопросы не отвечаешь?»
Росалес сглотнул слюну, поперхнулся. Я испугался, как бы он не задохнулся. «Видишь ли, Карлитос, не знаю, как и сказать тебе: у нас обо всем стало известно». – «В каком это смысле стало известно?» – «Насчет мамы Джима. Он сам всем сказал, каждому в классе рассказывал. Он тебя ненавидит. Мы со смеху умирали, когда узнали, что ты натворил. С ума сойти можно. А потом кто-то видел тебя в церкви на исповеди – ясно, по поводу твоего любовного признания. И еще каким-то образом стало известно, что тебя водили к врачу, который психами занимается».
Я ничего не ответил. Росалес молча продолжал есть. Потом поднял глаза, посмотрел на меня. «Я не хотел тебе ничего говорить, Карлитос, но и это не самое страшное. Нет, пусть уж кто-нибудь другой тебе все скажет. Доем-ка я лучше тортильи. Честно признаться, два дня ничего не ел. Маму мою с работы выгнали – она в больнице пыталась профсоюз организовать. А тип, что с ней сейчас живет, говорит: поскольку я ему не сын, не обязан он меня содержать». – «Сожалею, Росалес, но это – не мое дело, не могу вмешиваться. Ты ешь что хочешь и сколько захочешь, только скажи, что ты имеешь в виду под самым страшным».
«Нет, Карлитос, ты и представить не можешь, как трудно об этом говорить». – «Да говори же ты наконец, не издевайся, Росалес, черт бы тебя побрал, говори, что ты собирался сказать мне». – «Понимаешь, Карлитос, не знаю, как и сказать. Короче: мама Джима умерла». – «Умерла? Как – умерла?» – «Да, и Джим больше у нас не учится, он еще с октября в Сан-Франциско. Его увез к себе настоящий отец. Это было ужасно. Вообразить не можешь, какой был кошмар. Говорят, мама Джима и Сеньор – Джим его отцом считал, а никаким он ему отцом не был – серьезно поругались. Они с сеньорой – ее звали Мариана, верно? – были в кабаре или в ресторане – в общем, на каком-то празднике или приеме в Лас-Ломас. Там собралось высшее общество. Они поспорили из-за чего-то, а она возьми и скажи ему, что все в правительстве воруют и бросают на ветер деньги, которые у бедняков из карманов вытягивают. Сеньору очень не понравилось, что она посмела так говорить с ним, да еще при его могущественных приятелях, там министры были и иностранные миллионеры – одним словом, главные его дружки по грязным делам. На глазах у всех он надавал ей пощечин, кричал, что нет у нее права судить, кто честен, кто Нет, потому что сама она – проститутка. Мариана ушла, добралась на такси домой и не то целый флакон нембутала проглотила, не то вены себе бритвой вскрыла или застрелилась – может быть, все сразу сделала, чтобы уж наверняка с собой покончить, – этого я точно не знаю. Короче, Джим проснулся, а она мертвая, в крови плавает. Он сам От боли и страха чуть не умер. Привратника на месте не было, Джим и кинулся к Мондрагону; куда ему еще было пойти? Ну и все тут: в школе сразу обо всем узнали. Ты бы посмотрел, какая толпа зевак у их дома собралась; а тут еще и «скорая помощь», и представитель из министерства внутренних дел, и полиция. У меня духу не хватило глянуть на нее мертвую; но когда на носилках выносили, все простыни в крови были. Никогда мы, ребята, такого ужаса не видали. Она Джиму письмо оставила на английском, длинное такое, просила его простить, все ему описала. Там еще что-то говорилось – может, и тебе она просила что-нибудь передать, как теперь узнаешь? – но ее поручения выполнять не стали: Сеньор сделал все, чтобы замять дело, нам строго запретили разговаривать об этом, особенно дома. Но ты знаешь, как слухи разносятся, их трудно сохранять в тайне. Бедный Джим, бедолага, а мы так его в школе дразнили! Правда, мне очень жалко».
«Росалес, это невозможно. Ты меня разыгрываешь. Ты все придумал или увидел в каком-нибудь дрянном мексиканском фильме, они тебе так нравятся. Или услышал в бездарном радиоспектакле. Такого в жизни не случается. Прошу тебя, умоляю, не шути так со мной».
«Это правда, Карлитос. Христом-богом клянусь, так все оно и было. Здоровьем мамочки клянусь, не соврал я тебе. Не веришь, спроси кого хочешь в школе. Того же Мондрагона. Об этом все знают, хотя в газетах ничего не писали. Странно, что ты до сих пор не знал. И учти: я ведь тебе говорить не хотел, потому и прятался, вовсе не из-за лотка со жвачкой. Карлитос, ну не надо так; ты что, плачешь? Не будешь же ты меня уверять, что и вправду влюбился в маму Джима, в твоем-то возрасте?»
Я не ответил, встал, сунул официанту десять песо, вышел, не дожидаясь сдачи, не попрощавшись. Кругом была смерть: и в тушах животных, которых рубили на части, превращая в еду, в закуску, приправляя луком, помидорами, салатом, сыром, маслом, фасолью, маниокой, перцем из Халапы. Ведь и это живые существа, как и деревья, что недавно вырубали на Инсурхентес. Смертью были и прохладительные напитки: «Мишэн Оранж», «Спьюр», «Феррокина». И сигареты: «Бельмонте», «Гратос», «Элегантес», «Касинос».
Я бежал по улице Табаско, твердил, старался внушить себе: это гнусный розыгрыш, идиотские шуточки Росалеса, он всегда был сволочью. Подыхает теперь с голоду, ходит с лотком, а я попался ему с теннисной ракеткой, в белом костюмчике, с английской книжкой про Перри Майсона, да еще черт меня дернул рассказывать ему о забронированных в «Плаза» номерах, вот он и решил мне отомстить. Пусть хоть Джим открывает дверь. Пускай все надо мной потешаются – неважно: хочу видеть Мариану. Хочу убедиться, что Мариана жива.
Я добрался до их дома, бумажной салфеткой вытер глаза, взбежал по лестнице, позвонил в четвертую квартиру. Мне открыла девочка лет пятнадцати. «Мариана? Здесь такая не живет. Мы живем, Моралесы. Два месяца назад въехали. Нет, не знаю, кто прежде здесь жил. Спроси лучше у привратника».
Девочка отвечала, а я разглядывал прихожую: она стала другой, грязной, бедной, в ней был беспорядок. Ни портрета Марианы работы Семо, ни фотографии Джима на фоне Золотых ворот, ни Сеньора в окружении ближайших сотрудников президента, работающего в поте лица на благо Мексики. На их месте – гравюра с «Тайной вечерей» в металлической рамке, настенный календарь с литографиями «Легенды о Вулканах».
Привратник тоже работал здесь недавно. Он сменил дона Синдульфо, прежнего старика портье, который в свое время был полковником у Сапаты,[98]98
Эмилиано Сапата (1879–1919) – руководитель крестьянского движения во время Мексиканской революции, выступал за ликвидацию крупной земельной собственности и наделение крестьян землей. Убит наемниками.
[Закрыть] – Джим подружился с ним, привратник рассказывал нам всякие истории про революцию, он же и прибирал в квартире у Марианы: она ведь не любила, когда в доме живет прислуга. «Нет, мальчик, никакого Синдульфо я не знаю и Джима, о котором ты говоришь. Сеньоры Марианы у нас нет. И не мешай мне больше, мальчик, не приставай». Я протянул ему двадцать песо. «Да хоть бы тысячу – не могу взять, потому как ничего не знаю».
Деньги он все-таки взял, зато пообещал не мешать мне расспрашивать в доме. Я припомнил, что здание принадлежит Сеньору. И дона Синдульфо взяли привратником благодаря тому, что отец хозяина – Джим называл его «мой дедуля» – дружил со старым полковником, с которым вместе воевал в революцию. Я звонил во все двери. Выглядел я, конечно, нелепо: в белом костюме для тенниса, с ракеткой в руках, с книжкой про Перри Майсона под мышкой все выспрашиваю, пытаюсь заглянуть в квартиру, вот-вот снова расплачусь. Отовсюду пахло рисовым супом, фаршированным перцем. Почти везде меня слушали, еле скрывая страх. Белый костюм не вызывал доверия. Это был не теннисный корт, а дом, в котором недавно побывала смерть.
«Нет и нет. Я с тридцать девятого здесь живу, и, насколько мне известно, никакой Марианы тут никогда не было. Джим? И такого не знаем. В восьмой квартире есть мальчик примерно твоего возраста, но зовут его Эверардо».
«В четвертой квартире? Нет, там жили двое старичков, детей у них не было». – «Но я же тысячу раз бывал у Джима и сеньоры Марианы». – «Померещилось тебе, наверное, мальчик. Или это было на другой улице, в другом доме. Все, хватит, до свиданья – нет у меня больше времени на разговоры. И лучше не впутывайся в это дело, тебя оно не касается, хватит с нас скандалов. Прекрати, мальчик, прошу тебя. Мне обед готовить нужно: в полтретьего муж приходит». – «Но, сеньора…» – «Уходи, мальчик, по-хорошему, не то полицию вызову – тут же в суд для несовершеннолетних отправишься».
Я вернулся домой. Что потом было – не помню. Наверное, плакал дни и ночи напролет. Скоро мы уехали в Нью – Йорк. Меня устроили в школу в Вирджинии. Все вспоминаю, вспоминаю, какой же это был год, – и не могу вспомнить. Лишь вот эти проблески в памяти, отдельные картины, как блики, иногда ко мне возвращаются, и еще точно помню – слово в слово – все, что тогда говорилось. И песенку эту, которой никогда больше не услышу: «Какое бы ни было небо высокое, какое бы ни было море глубокое».
Какая странная, древняя, невообразимая история. Но ведь Мариана существовала, существовал и Джим, было все это – оно живо во мне, хотя я старался забыть. Никогда не узнаю, точно ли покончила Мариана с собой. Больше Росалеса я не видал, да и никого другого из старой школы. Школу снесли, и дом, где жила Мариана, и наш дом снесли, порушили всю колонию Рома. Нет больше того города. Да и страны той нет. Кто теперь помнит, какой была Мексика в те годы? Да и кому придет такое в голову: кто способен испытывать ностальгию по тому кошмару? Все кончилось, как пластинка, что играла тогда, на электрофоне. Никогда мне не узнать, жива ли Мариана. Если жива, ей сейчас лет шестьдесят.







