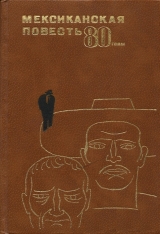
Текст книги "Мексиканская повесть, 80-е годы"
Автор книги: Хосе Эмилио Пачеко
Соавторы: Карлос Фуэнтес,Рене Авилес Фабила,Серхио Питоль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Карлос Фуэнтес, Рене Авилес Фабила, Хосе Эмилио Пачеко, Серхио Питоль
Мексиканская повесть, 80-е годы
От издательства
Настоящей книгой Издательство ставит перед собой шдачу познакомить советского читателя с наиболее значительными явлениями в мексиканской новеллистике 80-х годов. Она представлена четырьмя именами: Карлос Фуэнтес, Рене Авилес Фабила, Хосе Эмилио Пачеко и Серхио Питоль.
Карлос Фуэнтес, один из самых значительных писателей Мексики (род. в Мехико в 1928 г.), у нас в стране широко известен своими романами «Край безоблачной ясности» (1958, русский перевод 1980) и «Смерть Артемио Круса» (1962, русский перевод 1963), а также повестями и рассказами. В данном сборнике он представлен повестью «Сожженная вода».
Рене Авилес Фабила, автор цикла новелл «Возвращение домой», «В волчьей шкуре», «Мириам» (род. в 1940 г. в Мехико), по образованию юрист-международник, у себя на родине публикуется с конца 60-х годов; наиболее известные его произведения: «Игры» (1967), «К концу света» (1969), «Дождь не убивает цветы» (1970), «Великий отшельник из дворца» (1971), «Исчезновение Голливуда» (1973).
Хосе Эмилио Пачеко, автор повести «Сражения в пустыне» (род. в 1939 г. в Мехико); с начала 60-х годов выступает в литературе не только как прозаик: «Далекий ветер» (1963), «Ты умрешь далеко отсюда» (1967), «Принцип наслаждения» (1977), но и как поэт – сборник «Не спрашивай меня, как проходит время» (1969), «Дрейфующие острова» (1976) и др.
И наконец, Серхио Питоль (род. в 1933 г. в г. Пуэбла), автор «Состязания поэтов»; находясь на дипломатической службе, он побывал во многих странах Европы, занимался художественным переводом. Первая его книга – сборник «Ад для всех» (1964), затем роман «Звук флейты» (1972).
Трех последних авторов читатель знает пока лишь по рассказам, вошедшим в сборник, выпущенный в свет в 1982 г. ленинградским отделением издательства «Художественная литература».
Объединенные в одной книге повести четырех писателей воссоздают обширную и красочную панораму современной Мексики с ее наиболее острыми проблемами. Верный своему постоянному интересу к Мексиканской революции, к судьбе тех, кто совершал ее, а потом предал, Фуэнтес и в «Сожженной воде» продолжает развивать эту тему, которая смыкается с другой, наиболее острой сейчас не только для Латинской Америки, но и для многих капиталистических стран, с темой насилия. Ту же тему мы встретим и у остальных трех писателей, и при всем различии ее трактовки, писателей объединяет неприятие этого способа решения встающих перед человеком задач, если насилие перерастает в терроризм («Сожженная вода»), в преступление («Сожженная вода», «В волчьей шкуре») либо кроется в литературной полемике («Состязание поэтов»), за наставлениями родителей и священника («Сражения в пустыне»), И все же в этом жестоком мире, о котором без прикрас повествуют авторы книги, остается место искреннему человеческому чувству, в чем убеждают нас герои Фуэнтеса и Пачеко, наперекор всему тянущиеся к красоте и добру.
Карлос Фуэнтес. Сожженная вода. Повествовательный квартет
© Перевод М. Былинкиной
Этот край, значит, и есть край безоблачной ясности? Но во что вы тогда превратили незыблемую мою долину?
Альфонсо Рейес. Отречение от пыли
I. День матерей
Теодоро Сесарману
Каждое утро мой дед энергично толчет растворимый кофе в своей чашке. Он так же крепко держит ложку, как когда-то моя покойная бабушка, донья Клотильда, держала ручку кофемолки или как он сам, генерал Висенте Вергара, держался за луку седла, висящего сейчас у него на стене в спальне. Потом он раскупоривает бутылку текилы[2]2
Мексиканский алкогольный напиток из сока агавы.
[Закрыть] и наливает в кофе спиртного, до половины чашки. Но смесь не взбалтывает. Пусть чистый алкоголь сам пропитает кофе. Дед смотрит на бутылку текилы и, наверное, думает – какой красной была пролитая кровь, каким светлым был напиток, зажигавший ее, горячивший для великих сражений – в Чиуауа и Торреоне, Селайе и Пасо-де-Гавиланес, – когда мужчины были мужчинами и было им все едино, теряешь ли голову в пьяном угаре или в жарком бою, да, сеньор, откуда мог взяться страх, если вся радость была в сражении и само сражение было радостью?
Так размышлял он и говорил про себя, попивая кофеек с горячительным. Теперь никто не умел варить ему кофе в горшочке, отдававшем глиной и патокой, ей-богу никто, даже слуги – муж и жена, – привезенные с его сахароварни в Морелосе. Они тоже пили растворимый кофе, изобретенный в Швейцарии, в самой чистенькой и аккуратной стране на свете. Генералу Вергаре виделись заснеженные горы и коровы с колокольчиками, но он ничего не говорил вслух, ибо вставные челюсти еще покоились на дне стакана с водой, стоявшего перед ним. Это был его излюбленный час: покой, мечты, воспоминания, вымыслы, которые никто не мог опровергнуть. Как странно, вздыхал он, прожита огромная жизнь, а вспоминается она теперь словно какая-то чудесная небылица. И опять думал о годах революции, о сражениях, сотворивших нынешнюю Мексику. И сплевывал слюну, щекотавшую его беспокойный язык и задубевшие десны.
Тем утром я увидел дедушку позже, издали, когда он, как всегда, шаркал туфлями по мраморным полам, то и дело отирая большим платком слезящиеся стариковские глаза цвета агавы. Смотрел я на него издали, и казался он мне каким-то одиноким деревцем, только движущимся. Зеленоватый, жилистый, словно кактус на равнинах Севера, старый, с виду высохший, но хранящий в себе животворную дождевую влагу прошедших лет, выступавшую на глазах, хотя уже и не питавшую жидкие пряди волос на голове, которые казались белыми нитями недозревшего початка кукурузы. На фотографиях, верхом на лошади, он выглядел высоким. А когда, такой одряхлевший, шаркал туфлями, как потерянный, по мраморным залам нашего огромного дома на Педрегале, он казался низеньким, высохшим – кости да кожа, не отлипающая от скелета. Еле скрипел старичок, но не сдавался; попробовал бы кто-нибудь его согнуть, куда там.
И не по себе мне бывало каждое утро, и понимал я смертную тоску попавшей в мышеловку мыши, когда смотрел, как генерал Вергара бесцельно бродит по залам, вестибюлям, коридорам, которые пахнут мылом и мочалкой из травы сакате после того, как Никомедес и Энграсия их вымоют, долго ползая на коленях. Эта супружеская пара решительно отвергала всякую технику. В их «нет» звучало чувство собственного достоинства, они отвечали тихо, но с неодолимой твердостью. Дед был с ними согласен, ему нравился запах сакате и мыла, и потому Никомедес с Энграсией каждое утро мыли, метр за метром, мрамор из Сакатекаса, хотя лиценциат Агустин Вергара, мой отец, говорил, что мрамор вывезен из Каррары, но об этом – молчок и никто не должен прознать, иначе нас разорили бы ввозными пошлинами, даже балы нельзя здесь устраивать, газеты распишут тебя во всем блеске, и погоришь; надо быть скромным, даже стыдиться того, что всю жизнь трудился, себя не жалел, чтобы дать семье все это…
Я выскочил из дому, накинув кожаную куртку. Отпер гараж, сел в красный «тандерберд», включил зажигание, автоматически раздвинулись двери при шуме мотора, и машина рванула с места. Мелькнуло что-то вроде тревожной мысли: на дорожке от гаража до массивных ворот мог находиться Никомедес, поливая и подстригая травку, посеянную между каменными плитами. Я представил себе, как садовник от удара машины взлетает вверх и рассыпается на куски, и еще сильнее нажал на педаль. Сосновые ворота, облезлые и разбухшие от летних дождей, скрипнув, распахнулись тоже сами собой, когда «тандерберд» прокатил мимо двух электрических глаз, вделанных в камень, и вот я уже снаружи: швизгнули шины, когда я круто свернул направо, вдруг впереди замаячила снежная голова Попокатепетля,[3]3
Вулкан недалеко от г. Мехико.
[Закрыть] нет – просто привиделось, я нажал на педаль, утро было прохладным, рассветный туман полз вверх из долины Мехико, чтобы слиться с пеленой смога, зависшей в кольце гор под давлением свежего вершинного воздуха.
Я нажимал на акселератор, пока не въехал на окружную автостраду, перевел дух, опять нажал на педаль, но теперь поспокойнее, напряжение спало, по автостраде можно было сделать круг, один, другой, десятый, сотый, сколько хочешь, хоть тысячу, и при этом испытываешь ощущение, будто не двигаешься, постоянно находишься в начале пути и в то же время – в конце: все тот же горизонт из асфальта, те же рекламы пива и пылесосов – которые так ненавидели Никомедес и Энграсия, – рекламы мыла и телевизоров, все те же низкие сероватые домики, зарешеченные окна, металлические жалюзи, все те же скобяные лавки, всякие мастерские, закусочные с холодильником у входа, полным льда и бутылок с газированными напитками, крыши из гофрированного железа, купола колониальных церквушек, затерявшихся среди тысяч водонапорных баков на кровлях; хоровод белозубых, довольных собой, краснощеких рекламных звезд, только что подкрашенных: Санта-Клаус, Великолепная Блондинка, белесый чертик Кока-Кола в своей жестяной короне, утенок Дональд, а внизу – миллионы людей: продавцы воздушных шаров, жевательной резинки, лотерейных билетов, парни в рубашках с закатанными или короткими рукавами, толпящиеся возле синфонол, жующие, курящие, зевающие, плутующие; потоки грузовиков, армады «фольксвагенов», столкновение на пересечении с Фрай-Сервандо, полицейские на мотоциклах, тамариндово-коричневые куртки, штрафы, пробка, гудки, ругань, снова проезд свободен, пошел второй круг; снова тот же путь, те же водонапорные баки, Плутарко; грузовики с газовыми баллонами, грузовики с молочными бидонами, резкий тормоз, бидоны падают, катятся, разбиваются об асфальт, громыхают в кювет, стучат по капоту красного «тандерберда», молочное море. Ветровое стекло у Плутарко – все белое. Плутарко в тумане. Плутарко ослеплен белизной – непроглядной, жидкой, слепой по своей природе, невидимой, делающей невидимым его самого, молочным потоком из молока жидкого, молока разбавленного, молока твой матери, Плутарко.
Конечно, такое имя да и фамилия вызывают насмешки, и чего только я не слышал в школе: что-что? Ну-ка, еще! Повтори-ка! И Варвара, и Пердара, и Вер-гара-гара-ра, а когда вызывали по списку, всегда находился шутник, который отвечал за меня: «Вергара Плутарко, есть такая девочка» или «Она спит». А потом, на перемене, следовала потасовка; лет пятнадцати я стал зачитываться романами и открыл, что один итальянский автор звался Джованни Батиста, но и это не произвело впечатления на дрянных сорванцов городской подготовительной школы. В церковную школу я не ходил – во-первых, дед сказал, что такого он не допустит, не для того у нас была революция, и мой папа-лиценциат сказал «о’кей», старик прав, все хотят слыть безбожниками, а дома усердно молятся, так уж теперь повелось. Вот тут я с удовольствием сделал бы так, как когда-то сделал мой дедушка, дон Висенте, который, услышав подобную шутку, велел кастрировать остряка. Костяшка игральная, сума переметная, и вашим и нашим служить готовы, сказал ему пленный, а генерал Вергара велел его оскопить сию же минуту. С тех пор его прозвали «Генерал Вырви-хвост»; «Он тебе не сват, береги свой агуакат»,[4]4
Испанское название авокадо, плода, похожего на грушу.
[Закрыть] «Не дразни сатаны, держи крепче штаны» и другие пускали в ход про него поговорки во времена великой борьбы Панчо Вильи[5]5
Вилья, Франсиско (Панчо), настоящее имя – Доротео Аранго, (1877–1923) – национальный герой Мексики, руководитель крестьянского движения на севере страны (был прозван Кентавром Севера). В битве при Селайе в 1915 г. потерпел первое поражение от правительственных войск.
[Закрыть] против федералов, когда Висенте Вергара, еще очень молодой, но уже опытный вояка, бился вместе с Кентавром Севера – до того, как перешел к Обрегону после поражения при Селайе.
– Я знаю, о чем болтают. Ты заткни глотку тому, кто тебе скажет, что твой дед сменил лошадь.
– Да мне никто ничего и не говорил.
– Слушай, парень, одно дело – Вилья, когда он вылез из грязи, из ущелий Дуранго и сам, в одиночку, собрал недовольных и сколотил Северную Дивизию, которая покончила с диктатурой забулдыги Уэрты[6]6
Уэрта, Викториано (1845–1916) – генерал, в период Мексиканской революции захватил власть, установил диктатуру (1913 г.), участвовал в борьбе против крестьянских армий Ф. Вильи и Э. Сапаты.
[Закрыть] и его федералов. Но когда он пошел против Каррансы[7]7
Карранса, Венустиано (1859–1920) – буржуазно-либеральный деятель, был президентом республики, вел борьбу против Уэрты.
[Закрыть] и законных властей – это уже другое дело. Ему хотелось сражаться – была не была, – и никак не мог он остановиться. После того как Обрегон[8]8
Обрегон, Альваро (1867–1928) – мексиканский военный и политический деятель, в 1920 г. организовал заговор против Каррансы, после убийства которого занял пост президента в 1920 г. Был убит в 1928 г.
[Закрыть] разбил его под Селайей, рассыпалось войско Вильи, и все его люди вернулись к своим кукурузным полям, к своему лесу. Тогда Вилья пошел вслед за каждым, стал уговаривать снова идти воевать, а никто уже не хотел, мол, видишь ли, генерал, наконец-то я дома, опять со своей женой, со своими детьми. Тогда раздавались выстрелы, обернувшись, бедняги видели дома свои в пламени, а семьи убитыми. «Теперь у тебя нету ни дома, ни жены, ни детей, – говорил им Вилья, – и тебе лучше идти со мной».
– Он, наверное, очень любил своих товарищей, дедушка.
– Пусть не говорят, что я был предатель.
– Никто и не говорит. Все это уже забылось.
Я вернулся к своей высказанной мысли. Панчо Вилья очень любил своих людей, он не мог себе представить, что его солдаты посмеют не ответить ему тем же. В спальне у генерала Вергары было много пожелтевших фотографий, вырезок из газет. Он снимался со всеми вождями революции, ибо шел вместе с ними всеми и с ними действовал заодно, по очереди. Менялся вождь, менялся и вид Висенте Вергары, который выглядывал из толпы, окружавшей дона Панчито Мадеро[9]9
Мадеро, Франсиско (сокр. Панчо) (1873–1911) – один из лидеров Мексиканской революции, в 1911 г. президент республики, был свергнут Уэртой и убит.
[Закрыть] в тот замечательный день, когда в столицу вошел маленький и щуплый, наивный и чудотворный апостол революции, сваливший всемогущего дона Порфирио,[10]10
Диас, Порфирио (1830–1915) – мексиканский политический и государственный деятель, в гражданскую войну 1854–1860 гг. выступал на стороне либералов против консерваторов. Став президентом (1884), установил жестокую диктатуру и был свергнут в 1911 г. Мексиканской революцией.
[Закрыть] сваливший его книгой в стране неграмотных, разве это не чудо? И там из толпы выглядывал совсем юный Ченте[11]11
Сокр. от Висенте.
[Закрыть] Вергара в помятой фетровой шляпе без всякой шелковой ленты, в рубахе без крахмального воротничка, такой же голодранец, как и остальные, взобравшиеся на конную статую короля Карла IV в тот день, когда сама земля содрогалась, равно как в ту пору, когда умер господь наш Иисус Христос, словно бы возвышение Мадеро уже становилось его Голгофой.
– Если не говорить о любви нашей к Святой Деве и о нашей ненависти к американцам-гринго, ничто нас так не сплотило, как то подлое убийство, да-да, и весь народ поднялся против Викториано Уэрты, который прикончил дона Панчито Мадеро.
А на другой фотографии Висенте Вергара, капитан вильистов-дорадос[12]12
«Дорадос» («золотые») – так назывались бойцы Северной дивизии Ф. Вильи. В 50-х годах «золотыми» стали называться некоторые бывшие вильисты, предавшие революционные идеалы и вступившие в шовинистическую антикоммунистическую организацию.
[Закрыть] – грудь в патронташах крест-накрест, соломенное сомбреро и белые штаны, – закусывает вместе с Панчо Вильей лепешками тако на фоне разводящего пары локомотива. А на третьей фотографии полковник конституционалистов Вергара – очень молодой и нарядный, в техасском сомбреро и мундире цвета хаки, – стоит позади внушающей почтение дородной фигуры дона Венустиано Каррансы, первого лидера революции, у которого непроницаемое лицо, скрытое темными очками, и широкая борода, доходящая до пуговицы сюртука; ни дать ни взять семейная фотография: справедливый, но суровый отец и почтительный сын, наставленный на путь истинный, вовсе не тот Висенте Вергара, полковник-обрегонист, выступивший под Агуа-Приета против персонализма Каррансы, освобожденный от опеки папаши, изрешеченного пулями на походной кровати в Тлаксалантонго во время сна.
– Какими же молодыми все они умерли! Мадеро не дожил и до сорока, Вилье было сорок пять, Сапате – тридцать девять, даже Карранса, казавшийся стариканом, погиб на шестьдесят первом году жизни, а мой генерал Обрегон – на сорок девятом. Если я их и пережил, то по чистой случайности, парень; не судьба мне умереть молодым, просто-напросто повезло, что я не похоронен на каком – нибудь деревенском кладбище, где цветут желтые цветы и кружат стервятники, и тогда бы тебе не родиться.
А вот полковник Вергара, сидящий между генералом Альваро Обрегоном и философом Хосе Васконселосом[13]13
Васконселос, Хосе (1881–1959) – философ и социолог, в годы Мексиканской революции выступал на стороне конституционалистов.
[Закрыть] за обедом, полковник Вергара, с кайзеровскими усами, в темной парадной форме с высоким воротником и золотыми нашивками.
– Какой-то фанатик-католик порешил моего генерала Обрегона, парень. Да. И был я на похоронах их всех, всех, кого ты тут видишь, и все они умерли не своей смертью, только Сапату не проводил, его похоронили тайком, чтобы он считался живым.
Как и генерал Вергара, вот он, на другой фотографии, уже в цивильном платье, на пороге зрелости, холеный, элегантный, в светлом габардиновом костюме, с жемчужиной в галстуке, очень серьезный, очень торжественный, ибо только так можно было ответить на рукопожатие человека с лицом из гранита и взглядом тигра, верховного вождя революции. Плутарко Элиаса Кальеса.[14]14
Кальес, Плутарко Элиас (1877-194S) – активный участник Мексиканской революции, был президентом после убийства А. Обрегона.
[Закрыть]
– Это был человек, парень, – простой школьный учитель, вышедший в президенты. Никто не мог вынести его взгляда, никто, даже те, кого ставили к стенке, угрожая расстрелом, и кто тогда и глазом не моргнул, даже они. Твой тезка, Плутарко. Твой крестный отец, парень. Погляди, это ты у него на руках. Погляди на нас, в этот самый день он тебя крестил, в день национального единства, когда он, генерал Кальес, вернулся из изгнания.
– А почему он меня крестил? Ведь он жестоко преследовал церковь?
– Да разве одно с другим связано? Не могли же мы оставить тебя безымянным.
– И вы, дедушка, тоже сказали, что Святая Дева сплачивает нас, мексиканцев, как же так?
– Наша гуадалупанка – дева революционная, она была и на штандартах Идальго,[15]15
Идальго-и-Кастилья, Мигель (1753–1811) – национальный герой Мексики, священник, начал в 1810 г. борьбу мексиканского народа за независимость. Расстрелян испанцами.
[Закрыть] и на войне за независимость, и на знаменах Сапаты, и в революции, дева, а нам всем мать, вот так.
– Но ведь благодаря вам меня не отдали в церковную школу.
– Церковь нужна для двух дел: чтобы пристойно родиться и пристойно уйти в мир иной, ясно? А промеж колыбели и могилы пусть не лезет в то, что ее не касается, пусть крестит младенцев и молится за души умерших.
Мы трое, трое мужчин, живших в огромном домине на Педрегале, сходились вместе только к ужину, который всегда был одним и тем же, как того хотел генерал, мой дед. Суп, рисовая каша, жареная фасоль, омлет, шоколад с тортильями. Мой отец, лиценциат дон Агустин Вергара, вознаграждал себя за эту деревенскую еду долгими, с трех до пяти, обедами, в «Иене» и в «Риволи», где мог заказать филе «Диана» и торт «Сюзетт». В нашей трапезе ему был особенно неприятен один застольный обычай генерала. Кончив есть, старик вынимал вставные челюсти и опускал их в стакан, до половины наполненный кипятком. Затем доливал холодной воды. Ждал минуту-две и отливал воду из этого стакана в другой. Снова доливал горячей воды в первый стакан и выливал полстакана в третий, а потом добавлял в первый теплой воды из второго. Взирая на три мутных сосуда, где плавали крошки вареного мяса и тортильи, он не спеша вытаскивал зубы из первого стакана, окунал их во второй, в третий и наконец с удовлетворением засовывал в рот, громко стукнув челюстями, словно защелкнув замок.
– В самый раз, тепленькие, – говорил он. – Как львиный нос. Ох, хорошо.
– Постыдились бы, – сказал тем вечером мой папа, лиценциат Агустин, вытерев губы салфеткой и небрежно бросив ее на скатерть.
Я с удивлением взглянул на отца. Он никогда не высказывался насчет этой давней процедуры омовения дедовых челюстей. Лиценциат Агустин, наверное, изо всех сил Одерживался: его не могло не мутить от скрупулезных алхимических экспериментов генерала. А меня мой старый дед просто-напросто умилял.
– Постыдились бы, смотреть тошно, – повторил лиценциат.
– Ишь ты, – ехидно заметил генерал. – С каких это пор я не могу доставлять себе удовольствие в моем собственном доме? В моем, говорю, а не в твоем, Тин, и не в доме твоих дружков-приятелей…
– Конечно. Мне и пригласить их сюда нельзя. Разве только запереть вас в клозет на замок.
– Значит, от зубов моих тебе тошно, а от моих денежек – нет? Так, значит, получается?
– Очень плохо получается, очень, очень… – сказал мой папа, покачав головой с искренней грустью, ему вовсе не свойственной. Нет, суровым человеком он не был, только немного напыщенным, даже в минуты игривого настроения.
Но его печаль тут же рассеялась, он взглянул на деда с холодным вызовом и искривил губы в чуть заметной усмешке; смысла ее мы не поняли.
Позже мы с дедом ни словом не обмолвились о происшедшем, там, в спальне генерала, такой непохожей на остальные залы и комнаты. Мой папа, лиценциат Агустин, слепо доверился нанятому декоратору, который заполонил наш огромный дом мебелью в стиле Чиппендейл, гигантскими люстрами и фальшивым Рубенсом, по цене настоящего. Генерал Вергара сказал: плевать мне на все это, и только пожелал обставить свою спальную комнату той мебелью, какой он с покойной доньей Клотильдой обзавелся, когда построил свой первый еще скромный дом в двадцатые годы. Кровать у него была металлической, позолоченной, и, несмотря на то что рядом помещался современный туалет, генерал презрел его, задвинув дверь тяжелым зеркальным шкафом красного дерева. И нежно посматривал на эту старинную махину.
– Как открою его, сразу чувствую запах белья моей Клотильды, вот ведь была хозяйка, простыни выглажены? без единой морщинки, накрахмалены, как положено.
В этой спальне стояли вещи, каких теперь нигде не увидишь, например мраморный умывальник с фарфоровой раковиной и высоким кувшином для воды. Медное судно и плетеное кресло-качалка. Генерал всегда мылся ночью, а отец в эту пору всегда исчезал, и дед просил меня помочь ему; мы вместе шли в ванную комнату, генерал нес тазик, разрисованный цветами и уточками, и свое мыло «Кастильо», потому что ненавидел душистое мыло с диковинными названиями, вошедшими в обиход, говорил, что он не кинозвезда и не педераст. Я тащил его халат, пижаму, шлепанцы. Погрузившись в ванну с теплой водой, он намыливал мочалку из сакате и начинал сильно растираться. Пояснял мне, что это полезно для кровообращения. Я говорил, что предпочитаю душ, а он отвечал: душ годится только для лошадей. Потом, не дожидаясь его приказа, я окатывал ему плечи и спину водой из тазика.
– Я думал, дедушка, о том, что вы мне рассказывали про Вилью и его «дорадос».
– Я тоже думал о том, что ты мне ответил, Плутарко. Наверное, это так. Случается, нам очень кого-то не хватает. Все умирают, один за другим. А заново не рождаются. И когда уходят друзья, с которыми жил, воевал, остаешься один-одинешенек, прямо тебе скажу.
– Вы всегда вспоминаете о дорогих нам вещах, я очень люблю вас слушать.
– Ты – мой дружок. Но это совсем не то.
– А вы считайте, что и я был в революции, с вами, дедушка. Вы считайте, что я…
Меня увлек необъяснимый порыв, и сидевший в ванне старик, снова намыленный до самой макушки, вопросительно поднял брови, белые от пены. И своей мокрой рукой взял мою, крепко пожал и тут же сменил тему.
– Что поделывает твой папаша, Плутарко?
– Кто его знает. Он со мной ни о чем не разговаривает. Вы сами видите, дедушка.
– Да, он не из разговорчивых. Мне даже понравилось, как он мне ответил за ужином.
Генерал засмеялся и шлепнул ладонью по воде. Он сказал, что мой папа всегда был шалопаем, который жил на всем готовеньком, на честно заработанные родительские деньги, когда генерал Карденас[16]16
Карденас, Ласаро (1895–1970) – активный участник Мексиканской революции, президент республики (1934–1940), провел ряд прогрессивных преобразований, в том числе аграрную реформу.
[Закрыть] попросил кальистов сделать милость не истощать государственную казну. Намыливая голову, дед поведал, что до той поры он получал свое генеральское жалованье. Карденас вынудил его уменьшить государственные расходы и зарабатывать на жизнь коммерцией. Старые поместья никого не могли прокормить. Крестьяне их поджигали и разбредались. Пока Карденас занимался раздачей земель, говорил дед, надо было производить продукцию. И люди в Агуа-Приета скупали урезанные земли поместий, становились мелкими собственниками.
– Мы сажали сахарный тростник в Морелосе, томаты в Синалоа и хлопок в Коауиле. Страна могла есть и одеваться, пока Карденас лепил свои эхидос,[17]17
Общественная форма крестьянского землевладения в Мексике, котролируемая государством.
[Закрыть] которые развалились, потому как всякий сельский житель держится за свой клочок земли, за личную собственность, понял? Я наладил дела, а папе твоему осталось только управлять хозяйством, после того как меня одолела старость. Пусть помнит об этом, когда нос задирает. Но сегодня он мне понравился. Вроде клыки начинает показывать. Что-то из этого выйдет?
Я только пожал плечами, меня никогда не интересовали ни торговля, ни политика. Разве есть там настоящий риск?
И разве сравнить его с тем риском, какому когда-то мой дед подвергался? Вот это были дела!
Среди множества снимков с вождями революции фотография моей бабушки, доньи Клотильды, занимает особое место. Ей одной отведена целая стенка, возле которой поставлен столик, а на нем – ваза с белыми маргаритками. Если бы дед был верующим, он, конечно, поставил бы здесь подсвечники. Рамка – овальная, а портрет сделан в 1915 году фотографом Гутьерресом, из Леона, в штате Гуанахуато. Эта древняя сеньорита, которая была моей бабушкой, похожа на куклу. Фотограф окрасил снимок в светло-розовые тона, только губы и щеки доньи Клотильды пламенели не то от смущения, не то от страсти. От чего, дед?
– От фотоснимка, – ответил мне генерал. – Мать она потеряла в детстве, а отца расстрелял Вилья, как спекулянта. Где Вилья ни проходил, везде освобождал бедняков от долговых обязательств. И не только. Он велел расстреливать ростовщиков, другим в наставление. А я так думаю, что единственно наставленной оказалась моя бедная Клотильда. Подобрал я ее, сироту, которая, наверно, пошла бы за первым встречным, кто бы ее пригрел. Остальные-то сироты той округи, чтоб выжить, стали солдатскими девками либо, кому повезло, артистками в варьете. Ну а потом она меня полюбила.
– А вам она сразу понравилась?
Дедушка ответил «да», кутаясь в одеяло на кровати.
– Вы ее сразу не бросили только из жалости?
На этот раз он молча кинул на меня яростный взгляд и резким движением погасил лампу. Я почувствовал себя неловко: сижу в темноте, покачиваюсь в плетеной качалке. Какую-то минуту слышалось лишь скрипение кресла. Я встал и пошел на цыпочках к двери, намереваясь тихо выйти, не пожелав генералу спокойной ночи. Меня удержала картина, очень грустная и очень простая. Я вдруг представил себе деда мертвым. Приходит утро, а он уже мертв, утро как утро – разве так не бывает? – и я никогда не смогу сказать ему то, что хочу, никогда не смогу. Он быстро застынет, застынут и мои слова. Я бросился обнимать его в темноте и сказал:
– Я вас очень люблю, дедушка.
– Ладно, парень. Я тебя тоже.
– Знаете, я не хочу тут жить у него на всем готовеньком, как вы говорите.
– Понятное дело. Все записано на мое имя. Твой отец только ведет дела. Когда я умру, все оставлю тебе.
– Нет, дедушка, так тоже я не хочу, я хочу начать все сначала, как вы начинали…
– Уже не те времена, что поделать?!
Я усмехнулся:
– Да хотя бы кастрировать кого-нибудь, как вы…
– Еще жива эта байка? Что ж, было дело. Только приговор этот не сам я вынес, понятно?
– Но вы отдали приказ: оскопить его, сию же минуту.
Дед погладил меня по голове и сказал, что никому не известно, кто выносит подобные приговоры, но они никогда не выносятся кем-то одним. Он вспомнил жаркую ночь в окрестностях Гомес-Паласио накануне битвы за Торреон. Человек, который его оскорбил, был пленный, но, кроме того, был предатель.
– Раньше сражался он в наших войсках. Потом перешел к федералам и выдал им, сколько нас, какое у нас оружие. Мои люди все равно бы его прикончили. Я их только опередил. Такова была общая воля. Она стала и моей. Он подтолкнул меня своей руганью. Сейчас расписывают эту историю, как хотят, мол, ну и хват этот генерал Вергара, настоящий генерал Вырвихвост, да, сеньор. А вот нет. Не так это было просто. Его все равно бы прикончили, и правильно сделали – он был изменник. Но он был и военнопленный. Ведь надо соблюдать и правила войны, я так понимаю, парень. Каким бы мерзавцем он ни был, он сдался нам в плен. И я спас своих людей от убийства. Думаю, оно бы их всех опозорило. И я не смог бы их удержать. Думаю, оно опозорило бы и меня. Мое решение было решением всех, а их решение было моим решением. Вот как это бывает. Никогда не знаешь, чья тут воля: твоя или твоих людей.
– Вы не поверите, как мне хотелось бы жить в ваше время и идти вместе с вами.
– Это тебе не театр, не думай. Тот человек, валяясь в пыли, истекал кровью до рассвета. Потом его дожарило солнце и разорвали стервятники. А мы ушли, и про себя все знали: что сделано – сделано всеми нами. Если бы это сделали только они, а я отошел в сторонку, не был бы я командиром, а они не шли бы за мной без оглядки в сражения. Нет ничего тяжелее, чем убивать одного бедолагу, когда видишь его глаза, легче убить безликую сотню, людей, чьих глаз и не видишь. Вот так-то.
– Ох, и здорово, дед…
– Не мечтай. Не будет второй революции в Мексике. Такое случается только раз.
– А как же я, дедушка?
– Бедный мой мальчик, обними-ка меня покрепче, сынок, понимаю тебя, ох, понимаю… Как бы мне самому хотелось стать молодым да пойти с тобой! Уж мы бы, Плутарко, вместе дел натворили.
Со своим отцом, лиценциатом, я беседовал редко. Я уже говорил, что мы трое собирались только за ужином, и разговор вел генерал. Папа иногда уводил меня в свой кабинет и спрашивал, как идут дела в школе, какие у меня отметки, кем я хотел бы стать. Если я говорил ему, что не знаю, что зачитываюсь романами, что желал бы поехать в дальние страны, в Сибирь Михаила Строгова,[18]18
Герой одноименного романа Жюля Верна.
[Закрыть] во Францию Д’Артаньяна, что меня гораздо больше интересует то, чего не может быть, чем то, кем я хотел бы стать, мой папа никогда не выходил из себя, даже не спорил. Он просто – напросто меня не понимал. Как сейчас вижу его недоуменный взгляд, когда речь заходила о том, что было выше его понимания. Меня это мучило гораздо больше, чем его.
– Я поступлю на юридический, папа.
– Очень хорошо, очень разумно. А потом специализируйся в управленческом деле. Не думаешь ли отправиться в Административный центр при Гарвардском университете? Попасть туда очень трудно, но я могу нажать кнопки.
Я делал вид, что раздумываю, и устремлял взор на журнальные подшивки – все как одна в красных переплетах. Ничего в библиотеке не было интересного, разве что полная подборка «Официальных ведомостей», которые всегда начинаются с сообщений о разрешении принять тот или иной иностранный орден: китайский орден Небесных созвездий, орден Освободителя Симона Боливара, французский орден Почетного легиона. Только в отсутствие отца я отваживаюсь, как вор, тайком, пробираться в его устланную коврами и обитую деревом спальню. Там нет никакой старой памятной вещи, даже портрета моей матери. Она умерла, когда мне было пять лет, я ее совсем не помню. Один раз 9 год, 10 мая, мы все трое идем на Французское кладбище, где похоронены вместе моя бабушка Клотильда и моя мама – ее звали Эванхелина. Мне было тринадцать лет, когда мой товарищ по школе «Революсьон» показал мне фото девушки в купальном костюме, и я впервые ощутил непонятное волнение. Как донья Клотильда на своем портрете: почувствовал одновременно и стыд, и приятную истому. Кровь бросилась мне в лицо, а мой сверстник, хохоча во все горло, сказал: я тебе дарю ее, это твоя мамуля. Шелковая лента, переброшенная через плечо девушки, пересекала грудь и соединялась концами выше бедра. Надпись гласила: «Королева карнавала в Масатлане».







