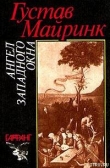Текст книги "Произведение в алом"
Автор книги: Густав Майринк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
Тот фраер на цырлах[39] не в масть: штимп[40] с понтом косил под антаж[41] – клифты из сосны и кичман[42] имел интэрэс нам скроить...
– Э, да он изрядно поднаторел в блатной музыке! – воскликнул Фрисландер, засмеялся и с удовольствием принялся подпевать:
То же, что и фраер, - обыватель, не имеющий отношения к уголовному миру (жарг.).
Мы стали известны за локш[43] и взяли свой шпалер в ширман[44] – мине низачем, чтоб шмалять, коль шнеер закнокал[45] нам фарт...
– Эти соленые куплеты каждый вечер распевает в «Лойзичеке» тамошний лабух, сумасшедший Нефтали Шафранек – напялив на глаза зеленый козырек, мешугге[46] наяривает их под аккомпанемент гармоники... Сам он играть не умеет – договорился с какой-то свихнувшейся старой девой, она же ему и подпевает... – пояснил мне Звак. – Вам, мастер Пернат, надо бы как-нибудь с нами за компанию наведаться в это заведение. Может быть, сегодня, попозже, когда допьем пунш?.. Что вы на это скажете? В честь вашего дня рождения?
– Отличная мысль, пойдемте с нами, – поддержал старика Прокоп и захлопнул окно, – на этот шалман и вправду стоит посмотреть!
Выпив горячего пунша, мои гости приумолкли, погрузившись в думы. В наступившей тишине слышно было лишь тихое поскрипывание дерева – это Фрисландер, не любивший сидеть сложа руки, вырезал свою очередную марионетку.
– Да вы, Иошуа, нас просто отсекли от внешнего мира, – нарушил наконец молчание Звак, – с тех пор, как вы закрыли окно, никто не проронил ни слова.
– Глупо, наверное, но, глядя, как сквозняк раскачивает наши пальто, я не мог отделаться от мысли, до чего все же странно выглядят мертвые, безжизненные вещи, приводимые в движение ветром, – словно оправдываясь, поспешно проговорил Прокоп. -В самом деле, кажется почти чудом, когда предметы, которые мы привыкли видеть неподвижно лежащими, начинают вдруг подавать признаки жизни – охваченные таинственным трепетом, они дрожат, шевелятся, вздрагивают, и, согласитесь, есть в этом воскресении из мертвых что-то непостижимое и... и жутковатое...
Однажды, в поздний ночной час, мне пришлось наблюдать, как в обрывки бумаги, разбросанные по безлюдной площади, словно дьявол вселился – стоя под прикрытием домов, я не замечал ветра, – в дикой ярости носились они по кругу, преследуя друг друга, как будто этим неистовым хороводом хотели заклясть смерть, а потом ни с того ни с сего, казалось, успокаивались и, опустошенные, бессильно падали на землю, но лишь на мгновение, ибо уже в следующее па них вдруг снова что-то находило, и грязные, истерзанные клочья, охваченные безумным и бессмысленным бешенством, принимались кружиться в стремительном вихре и то, словно заговорщики, сбивались в кучу в какой-нибудь темной подворотне, то, одержимые новым приступом беспричинной злобы, внезапно бросались врассыпную; наконец, заметив меня, невольного свидетеля их жестоких игрищ, они почли за лучшее ретироваться и, зловеще шурша бумажными крылами, поспешно скрылись за углом...
Лишь одна толстая газета осталась лежать на мостовой – задыхаясь от переполнявшей ее ненависти, она то раскрывалась, то складывалась вновь, как будто жадно хватала своей беззубой пастью воздух.
Уже тогда темное подозрение закралось в мою душу: а что, если все живые существа, в том числе и люди, являются, по сути, чем-то вроде этих клочьев бумаги? Быть может, и пас несет по жизни какой-то неуловимый, недоступный нашему пониманию «ветер», который определяет наши желания и поступки, а мы-то, наивные, еще пытаемся рассуждать о свободе воли?..
А что, если вся наша жизнь есть не что иное, как некий сокровенный, неведомый нам вихрь? Тот самый, о котором сказано: не знаешь, откуда он приходит и куда уходит...[47] Разве не снится нам иногда, будто, погрузив руки глубоко в воду, мы ловим чудесных серебряных рыбок, а когда просыпаемся, то оказывается, что это всего лишь случайный сквозняк холодил наши ладони?
– Прокоп, да что это с вами? С чего вы вдруг заговорили как Пернат? – воскликнул Звак, окидывая музыканта подозрительным взглядом.
– Должно быть, его впечатлила та чудная история с книгой, которую незадолго до вашего прихода рассказал Пернат... Жаль, что вы запоздали и не слышали его рассказ, – заметил Фрислапдер.
– История о книге?
– Нет, скорее, о человеке, который эту книгу принес... Уж очень странно он выглядел... Пернат не знает о нем ничего: ни как его зовут, ни где он живет, ни что он хочет, ни как он выглядит – похоже, внешность его столь необычна, что наш гостеприимный хозяин, несмотря на все свои старания, так и не смог ее описать.
Звак насторожился.
– Любопытно, – пробормотал он и, немного помявшись, спросил, не спуская с меня испытующего взгляда: – Ну а лицо сего таинственного пришельца... оно было, наверное, лишено даже признаков какой-либо растительности и... и глаза у него такие характерно посаженные... раскосые?..
– Мне кажется, да... – ответил я в замешательстве, – то есть я.,, я в этом уверен... Именно так он и выглядел!.. Выходит, он... он вам знаком?..
Кукольник недоуменно пожал плечами:
– Не знаю почему, но, как только я услышал о вашей прямо-таки фатальной неспособности дать хотя бы приблизительное описание внешности сей загадочной персоны, меня сразу словно что-то толкнуло: Голем!..
Художник Фрисландер заинтересованно поднял глаза и даже отложил свой резец.
– Голем? Мне не раз доводилось слышать об этом легендарном существе, но, к великому сожалению, то, что болтают о нем в гетто, не более чем суеверный вздор. Неужели вы, Звак, располагаете какими-то достоверными сведениями о Големе?
– Кто из смертных осмелится сказать, что он действительно что-либо знает о Големе? -развел руками старый кукольник. -Все мы склонны относить глиняного человека к области преданий, пока в один прекрасный день в переулках гетто не произойдет нечто столь странное и даже противоестественное, что
мгновенно порождает в умах одну и ту же мысль: это он – Голем... И некоторое время вокруг только и разговоров что о нем... Слухи растут как снежный ком, обрастают самыми курьезными подробностями и вскоре становятся настолько фантастическими и нелепыми, что уже ничего, кроме смеха, не вызывают и сами собой мало-помалу сходят на нет... Однако если отделить зерно от плевел и отбросить ту непроницаемо плотную паутину вздорных слухов, которыми народная молва опутала эту таинственную историю, то можно, пожалуй, докопаться до чего-то более или менее достоверного... Утверждают, что корни легенды восходят к семнадцатому веку, когда некий раввин, руководствуясь ныне безвозвратно утраченным каббалистическим трактатом, создал из красной глины искусственного человека, так называемого Голема, с тем чтобы тот помогал ему звонить в синагогальные колокола и исполнял всевозможные черные работы.
Однако полноценного человека из его творения не получилось – сознательная жизнь лишь едва теплилась в этом грубом оковалке сырой материи, обреченном влачить жалкое существование механической куклы. Но и это, как говорит предание, лишь днем, благодаря магическому амулету, сокрытому за зубами глиняного гомункулуса и притягивающему к нему свободные астральные силы космоса.
И когда однажды перед вечерней молитвой раввин забыл извлечь сокровенную печать жизни изо рта Голема, тот впал в неистовство – в вечерних сумерках носился он по переулкам, круша и сметая все на своем пути. Долго гонялся за ним раввин, пока наконец не подстерег и не вырвал из судорожно сжатых зубов магический амулет. И страшное существо тут же бездыханным истуканом рухнуло наземь. До наших дней не дошло ничего, если не считать ту карликовую глиняную фигуру, которую показывают в Старо-новой синагоге.
– Этот раввин был как-то даже приглашен в Град, где на глазах самого императора заклинал тени мертвых, призрачной чередой шествовавшие пред изумленным взором знатных особ, почтивших своим вниманием сию диковинную церемонию, -
добавил Прокоп. – Современные ученые, правда, утверждают, что он использовал при этом что-то вроде Laterna magica[48]...
– Ну разумеется, чем пошлее и нелепее все эти неуклюжие попытки наших ученых мужей во что бы то ни стало втиснуть в прокрустово ложе своей жалкой позитивистской науки все неведомое, тем большим успехом они неизменно пользуются у здравомыслящих обывателей! Еще бы, ведь их косное сознание превыше всего на свете ценит тот маленький, уютный мирок с его привычными, проверенными временем устоями, в который коварным потусторонним силам вход заказан! – весело подхватил Звак. – Laterna magica! Как будто император Рудольф, который всю свою жизнь занимался герметическими науками, с первого же взгляда не разглядел бы шарлатанский кунштюк!
Мне, конечно, доподлинно не известно, на чем основывается легенда о Големе, однако я абсолютно уверен в одном: с этим городским кварталом тайными узами связано нечто неподвластное смерти – по крайней мере до тех пор, пока его сокровенная миссия не будет исполнена. Из поколения в поколение мои предки обитали здесь, в гетто, и, пожалуй, никто из ныне живущих не располагает такими давними, простирающимися в глубь веков сведениями о периодических появлениях Голема, как ваш покорный слуга!
Звак внезапно замолчал, и по лицу старика было видно, что его мысли обратились к временам давно прошедшим.
Вот сейчас, когда он сидел за столом, подперев рукой голову, его щеки, кажущиеся в тусклом свете лампы розовыми, почти юношескими, так резко контрастировали с седыми прядями волос, что я невольно сравнил черты старого кукольника с застывшими, маскообразными личинами его любимых марионеток. Странно, по до чего все же похож на них этот чудаковатый старик! То же самое выражение и те же самые черты лица!
Похоже, в этом мире и вправду есть вещи, которые не могут существовать порознь, в отрыве друг от друга, и, когда я представил себе на миг загадочный зигзаг в судьбе Звака, мне вдруг стало
не по себе при мысли, что такой человек, как он, получивший в отличие от своих предков вполне приличное образование и даже собиравшийся стать актером, внезапно все бросил и вернулся к обшарпанному вертепу с потрескавшимися от времени куклами, чтобы вновь бесприютным бродягой скитаться по грязным деревенским ярмаркам, подобно своим дедам и прадедам зарабатывая себе на жизнь неловкими и глуповатыми оплеухами, ходульными антраша и немудреными, но вулканическими страстями с их извечными фонтанами слез, разбитыми сердцами и океанами крови – словом, всем тем по-детски наивным сценическим хламом, который традиционно составляет основу простодушного, скроенного по одной мерке репертуара театра марионеток. Старик попросту не может без них, а они – без него: куклы живут его жизнью, ну а когда им приходится расставаться, они поселяются в его мыслях и до тех пор лишают своего несчастного хозяина покоя и сна, пока тот не возвращается к ним. Потому-то, наверное, старик и относится к деревянным человечкам с такой отеческой любовью и просиживает допоздна, выдумывая своим привередливым щеголям и кокеткам новые наряды, которые сам же и шьет из блестящей мишуры и сверкающих блесток.
– Звак, что же вы приумолкли? Мы все с таким интересом слушали вас... – окликнул Прокоп старого кукольника и бросил в нашу с Фрисландером сторону многозначительный взгляд, чтобы мы поддержали его.
– Даже не знаю, с чего и начать... – неуверенно пробормотал старик. – История Голема запутана, как лабиринт. Вот и Пернат – знать-то он знает, как выглядит тот неизвестный, который принес ему книгу, а описать его внешность хоть убей не может. Примерно раз в тридцать три года в наших переулках повторяется одно событие, в общем-то, и нет в нем как будто ничего особенного, но какой-то иррациональный, не поддающийся объяснению ужас охватывает население гетто.
Вновь и вновь происходит одно и то же: некий никому не ведомый человек в ветхих старомодных одеждах, с желтым безбородым лицом монголоидного типа, возникнув как из-под земли где-то в районе Альтшульгассе, шествует через Йозефов город
характерно мерной, странно спотыкающейся походкой – такое впечатление, будто он в любой миг готов рухнуть ничком на мостовую! – и вдруг... вдруг бесследно исчезает, будто растворяется в воздухе. Обычно, перед тем как исчезнуть, он сворачивает за угол в один из переулков...
По другим свидетельствам, неизвестный в своем движении по гетто описывает правильную окружность и обязательно возвращается к тому пункту, с которого он начал свое «кругосветное путешествие», – древнему дому, находящемуся неподалеку от синагоги. Кое-кто из очевидцев клятвенно заявлял, что, заметив диковинного незнакомца – как правило, тот появлялся неожиданно, из-за угла, – принимался следить за ним, и что странно: хотя шел сей подозрительный субъект ему навстречу – это все свидетели утверждали в один голос! – тем не менее фигура его по мере приближения становилась все меньше и меньше, как у того, кто удаляется, пока не исчезала вовсе...
Однако особенно глубокий след в умах здешних обывателей оставило явление призрачной персоны, случившееся шестьдесят шесть лет тому назад, – быть может, потому, что именно тогда терпение у горожан лопнуло и они облазили старинный дом на Альтшульгассе с подвала до крыши, самым тщательнейшим образом, дюйм за дюймом, обследовав его. Результат был плачевным: ничего. Тогда – как сейчас помню, хотя я в то время еще пешком под стол ходил, – всем жильцам велели вывесить в окнах белье, вот тут-то и установили, что в доме действительно имелась комната с одним-единственным зарешеченным окном. Ну а поскольку вход в нее обнаружить так и не удалось, то не придумали ничего лучше, как спустить с крыши веревку... Никогда не забуду: какой-то смельчак полез по ней вниз, чтобы, повиснув меж небом и землей, по крайней мере заглянуть в эту тайную камеру снаружи, однако едва он приблизился к зарешеченному окну, как веревка оборвалась и бедняга рухнул на булыжную мостовую, размозжив себе череп. Выждав некоторое время, когда страсти по поводу несчастного случая немного поулеглись, горожане решили вновь повторить попытку, но вот незадача – показания свидетелей относительно того, которое из окон вело в недоступную
камору, настолько расходились, что собравшиеся судили-рядили, спорили-спорили да в конце концов и переругались, на том все и кончилось...
Что же касается меня, то я впервые встретил Голема около тридцати трех лет назад. Мы с ним едва не столкнулись в одном из так называемых пассажей, которыми у нас высокопарно именовали крытые проходные дворы.
До сих пор не могу понять, что на меня тогда нашло. Эффект неожиданности? Да, конечно, нельзя же, в самом деле, все время, изо дня в день ходить в ожидании встречи с Големом! Однако очень хорошо помню, что за секунду до того, как я его увидел, во мне что-то пронзительно вскрикнуло: Голем! И в тот же миг кто-то большой и неуклюжий спотыкающейся, косолапой походкой вышел из сумрака грязного вестибюля... дальше какой-то провал – и... и удаляющийся звук тяжелых, мерных шагов... Потом... потом разом нахлынула толпа – сплошь бледные возбужденные лица, – и на меня обрушился град вопросов: видел ли я е го ?..
И только после того, как я ответил, до меня наконец дошло, что язык мой был словно парализован какой-то невесть откуда взявшейся судорогой и что еще несколько мгновений назад я, сам не осознавая этого, пребывал в состоянии полнейшей каталепсии...
К своему немалому удивлению, я обнаружил, что могу передвигаться без посторонней помощи, но только когда мои одеревенелые ноги с трудом сделали первый шаг, мне стало ясно: на какой-то краткий миг – пусть даже это продолжалось не дольше удара сердца – мое тело, сознание, воля были скованы чем-то вроде столбняка.
Обо всем этом я потом часто и подолгу размышлял, и мне кажется, наиболее близким истине объяснением будет следующее: каждым поколением обитателей гетто хотя бы раз в жизни овладевает своего рода духовная эпидемия – с быстротой молнии ее вездесущие бациллы проникают в самые затаенные уголки еврейского квартала, инфицируя человеческие души с какой-то неведомой нам целью, и тогда над лабиринтом кривых переулков сгущается нечто призрачное и зловещее, а там, где его
напряжение оказывается особенно высоким, критическим, оно, подобно миражу, обретает обличье некоего характерно приметного существа, которое, судя по всему, обитало здесь много веков назад и теперь во что бы то ни стало жаждало обрести утраченную некогда плоть и кровь.
Весьма вероятно, что эта призрачная персона постоянно пребывает меж пас – каждый день, каждый час, каждое мгновение, а мы этого не замечаем, как не слышим звука вибрирующего камертона, до тех пор пока он не коснется дерева, заставляя его резонировать.
Это... это какое-то бессознательное творчество... Наши души творят по наитию, без ведома сознания, создавая свое нерукотворное произведение подобно тому, как образуется кристалл, возникающий из бесформенной, аморфной массы сам по себе, согласно вечным и неизменным законам природы.
Что мы об этом знаем? Да почти ничего... Этот таинственный процесс можно, наверное, сравнить с атмосферным электричеством: в душные летние дни воздух буквально насыщен им, напряжение неуклонно растет и, достигнув своего предела, разрешается вдруг разрядом молнии, так вот, постоянная концентрация неизменно сосредоточенных на чем-то одном мыслей, чьими ядовитыми эманациями пропитан каждый камень Йозефова города, тоже должна неизбежно повлечь за собой внезапный и резкий разряд, своего рода психический коллапс, мгновенно открывающий самые затаенные уголки нашего ночного сознания дневному свету; видимо, природа этих феноменов в самом деле в чем-то сходна, только в одном случае рождается молния, в другом – фантом, черты лица, походка и поведение которого равно присущи всем обитателям еврейского квартала, ибо являет он собой не что иное, как символ коллективной души, – факт сей не вызовет никаких сомнений у того, кто умеет правильно толковать сокровенное арго предвечных метафор, воплощенных в подчас весьма прихотливых и необычных формах внешнего мира.
И точно так же, как определенные признаки предшествуют удару молнии, некие странные и грозные знамения
предвещают катастрофическое вторжение кошмарного фантома в материальный мир. Осыпавшаяся штукатурка на древней стене вдруг ни с того ни с сего принимает угловатые очертания шествующего странника, а в ледяных узорах на оконном стекле угадываются то уродливо искаженные демонические лики, то загадочные каббалистические письмена... Вот и песок с крыши сыплется почему-то не так, как всегда, и в душу мнительного наблюдателя уже закрадывается страшное подозрение: мол, некие незримые, боящиеся дневного света призраки, злоумышляя против рода человеческого, пытаются таким образом начертать тайные магические знаки. Остановится ли глаз на каком-нибудь причудливом орнаменте или линиях ладони, и человеком уже овладевает непреодолимая потребность повсюду отыскивать нечто многозначительное, имеющее скрытый и непременно злокозненный смысл, – словом, все то, что в горячечных снах разрастается до гигантских, гипертрофированных размеров. Наши мысли полчищами мелких грызунов бросаются на бруствер, отделяющий повседневную действительность от сверхчувственного мира, в тщетных и беспомощных попытках прогрызть в нем брешь и хотя бы одним глазком заглянуть в иную реальность, дабы во всеоружии противостоять коварным проискам потусторонних сил, которые только о том и мечтают – а мучительные подозрения на сей счет не оставляют пас ни на минуту, – чтобы, изведя нашу душу чувством постоянной, изматывающей нервы тревоги, создать благодатную питательную среду для вампиричного фантома, жаждущего обрести плоть и кровь.
Вот и сейчас... Стоило Пернату рассказать о странном незнакомце с желтым безбородым лицом и раскосыми глазами, как Голем тут же предстал предо мной таким, каким я видел его много лет назад. Он словно вырос из-под земли. И какой-то безотчетный страх, что мы вновь стоим на пороге каких-то неведомых и ужасных событий, на мгновение овладел мной – меня словно накрыло зловещей тенью, которую отбрасывали первые призрачные предвестники Голема...
Трудно да и, пожалуй, невозможно с чем-нибудь спутать этот страх – смутный, неопределенный, до поры до времени-
кажущийся абсолютно беспричинным, он исподволь закрадывается в душу, заставляя ее цепенеть в кошмарном предчувствии неотвратимо надвигающейся катастрофы. Впервые мне пришлось изведать его еще в детские годы: шестьдесят шесть лет минуло с тех пор, когда однажды вечером к нам пришел жених моей сестры, чтобы всей семьей назначить день свадьбы.
Потехи ради мы решили тогда погадать и стали лить свинец; я смотрел разинув рот и никак не мог понять, почему так болезненно сжимается мое сердце: в моих беспорядочно путанных детских представлениях это таинственное действо почему-то связалось с Големом, о котором мне частенько рассказывал дед, и я не мог отделаться от подспудной тревоги, что вот сейчас дверь внезапно распахнется и войдет незнакомец...
Сестра вылила ложку с расплавленным металлом в чаи с водой и, заметив, с каким напряженным вниманием я следил за ней, весело подмигнула мне. Дрожащими морщинистыми руками дед извлек тускло мерцающий свинцовый слиток и поднес его к лампе. Мои домашние сгрудились вокруг, оттеснив меня в сторону, и... и вдруг замерли, мертвая тишина воцарилась в гостиной, но лишь на миг, ибо тут же, опомнившись, заговорили все разом, споря и возбужденно перебивая друг друга; я тоже хотел взглянуть, но меня отправили спать.
И только спустя несколько лет, когда я стал старше, отец рассказал, что расплавленный металл застыл в форме маленькой, безупречно гладкой, как будто отлитой в специальной матрице, головы с широкими скулами и раскосыми глазами, в которой все присутствующие, к своему немалому ужасу, признали Голема...
Мне приходилось не раз разговаривать с архивариусом Шемаей Гиллелем, следящим за сохранностью ветхого реквизита Старо-новой синагоги, среди которого находится и та самая пресловутая глиняная фигура времен императора Рудольфа. Так вот, весьма преуспевший в каббале архивариус считает, что этот грубо слепленный истукан с корявыми и непропорциональными человеческими членами, вероятно, является, подобно запомнившейся мне свинцовой голове, одним из прежних предвестников Голема. И загадочный незнакомец, который мерещится теперь
всем на каждом углу, был изначально неким умозрительным образом – акт творения сей метафизической субстанции мог осуществить только истинно великий каббалист, каковым и считался по праву легендарный рабби Лёв, ибо он силой мысли вдохнул бессмертную жизнь в свое создание, ну а уж потом, дабы даровать ему бренное тело, облек в глиняную плоть, и теперь через определенные промежутки времени, соответствующие одним и тем же астрологическим констелляциям, призрачная креатура, не ведающая смерти, периодически возвращается, томимая неизбывным желанием вновь преоблачиться в материю...
Покойная жена Гиллеля тоже однажды видела Голема, она столкнулась с ним лицом к лицу и, пока загадочное существо находилось в пределах видимости, так же, как и я, не могла двинуть ни рукой, ни ногой, пребывая в каком-то странном оцепенении.
Так вот она, в отличие от других, была уверена, и ничто не могло разубедить твердо стоявшую на своем женщину, что взору ее тогда явилась собственная душа, которая, покинув ненадолго свою бренную оболочку, предстала пред ней, испытующе воззрившись чужими раскосыми глазами. И несмотря на неописуемый ужас, овладевший ею тогда, жена Гиллеля ни на миг не усомнилась в том, что сей неведомый незнакомец является лишь отражением ее сокровенного Я...
– Невероятно, – машинально пробормотал Прокоп и снова погрузился в себя.
Мысли Фрисландера, судя по отсутствующему виду, с которым он смотрел в одну точку, тоже витали где-то далеко.
В дверь постучали, в комнату вошла дряхлая старуха, приносившая мне по вечерам нехитрую снедь, поставила на пол глиняный кувшин с водой и молча удалилась.
Словно проснувшись, мы подняли глаза и недоуменно огляделись, однако долго еще никто из нас не мог издать ни звука. Как будто в комнату вместе со старухой проник какой-то новый флюид, к которому надо было еще привыкнуть.
– Да, кстати... Надеюсь, всем вам, господа, известна рыжая Розина – тоже ведь, согласитесь, то еще личико, от
которого просто так не отделаешься! Взять хотя бы ее похотливый взгляд – он преследует из всех углов и закоулков! – выпалил внезапно Звак с какой-то детской непосредственностью. – Эта застывшая блудливая ухмылка едва ли не первое, что я увидел в своей жизни. Сначала она принадлежала ее бабке, потом перешла по наследству к матери девчонки! И всегда одно и то же лицо, ни на йоту не отличающееся от своего прообраза! И то же имя – Розина! Как будто все они являются воплощением одной и той же сущности...
– А разве Розина не приходится дочерью старьевщику Аарону Вассертруму? – спросил я.
– Что верно, то верно, слухи такие есть, – хмуро буркнул старый кукольник, – только у Аарона Вассертрума много такого – в том числе и дочери, и сыновья, – о чем никто из обитателей гетто ни сном ни духом не догадывается... Вот и мать Розины – ни одна живая душа не знала ни ее отца, ни того, что с нею сталось. Принесла в подоле в пятнадцать лет – и как в воду канула. Исчезновение ее, если не ошибаюсь, было каким-то образом связано с убийством, совершенном в этом самом доме.
Навроде своей дочери, она якшалась с кем ни попадя, а уж головы тогдашних подростков кружила так, что те совсем с ума посходили... Один из них до сих пор жив, я его частенько встречаю, вот только имя его запамятовал. Другие давно поумирали, думаю, это она их всех свела в могилу. То время вспоминается мне лишь какими-то обрывочными эпизодами, и поблекшие образы действующих лиц призрачной чередой проплывают предо мной. Не знаю почему, но особенно запал мне в душу один спившийся, полусумасшедший бедолага, который шлялся ночами по кабакам и за пару крейцеров вырезал посетителям силуэты из черной бумаги. Ну а когда напивался, впадал в прямо-таки беспросветную тоску и как заведенный, рыдая и обливаясь слезами, до тех пор вырезал один и тот же хищный, блудливо ухмыляющийся женский профиль, пока запас траурной бумаги не подходил к концу.
Не помню уже всех обстоятельств дела, но только свихнулся он от несчастной любви, еще зеленым юнцом влюбившись без
памяти в некую Розину – судя по всему, бабку нашей теперешней лахудры...
Звак замолчал и, утомленно прикрыв глаза рукой, откинулся на спинку кресла.
Похоже, даже судьба в этом колдовском лабиринте переулков, как завороженная ходит кругами, неизменно возвращаясь к исходному пункту, мелькнуло в моем сознании, и отвратительная картина, как заноза засевшая в моей памяти, вновь возникла у меня перед глазами: тощая, облезлая кошка с разбитой головой, покачиваясь и неуверенно переставляя подгибающиеся лапки, обреченно, как сомнамбула, бредет по кругу под свист и улюлюканье зевак – двигаться прямо она не может, только по кругу... Только по кругу...
– Так, а теперь займемся головой, – внезапно ворвался в мой слух, возвращая меня к действительности, бодрый голос Фрисландера.
Вынув из кармана круглую деревянную чурку, художник принялся за работу.
Свинцовая усталость навалилась вдруг на меня – чувствуя, что веки мои сами собой смыкаются, я отодвинул свое кресло в тень.
В каморке воцарилась тишина, слышно было, как в казанке закипала вода для пунша, потом тихо звякнули стаканы – это Иошуа Прокоп наполнил их горячим напитком. Сквозь плотно закрытое окно проникали едва слышные звуки разудалых танцевальных мелодий – подхваченные ветром, они по-прежнему доносились откуда-то снизу и то смолкали совсем, то вновь воскресали...
Не хочу ли я чокнуться?.. Похоже, это голос музыканта, но почему он такой далекий?.. Ответа с моей стороны не последовало: я впал в столь полную и безнадежно глубокую прострацию, что даже помыслить не мог о том, чтобы произносить какие-то слова.
Внутренний покой, овладевший мной, был таким чистым, гармоничным и непоколебимо монолитным, что я, казалось,
превратился в кристалл. Уж не сон ли это? И, чтобы убедиться в том, что все это наяву, я сосредоточил свой немигающий взгляд на резце в руках Фрисландера – таинственно поблескивающая сталь так и сновала вокруг деревянной головы, что-то подрезая и подтачивая, и ажурные завитки мелких стружек бесшумно и завороженно осыпались на пол...
И вновь слуха моего, словно преодолевая бездну времен, коснулся монотонный голос Звака – старик рассказывал чудесные истории из жизни своих любимых марионеток, плавно и незаметно переходившие в фантастические сюжеты тех очаровательно манерных пьесок, которые он сочинял для своего кукольного театра.
Прихотливо петляющая застольная беседа коснулась вдруг доктора Савиоли и его благородной возлюбленной, супруги какого-то аристократа, тайно встречавшейся с доктором в соседней мансардной студии.
И вновь привиделась мне злорадная гримаса Аарона Вассертрума и его снулые рыбьи глаза...
Может быть, следовало рассказать Зваку о том, что тогда случилось? – подумал я и... и промолчал, почтя за лучшее держать язык за зубами; кроме того, было очевидно, что, даже если бы захотел, я не смог бы издать ни звука.
Внезапно взгляды сидящих за столом обратились ко мне, и Прокоп очень громко и четко сказал: «Он уснул», – это было произнесено таким нарочито зычным голосом, что звучало почти как вопрос.
Дальнейшая беседа велась моими гостями вполголоса, и я сразу понял, что они говорят обо мне...
А резец Фрисландера так и летал, так и вертелся, творя деревянную голову, и свет лампы, отраженный его сверкающей сталью, слепящими бликами колол мне глаза.
Мне вдруг послышалось: «душевнобольной»... Разговор явно оживился, голоса звучали громче...
– Таких тем, как Гол ем, при Пернате лучше избегать, – с упреком заметил Иошуа Прокоп. – Когда он рассказывал об экзотическом пришельце, якобы принесшем ему какую-то
страшную каббалистическую книгу, мы помалкивали и не задавали никаких вопросов. Бьюсь об заклад, что все это ему привиделось.
– Ну что ж, вы совершенно правы, – кивнул Звак. – Это все равно что с пылающим факелом войти в старинные, в течение многих десятилетий не открывавшиеся покои, стены и потолок которых обтянуты ветхой, полуистлевшей обивкой, а иссохшие половицы покрыты таким толстым слоем вековой пыли, что ноги утопают в нем по щиколотку: одна-единственная искра – и весь этот прах минувших столетий мгновенно обратится в бушующее пламя...