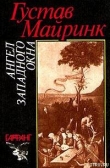Текст книги "Произведение в алом"
Автор книги: Густав Майринк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
Подождав, когда эта алебастровая маска окоченеет вновь, я тихо спросил:
– Это ты, Мириам?
Губы шевельнулись, и с них сошло неуловимое, зато вполне разборчивое:
–Да.
Почти вплотную приблизив ухо к губам Ляпондера, я замер, вслушиваясь в тот нежный шелест, который слетал с них и был так похож на голос Мириам, что мне стало не по себе.
Я упивался звучанием дорогого голоса, и до меня, завороженного этой неземной музыкой, едва доходил смысл бегущих стремительным потоком слов. Мириам говорила о своей любви ко мне и о том несказанном счастье, которое выпало нам, – ведь мы наконец нашли друг друга и ничто больше не разлучит нас!.. Говорила взахлеб, без пауз, как человек, которому необходимо высказаться и которого в любой миг могли прервать...
Потом голос стал сбивчивым, прерывистым – свеча на ветру, – а то и вовсе пропадал.
– Мириам! – воскликнул я и вдруг в каком-то странном наитии спросил: – Мириам, ты умерла?.. – И от ужаса, что это мое невесть откуда взявшееся предположение может оказаться правдой, у меня перехватило дыхание.
Повисла гробовая тишина.
Потом словно призрачная зыбь пробежала по белым как мел губам:
– Нет... жива... Я... я сплю... И больше ничего.
Обратившись в слух, я затаил дыхание, стараясь не пропустить ни звука.
Тщетно.
Полнейшее безмолвие.
На меня вдруг навалилась такая непомерная усталость, что я вынужден был ухватиться за нары, чтобы не упасть прямо на спящего Ляпондера.
На мгновение мне действительно на месте убийцы привиделась Мириам – иллюзия была столь правдоподобной, что я едва не запечатлел поцелуй на губах моего сокамерника.
– Енох! Енох! – сорвался вдруг с них потусторонний лепет, который становился все более четким и вразумительным. – Енох! Енох!
Я сразу признал голос архивариуса.
–Это ты, Гиллель?
Ответа не последовало.
Где-то я читал, что находящийся в трансе медиум в полном смысле слова слушает не ухом, а брюхом, что его орган слуха находится в подложечной впадине – точнее, в солнечном сплетении.
Склонившись над животом простертого на парах убийцы, я повторил свой вопрос:
– Это ты, Гиллель?
– Да, я слышу тебя, Енох!
– Как здоровье Мириам? Ты понимаешь, что я имею в виду?
– Да, понимаю... Ибо с самого начала провидел все. Пребудь в покое, Енох, и не позволяй страстям и страхам мира сего смущать дух твой!
– Сможешь ли ты когда-нибудь простить меня, Гиллель?
– Истинно говорю тебе, Енох: пребудь в покое...
– Увидимся ли мы когда-нибудь? – поспешно спросил я, так как боялся, что ответа уже не услышу: последняя фраза, сошедшая с уст Ляпондера, была едва слышна.
– Кто знает... Надеюсь. Буду ждать... тебя... доколе возможно... ибо призван я... в землю...
– Куда? В какую землю? – я чуть не упал на Ляпондера. – В какую землю? В какую...
– ...земля... Гад... южнее... Палестины... И голос угас.
Стремительный вихрь сотен вопросов, которым так и суждено было остаться без ответа, ворвался в мои мысли: почему он называет меня Енохом? Как поживает старина Звак? Сделал ли свое признание Яромир? Потом все смешалось у меня в голове: старьевщик Вассертрум, часы, Фрисландер, Ангелина, Харузек... Харузек!..
– А теперь, мой самый близкий и дорогой друг, пора прощаться, живите счастливо и вспоминайте иногда искренне преданного
вам и бесконечно благодарного Иннокентия Харузека, – громко и отчетливо сорвалось вдруг с губ медиума.
Характерную интонацию студента просто невозможно спутать ни с какой другой, но на сей раз мне почему-то показалось, будто я сам произнес это исполненное тихой печали прощальное напутствие, слово в слово повторив заключительную фразу из письма Харузека...
На лицо Ляпондера уже упала густая тень. Пятно лунного света сместилось выше и освещало теперь изголовье соломенного тюфяка. Еще четверть часа, и оно окончательно покинет камеру.
Уже ни на что не надеясь, я машинально задавал вопрос за вопросом, однако ответом мне была мертвая тишина: убийца лежал в полной неподвижности, уподобившись каменному изваянию, а его плотно сомкнутые веки даже не дрогнули...
О, как жестоко проклинал я себя за то, что все эти дни видел в Ляпондере только кровавого монстра, упрямо отказываясь воспринимать его как человека.
Судя по тому, что довелось мне испытать сегодняшней ночью, он был сомнамбулой – существом, находящимся под влиянием луны.
Возможно, и его садистские наклонности являлись не чем иным, как вполне закономерным следствием тех странных сумеречных состояний, которым он был подвержен. Да тут и сомневаться не приходится – конечно же, это так...
Теперь, когда за окном уже брезжило утро, мертвенная окоченелость черт Ляпондера сменилась мягким, почти детским выражением блаженной умиротворенности.
Нет, не может так сладко спать человек, на совести которого садистское убийство, решил я и уже не мог дождаться, когда же мой сокамерник проснется.
Впрочем, знал ли он о своих медиумических способностях?
Наконец Ляпондер открыл глаза и, встретившись со мной взглядом, поспешно отвел их в сторону.
Я тут же подошел к нему и взял его за руку.
– Простите меня, господин Ляпондер. Мое неприветливое поведение и та подчеркнутая неприязнь, которую я при каждом удобном случае выказывал в ваш адрес, были в высшей степени грубы, оскорбительны и... и, наверное, не заслуживают прощения. Тем не менее считаю своим долгом сказать, что если бы не чрезвычайно необычные, почти исключительные обстоятельства...
– Не утруждайте себя объяснением, сударь мой, – деликатно поспешил мне на помощь Ляпондер. – Я очень хорошо понимаю, какое отвращение должен испытывать человек, вынужденный находиться в одной камере с маньяком, который ради удовлетворения своих низменных наклонностей проливает кровь невинных людей.
– Пожалуйста, не будем больше об этом... Сегодня ночью мне столько всего пришлось передумать, но до сих пор я не могу отделаться от мысли, что вы, быть может, не совсем... что вы не... не... – я запнулся, подыскивая слова.
– ...не в своем уме, – закончил он за меня. Я кивнул.
– Извините, но мне кажется, некоторые симптомы достаточно определенно свидетельствуют в пользу такого заключения. Я...я... вы позволите без обиняков, господин Ляпондер?
– Прошу вас, сударь.
– Это может показаться несколько странным, но... но скажите, пожалуйста, что вам сегодня снилось?
Он усмехнулся и качнул головой:
– Мне никогда ничего не снится.
– Но вы разговариваете во сне.
Ляпондер удивленно поднял на меня глаза и, подумав с минуту, уверенно сказал:
– Это могло произойти только в том случае, если вы меня о чем-то спрашивали. – Я кивнул. – Ибо, как я уже сказал, мне никогда ничего не снится. Я... я... странствую... – с легкой заминкой добавил он, понизив голос.
– Странствуете? В каком смысле?
Всем своим видом мой собеседник давал понять, что ему бы не хотелось посвящать в столь щекотливые подробности своей
душевной жизни совершенно незнакомого человека, и я, чувствуя себя обязанным объяснить те причины, которые вынуждали меня задавать эти хоть и нескромные, но отнюдь не праздные вопросы, поведал ему в общих чертах о том, что произошло сегодняшней ночью.
– Вы можете нисколько не сомневаться в тех сведениях, которые получили от меня столь странным образом, – сказал он серьезно, когда я кончил. – Все, о чем я говорю во сне, соответствует действительности. Видите ли, сударь, мои сны – это своего рода странствование, иными словами, моя жизнь во сне устроена совсем по другим законам, чем у других, нормальных, людей. Если угодно, мой сон – это нечто вроде исхода из тела... Например, сегодня ночью я был в одной весьма необычной комнате, единственный вход в которую вел снизу, через люк в полу...
– Как она выглядела? – быстро спросил я. – Нежилое помещение, в котором ничего нет, кроме старой рухляди в углу?
– Нет, там была мебель... правда, весьма скудная... На кровати спала совсем еще юная девушка... Впрочем, мне показалось, это был летаргический сон. Рядом с ней сидел какой-то господин, заботливо положив руку ей на лоб...
Ляпондер описал лица обоих – никаких сомнений: это были Гиллель и Мириам.
Боясь спугнуть воспоминания сомнамбулы, я затаил дыхание.
– Пожалуйста, продолжайте. Кто-нибудь еще был в комнате?
– Кто-нибудь еще? Постойте, постойте... да как будто бы нет... больше никого я там не заметил. На столе горел семирожковый светильник. Где-то я уже видел такой... Кажется, в синагоге... Потом я стал спускаться по винтовой лестнице...
– Она была сломана... последних ступеней не хватало?
– Сломана? Нет, нет, никаких дефектов я не обнаружил. Со стороны к ней примыкала небольшая каморка... Там сидел некто в башмаках с серебряными пряжками... И его лицо... лицо человека чуждой нам расы, таких людей мне еще видеть не приходилось: было оно желтого цвета, скулы сильно выдавались вперед, но особенно выделялись глаза – узкие, раскосые... Неизвестный
сидел, наклонившись вперед, и, казалось, чего-то ждал... Быть может, какого-то приказа или... или пароля...
– А книги... большой старинной книги вы там нигде не виде ли? – кусая от нетерпения губы, допытывался я.
Ляпондер потер лоб.
– Книги, говорите вы? Да, совершенно верно, па полулежал какой-то старинный пергаментный манускрипт. Он был раскрыт, и страница начиналась с большой, отлитой из золота буквы «алеф».
– Вы, наверное, хотели сказать с «айн»?
– Нет, с «алеф».
– Вы в этом уверены? Это была не «айн»?
– Нет, я помню абсолютно точно: «алеф».
Терзаемый сомнениями, я лишь покачал головой. Очевидно, Ляпондер в своем сомнамбулическом странствовании немного заплутал – забрел в мое сознание и, введенный в заблуждение хранящимися там воспоминаниями, все перепутал: Гиллель, Мириам, Голем, книга Иббур, золотой инициал, подземный лабиринт...
– И как давно обнаружился у вас этот дар к... к странствованию? – спросил я.
– С тех пор как мне исполнился двадцать один год... – начал было Ляпондер и тут же замолчал, явно не желая распространяться на эту тему.
Затянувшаяся пауза, казалось, нисколько не тяготила моего странного визави – невидящий, устремленный куда-то в потустороннее взгляд медленно и отрешенно скользил в пространстве, когда же в траекторию его направляемого неведомыми течениями дрейфа попала моя фигура, он, пронзив меня насквозь, уже готов был равнодушно проследовать дальше, как вдруг замер, прикованный к моей груди.
Не знаю, что уж он там увидел, этот человек с улыбкой божества, но только на его бесстрастном лице появилось выражение поистине безграничного изумления.
Не обращая внимания на мое замешательство, Ляпондер, не сводивший глаз с моей груди, порывисто схватил меня за руку и едва ли не взмолился:
– Заклинаю вас, расскажите мне все. Сегодня последний день... больше мы с вами никогда в этой жизни не увидимся... Возможно, уже через час меня отконвоируют, чтобы зачитать мне смертный приговор...
Я в ужасе прервал его:
– Ради бога, сошлитесь на меня как на свидетеля! Я присягну, что вы невменяемы... подвержены припадкам сомнамбулизма. Не может быть, чтобы вас осудили на смерть, не проведя медицинского освидетельствования... Насколько мне известно, заключение о вашем психическом состоянии должна дать специальная комиссия. Будьте же благоразумны!..
Ляпондер нетерпеливо отмахнулся:
– Ерунда! Какое может быть благоразумие, когда речь идет о вечности!.. Пожалуйста, расскажите мне все!
– Но что вы хотите от меня услышать? Лучше поговорим о вас и...
– Через всю вашу жизнь, теперь-то я это знаю, должна тянуться цепь странных и загадочных событий, которая касается также и меня – и гораздо ближе, чем вы можете себе представить... Прошу вас, расскажите мне все! – умолял Ляпондер.
Я оторопел, у меня в голове не укладывалось: как, этот невероятный человек, уже стоящий одной ногой в могиле, вместо того чтобы обсуждать вполне реальную возможность добиться отмены смертной казни, выпытывает у меня какие-то в высшей степени сомнительные с точки зрения здравого смысла обстоятельства моей жизни, которые любой другой на его месте назвал бы полным вздором!
Отчаявшись взывать к благоразумию этого одухотворенного безумца, я посвятил его в те внушающие мне безотчетный ужас тайны, темный смысл которых упорно ускользал от моего понимания.
После каждого рассказанного мной эпизода он удовлетворенно кивал с таким видом, будто ничего другого и не ожидал, отлично понимая скрытую подоплеку той длинной череды кошмарных наваждений, которые неотступно преследовали меня в течение всей моей жизни.
Когда же я дошел до описания того, как предо мной возник призрачный фантом с фосфоресцирующей туманностью вместо головы и протянул мне черные зерна в красную крапинку, Ляпондер буквально впился в меня глазами, сгорая от нетерпения услышать, каков был мой выбор.
– Итак, сударь, вы выбили их у него из рук, – задумчиво про бормотал он. – Никогда не думал, что существует третий путь.
– Это не третий путь, – возразил я, – ибо мой жест равнозначен отказу от зерен.
Мой собеседник усмехнулся.
– Похоже, вы думаете иначе, господин Ляпондёр?
– Если бы вы их отвергли, то, наверное, пошли бы «путем жизни», однако после вашего «отказа» в руке фантома зерен не осталось. Как вы сказали, они рассыпались по полу, а это означает, что семя магической власти посеяно в мире сем и до тех пор пребудет под неусыпным надзором ваших предков, пока не исполнятся сроки и оно не прорастет. Вот тогда-то и воскреснут для новой жизни те сокровенные силы, которые пока еще лишь подспудно дремлют в глубине вашей души.
Я все еще не понимал.
– Пребудут под неусыпным надзором моих предков?..
– Перед вами было разыграно некое мистериальное действо, которое следует понимать символически, – объяснил Ляпондёр. – Круг обступивших вас людей в мерцающих одеяниях фиолетового цвета был цепью тех перешедших к вам по наследству Я, которые носит в себе каждый смертный, рожденный в мир сей женщиной. Человеческая душа не есть нечто отдельное, независимое, самодостаточное, ей еще надо стать таковой; в случае, если многотрудный процесс сей удается довести до конца, говорят о бессмертии. Ваша душа пока что составлена из многих Я, как муравейник – из несметных полчищ муравьев, в вас заключены духовные останки тысяч и тысяч предков – патриархов вашего рода. Все земные существа устроены сходным образом. Как бы мог цыпленок, только что вылупившийся из яйца, тотчас найти необходимую для себя пищу, если бы не унаследовал опыта миллионов своих предшественников? Инстинкт – вот
неоспоримое доказательство сверхъестественного присутствия в телах и душах потомков Адама целого сонма призрачных предков... Однако простите, я не хотел прерывать вас.
Я закончил свои рассказ. Теперь ему было известно все, абсолютно все, даже то, что сказала Мириам о Гермафродите.
Когда же в наступившей тишине я посмотрел на Ляпондера, мне стало не по себе: и без того бледное лицо его сейчас было таким же белым, как известка на стене, а по щекам струились потоки слез...
Я поспешно отвел глаза, встал и принялся расхаживать по камере, давая ему возможность успокоиться. Потом присел напротив и, призвав на помощь все мое красноречие, принялся убеждать этого не от мира сего человека в необходимости немедленно известить судейскую коллегию о своем тяжелом психическом расстройстве.
– Если бы вы по крайней мере не признавались в убийстве! – воскликнул я в сердцах, завершая свою прочувствованную речь.
– Но я должен был это сделать! Они взывали к моей совести, – наивно пробормотал Ляпондер.
– Помилуйте, а где была ваша совесть, когда... Впрочем, не будем об этом... И все же, сударь, неужели вы считаете ложь более тяжким прегрешением, чем... чем убийство? – изумленно спросил я.
– В общем, возможно, нет, что же касается меня – да. Безусловно более тяжким. Судите сами: когда следователь спросил, признаю ли я себя виновным, у меня хватило духу сказать правду. Итак, это был мой свободный выбор – солгать или не солгать... Когда же я совершил убийство... пожалуйста, позвольте мне не вдаваться в подробности: это было так ужасно, что лучше уж мне не бередить память – боюсь, мое сознание не выдержит и рухнет под напором страшных, пропитанных кровью воспоминаний... Так вот, когда я совершил убийство, у меня не было выбора. Понимаете, не было! И тем не менее весь этот кошмар содеян мною в ясном уме и твердой памяти... Некая неведомая сущность, о присутствии которой в себе я даже не подозревал, вдруг восстала ото сна, и была она сильнее меня. Неужели
вы думаете, что, будь у меня выбор, я бы стал убивать?! Никогда в жизни я не убивал – кажется, и мухи не обидел! – да и сейчас не смог бы поднять руки не то что на человека, а и на ничтожного муравья...
Представьте на минуту, что одна из заповедей, данных человеку, гласила бы: убий, а за ослушание полагалась бы смерть -подобное, кстати, происходит на войне, – в таком случае меня бы немедленно приговорили к смертной казни, ибо и тогда тоже я был бы лишен выбора по той простой причине, что убийство противно моей натуре. Однако в тот ужасный день все происходило с точностью до наоборот: я не мог не убивать...
– Лишнее свидетельство того, что вы были тогда невменяемы и действовали в состоянии какого-то странного аффекта, ощущая себя другим человеком! Тем более следовало сделать все возможное, лишь бы избегнуть несправедливого приговора, ибо на смертную казнь должен быть осужден тот, другой... – с жаром возразил я.
Ляпондер протестующе вскинул руку:
– Вы ошибаетесь, сударь! И судьи по-своему совершенно правы. Неужто можно оставлять на свободе человека, подобного мне? А что, если завтра или послезавтра на меня снова что-нибудь найдет и случится новое,несчастье?..
– Ну хорошо, допустим, вас нельзя оставлять без присмотра, тогда вы, наверное, должны быть помещены в лечебницу для душевнобольных... Но казнить... Нет, сударь, я хочу вам сказать, смертный приговор – слишком суровая и несправедливая мера для человека, не отвечающего за свои поступки.
– И были бы абсолютно правы, если бы речь в моем случае шла о душевном расстройстве, но ведь все дело в том, что я не сумасшедший, – невозмутимо парировал Ляпондер. – Мной владеет нечто совсем иное – это какая-то потусторонняя сущность, которая приводит одержимого ею человека в некое особое состояние, по своим проявлениям очень напоминающее безумие и все же полярно противоположное каким бы то ни было человеческим психозам. Пожалуйста, выслушайте меня, сударь, и, быть может, кое-какие обстоятельства не только моей, но и
вашей собственной жизни уже не покажутся вам столь безнадежно темными...
Все, что вы мне рассказали о фантоме с туманностью вместо головы – разумеется, это тоже символ, скрытый смысл которого вы легко поймете, если как следует подумаете, – мне известно, ибо со мной произошло то же самое. Только я принял зерна и, таким образом, избрал «путь смерти»! Высший долг для братии нашего красного круга состоит в том, чтобы всего себя, все свои поступки и помыслы, без остатка подчинить той высшей духовной субстанции, коей будет угодно избрать нас своим орудием: отдаться ей слепо, бездумно, безраздельно и, куда бы ни вела уготованная нам стезя – на виселицу или на трон, к бедности или к богатству, – идти по ней без оглядки, никуда не сворачивая и не обращая внимания ни на какие соблазны, до самого конца.
Никогда не колебался я, если выбор был доверен мне, моему сокровенному Я, поэтому и следователю не солгал...
Вам знакомы слова пророка Михея: «О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь»?[123]
Если бы я солгал, то посеял бы причину, ибо выбор зависел только от меня; совершенное мной убийство – это просто кошмарное следствие некой давно дремавшей в глубине моей души причины, к рождению которой мое Я не имело никакого отношения и над которой у меня уже не было власти.
Таким образом, руки мои чисты.
Сделав меня убийцей, духовная сущность, овладевшая мной, обрекла свое безропотное орудие на смертную казнь, теперь дело за судом человеческим: вздернув тело господина Ляпондера на виселице, люди прервут те узы, которыми его судьба была связана с их судьбами, и мое Я обретет наконец долгожданную свободу...
Волосы встали у меня на голове дыбом, когда я, раздавленный сознанием собственной малости, вдруг почувствовал, что предстою святому.
– Вы рассказывали, как гипнотическое вмешательство лишило вас юношеских воспоминаний, заключив их в своеобразную блокаду амнезии, – продолжал Ляпондер. – Знайте же, сие есть печать, сакральная стигма всех тех, кого ужалил мудрый «змий духовного царствия». Жизнь таких клейменных змием избранников всегда делится на две части – до и после рокового укуса, когда к прежней их личности, как к грубому дичку, прививается благородный привой духа, и такое мучительное раздвоение продолжается до тех пор, пока не случится чудо воскресения: то, что у обычных смертных отделяет гробовой порог, у носителей духовных стигм отмирает, изъятое из сознания либо помрачением памяти, либо внезапным внутренним обращением.
Именно это и случилось со мной. В одно прекрасное утро, на двадцать первом году своей ничем не примечательной жизни, я без всякой видимой причины проснулся совершенно другим человеком. Все, что было мне до сих пор дорого, стало вдруг абсолютно безразличным, та жизнь, которую вел я и большинство населяющих эту земную юдоль людей, показалась мне такой же глупой и бессмысленной, как сусальные романы об индейцах, и сразу превратилась в моих глазах в скучную, бездарно намалеванную декорацию, не имеющую ничего общего с настоящей действительностью. Мир словно перевернулся: верх стал низом, низ – верхом, левое – правым, правое – левым, сны же обрели статус реальности – поймите меня правильно, сударь: речь идет о безусловной, истинной и достоверной реальности ! – а тот обманчивый мираж, который угодливо являет нашему взору каждый грядущий день, ничем теперь не отличался от моих прежних, сумбурных и бестолковых, снов.
Любой смертный мог бы подвергнуть себя этому сокровенному обращению, если бы обладал ключом. Ключ к сему таинству обретает тот, и только тот, кто сумеет осознать во сне образ собственного Я, так сказать, его оболочку, метафизическую кожу, и найдет узкую, как игольное ушко, щель между явью и глубоким сном, чрез которую сознание, подобно линяющей змее, покидает свое прежнее, изношенное линовище и, обновленное, проскальзывает на свободу.
Вот почему я предпочитаю говорить о «странствовании», а не о «сне».
Завоевание бессмертия – это борьба за монарший скипетр с облепившими нашу душу алчными призраками и голосами сирен, навевающими сладостные грезы, а ожидание королевской коронации собственного Я – ожидание грядущего во славе Мессии.
Явившийся вам «хавел герамим», «дыхание костей» каббалы, и есть тот преоблаченный в белоснежные ризы король, который должен быть коронован и помазан на царствие. Когда предвечная корона увенчает его сияющее чело, прервется надвое веревка внешних чувств – примотанная к чадящей дымовой трубе рассудка, она, подобно пуповине, связывает каждого смертного с миром сим.
Судя но всему, вам, сударь, не дает покоя мысль: как могло случиться, что я, уже не имеющий никакого отношения к этой жизни, в одну ночь превратился в кровожадного монстра? Да будет вам известно, человек – как стеклянная трубка, в которую заключены разноцветные шарики; число их обычно ограничено, для большинства людей вполне хватает одного-единственно-го – медленно и лениво катится он через всю их серую, однообразную жизнь. Обыватель не ломает себе голову: красный шарик – значит, человек «плохой», желтый – «хороший», если же их два, красный и желтый, тут уж надо держать ухо востро – от такого переменчивого характера можно ждать чего угодно. Мы, клейменные жалом гностического змия, обязаны пережить за тот краткий срок, который отведено нам пребыть на этой бренной земле, всю историю рода человеческого с сотворения мира – шарики всех цветов и расцветок один за другим пулей проносятся в стеклянном жерле, ну а когда их запас иссякает, наш дух становится настолько ясным и прозрачным, что отныне нас называют не иначе как пророками – зерцалом Господним...
Ляпондер замолчал.
Долго еще, потрясенный его исповедью, я не мог вымолвить ни слова.
– Почему же вы с таким пристрастием расспрашивали меня о событиях моей никчемной жизни, вы, рядом с которым я -
ничтожный пигмей? – обретя наконец дар речи, недоуменно вопросил я.
– Опять вы ошибаетесь, сударь, – спокойно ответствовал Ляпондер, – в духовной иерархии я нахожусь много ниже вас. А спрашивал потому, что чувствовал: вы обладаете тем единственным и последним ключом, которого мне так недостает.
– Я? Ключом? О господи!
– Да, да, именно вы! И вы мне его дали... Не думаю, что найдется сейчас на земле человек более счастливый, чем я!
Снаружи послышались звуки шагов, раздались голоса надзирателей, загремели засовы – Ляпондер даже бровью не повел.
– Гермафродит – вот тот заветный ключ, который я долго и безуспешно пытался найти. Теперь, когда он у меня в руках, я обрел наконец покой. Эти люди пришли за мной, но если бы вы знали, сударь, какая великая радость переполняет меня от счастливого сознания того, что уже скоро я достигну своей высочайшей цели...
Сквозь пелену слез, застлавшую глаза, я не мог различить лица говорившего, зато очень хорошо расслышал иронию, прозвучавшую в его голосе:
– Засим прощайте, господин Пернат, и помните: то, что завтра вздернут на виселице, – всего лишь мое старое, изношенное и обветшалое, линовище... От всей души благодарю вас, су... брат мой, вы открыли мне глаза на самое прекрасное, последнее, чего я еще не знал... Ну что же, возрадуемся и возвеселимся, ибо, истинно говорю, дело идет к свадьбе... – Человек с улыбкой божества встал и проследовал за надзирателем к дверям. – И пом ните, все это неразрывно связано с тем садистским убийством, которого я не мог не совершить... – были его последние, долетевшие уже из коридора слова, темный смысл которых так и остался для меня тайной...
Много воды утекло с того памятного дня, но всякий раз, когда на ночном небосклоне всходила полная луна, мне казалось, что вновь вижу я на грубой серой холстине тюремного тюфяка бледное, отрешенное от всего земного лицо Ляпондера.
После того как его увели, в течение нескольких дней со двора, где обычно казнили узников, доносился приглушенный шум – стучали молотки, визжали пилы – иногда работа продолжалась всю ночь напролет.
Я сразу понял, что означают эти зловещие звуки, и до самого рассвета просиживал на нарах, в отчаянии зажав уши руками.
Потом все вернулось на круги своя... И вновь дни складывались в недели, недели – в месяцы. Умерло лето, чахлая зелень в колодце двора увяла и поблекла, скорбный запах смерти и тлена исходил от сырых, заплесневелых стен.
Всякий раз, когда во время прогулки мой взгляд падал на мумифицированное древо с намертво вросшей в его кору стеклянной иконкой Пречистой Девы, вокруг которого совершалось мрачное круговращение серой человеческой массы, я невольно сравнивал его с собой – такой же иссохший труп, ну а если во мне еще и теплилась какая-то призрачная жизнь, то лишь благодаря навеки запечатлевшемуся в моей душе образу Ляпондера. Постоянно чувствовал я в себе этот величественно неподвижный лик Будды с прозрачной, лишенной морщин кожей и странной, неуловимой усмешкой, затаившейся в уголках тонко очерченных губ...
На допрос меня вызывали лишь один-единственный раз, в сентябре, – господин следователь как-то подозрительно интересовался, каким образом надлежит понимать мои слова, сказанные за несколько часов до ареста у банковского окошка, будто бы мне необходимо срочно уехать, почему я так нервничал в тот день и, наконец, с какой целью носил при себе все свои драгоценности.
Мой ответ, что я намеревался покончить с собой, вызвал лишь злорадное блеянье невидимого козла за соседним столом...
Все это время я находился в камере один и мог без помех предаваться своим печальным думам – скорбеть о Ляпондере и Харузеке, который, как подсказывал мне внутренний голос, уже давно ушел из жизни, и по-прежнему изводить себя тревожными мыслями о судьбе Мириам.
Однако ближе к октябрю моя камера наполнилась новыми заключенными: жуликоватые комми с нагловатыми
потасканными физиономиями, нечистые на руку толстобрюхие банковские кассиры, лицемерно и плаксиво скулившие о своей несчастной доле, – «жлобы позорные», как назвал бы их Черный Восатка, – мерзкое присутствие которых тут же отравило и воздух, и мое настроение.
Однажды один из этих вислозадых страстотерпцев, пыхтя от праведного возмущения, поведал о жестоком убийстве, якобы случившемся несколько месяцев назад. К счастью, преступник был немедленно пойман и, после проведенного на скорую руку дознания, благополучно казнен.
– Знаем, слыхали... Как бишь его звали? Ляпондер, кажись... Аристократишка какой-то... И как только земля носит эдакую сволочь! – подхватил какой-то субчик с подлой, шакальей мордой, приговоренный за истязание несовершеннолетних к... четырнадцати суткам заключения. – На месте преступления застукали душегуба, так он и убить-то не мог по-человечески – в комнате, говорят, все вверх дном было, девчонка, видать, отбивалась и лампу опрокинула... Ну, понятное дело, пожар, все выгорело, а тело девчонки так обуглилось, что и по сей день дознаться не могут, кто она и какого такого рода-племени... Худущая, говорят, была, кожа да кости, волосы черные, лицо узкое – вот и все, что медсина установила. И насильник этот до последнего язык за зубами держал – его и так и эдак, а он молчит, как воды в рот набрал, – не желают они, видите ли, имя убиенной называть... Эх, дали бы его мне, он бы у меня соловьем запел – ужо я бы с него с живого шкуру спустил и перцем посыпал... Вот они, блаародные господа! Одно слово -убивцы, им всем человека погубить что стакан воды выпить... Как будто по-другому незя девку от себя отвадить, – добавил он, цинично осклабившись.
Ярость вскипела во мне, и лишь с огромным трудом сдержал я себя, чтобы ударом в челюсть не свалить мерзавца на пол.
Из ночи в ночь храпел он на тех самых нарах, лежа на которых «странствовал» в духе Ляпондер, с такой аристократической небрежностью шагнувший через роковой порог смерти. Я вздохнул с облегчением, когда этого гнусного «шакала», честно
искупившего свою вину перед обществом, выпроводили наконец на свободу.
Однако легче мне от этого не стало: из головы никак не шел его рассказ – как стрела с зазубренным острием, намертво застрял он в моей памяти. И теперь почти ежедневно, преимущественно с наступлением сумерек, гложет меня ужасное подозрение, что жертвой Ляпондера была... Мириам...