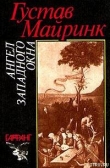Текст книги "Произведение в алом"
Автор книги: Густав Майринк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
Из-за неприступных бумажных отрогов второго стола донеслось ехидное козлиное блеянье.
Господин барон снисходительно усмехнулся в пышные усы.
– Надзиратель, уведите подследственного...
День за днем, неделя за неделей тянулось время, а я по-прежнему находился за решеткой.
Лениво и неспешно вращались исполинские жернова унылых тюремных будней, медленно, но верно перемалывая во прах тех,
кого угораздило попасть под сокрушительный, сводящий с ума гнет тягостной, невыносимо однообразной пенитенциарной рутины: ровно в двенадцать нас выводили на прогулку – разбившись на пары, мы в течение сорока минут угрюмо топтались по кругу, волоча отвыкшие от ходьбы ноги по вечно сырой земле тюремного двора, в сумрачный колодец которого никогда не заглядывало солнце, умудрявшееся обходить стороной нашу богом забытую бездну, хотя и оно вынуждено было совершать свое движение по раз и навсегда установленной орбите.
Надо сказать, в этом гигантском каменном кубе человеческого страдания все двигалось по кругу – и заключенные, и надзиратели, и солнце, и время, и... и мысли...
Разговаривать на прогулке запрещалось.
В центре двора, воздев в отчаянном порыве к равнодушным небесам тощие голые ветви, стояло одинокое иссохшее дерево, в толстую кору которого намертво вросла овальная стеклянная иконка Пречистой Девы.
Вдоль стен робко и затравленно жались чахлые кустики бирючины с редкими, почерневшими от копоти листочками, а вокруг зарешеченные окна камер, в темных проемах которых нет-нет да и возникало по-тюремному серое лицо с бескровными губами – хмуро и обреченно бросив вниз безучастный взгляд, это призрачное видение вновь растворялось во мраке...
Чудовищные жернова неумолимо продолжали свой страшный, ни на миг не прекращающийся ход – и вот мы уже снова брели назад в опостылевшие склепы к черствой краюхе хлеба, кружке воды и жидкой колбасной баланде, которую по воскресеньям заменяла прокисшая чечевичная похлебка.
После первого памятного вызова к следователю меня водили на допрос лишь один-единственный раз.
– Подследственный Пернат, вы можете представить следствию свидетелей, способных подтвердить ваши показания касательно того, что принадлежавшие потерпевшему часы якобы подарил вам господин Вассертрум?
– Да, конечно, господин Шемая Гиллель... то есть... нет... – Я внезапно вспомнил, что архивариус пришел позже. -
Впрочем, господин Харузек наверняка... хотя нет, его тоже не было при этом...
– Стало быть, милостивый государь, лиц, способных под присягой засвидетельствовать дачу вам сих часов в качестве подарка вышеупомянутым господином Вассертрумом, у вас нет?
–Увы, нет, господин следователь, наш разговор со старьевщиком Вассертрумом происходил с глазу на глаз.
Вновь злорадное козлиное блеянье донеслось из-за бумажной гряды соседнего стола, и вновь с фатальным скрежетом повернулись кошмарные жернова:
– Надзиратель, уведите подследственного...
Моя нервическая озабоченность судьбой Ангелины мало-помалу сменилась вялой, безнадежной апатией: в самом деле, какой теперь смысл хвататься за голову и лихорадочно пытаться что-то изменить – либо Вассертрум уже давно осуществил свои коварные планы мести, либо Харузек все же успел вмешаться и расстроить дьявольские козни старьевщика.
А вот тревожные мысли, связанные с Мириам, едва не сводили меня с ума.
Воспаленное воображение, не скупясь на краски, рисовало мне, как в тщетном ожидании очередного чуда она не находит себе места, как, заслышав на рассвете шаги булочника, сломя голову сбегает вниз и дрожащими руками ломает хлеб, как, быть может, терзаемая мучительным страхом за меня, не спит ночами...
Невыносимо тяжкий гнет этих страшных дум гонит от меня сон, и я, взобравшись на свой «насест», вглядываюсь в ночь – туда, откуда должен явиться медный, непроницаемо-бесстрастный лик вечности, и, изнемогая от напряжения, пытаюсь сделать так, чтобы мои мечущиеся по кругу мысли долетели до Гиллеля, чтобы отчаянный глас снедающей меня тревоги дошел до ушей архивариуса и он, проникнувшись моим страхом, бросился на помощь своей дочери, дабы избавить ее от мучительной надежды на чудо.
Когда же ноги мои начинают подгибаться, я бросаюсь на нары и, задержав дыхание, так что сердце едва не разрывается на части, стараюсь призвать своего призрачного двойника, чтобы тут
же отправить его к Мириам – быть может, это бледное подобие Атанасиуса Перната хоть немного утешит несчастную девушку.
И однажды мой потусторонний антипод таки явился пред ложем моим с зеркально отраженной надписью на груди: «Chabrat Zereh Aur Bocher», и радостный вопль уже готов был сорваться с моих губ, ибо, как мне почему-то казалось, отныне все должно измениться к лучшему, но призрак стал быстро умаляться и, прежде чем я успел отдать ему приказ явиться Мириам, ушел в пол, бесследно сгинув в каменных плитах...
И мысли мои, такие же тяжелые, как мельничные жернова тюремной рутины, и солнце, и заключенные, и надзиратели, и сумрачный двор, и часы без стрелок, и камера – все, все, все покорно и обреченно вернулось на круги своя...
Странно, но за время заключения я не получил ни единой весточки от моих друзей!
Когда же спросил у своих сокамерников: имею ли я право на переписку? – они лишь растерянно пожали плечами и стали сбивчиво объяснять, что никогда не получали писем, да у них и не было никого, кто мог бы им написать.
Спасибо надзирателю, который обещал при случае разузнать.
Ни ножниц, ни расчесок в тюрьме не полагалось, так что ногти мои, которые приходилось грызть, потрескались и огрубели, а на голове торчал колтун грязных, нечесаных волос, ведь даже воды для умывания нам не давали.
То и дело я вынужден был подавлять приступы мучительной тошноты, так как тот отвратительный брандахлыст, которым нас ежедневно потчевали, вместо соли приправляли содой, строго следуя тюремному предписанию, вменяющему в обязанность «повсеместно ограничивать потребление в пищу острых продуктов и приправ во избежание крайне нежелательных и опасных в специфичных условиях имперских пенитенциариев вспышек половой активности заключенных».
Дни, похожие друг на друга как две капли воды, тянулись серой, умопомрачительно кошмарной в своей беспросветной монотонности чередой.
Вселенское пыточное колесо времени с медлительностью садиста продолжало свое бессмысленное и безысходное вращение.
В конце концов кто-нибудь из заключенных не выдерживал – такие мгновения временного помешательства знакомы каждому узнику, – вскакивал и, словно дикий зверь, часами метался из угла в угол, а потом валился как подкошенный на нары и, тупо глядя в потолок, вновь принимался ждать, ждать и ждать...
С наступлением сумерек несметные полчища клопов высыпали на стены, и тщетно пытался я постичь неведомый смысл вопросов того заросшего дремучей бородой служаки с саблей и в подштанниках, который с почти болезненным пристрастием допытывался, нет ли у меня каких-нибудь паразитов.
Ну разве что господа патриоты из окружного суда, свято блюдя исконную чистоту родной клопиной расы – кровь от крови, плоть от плоти славных блюстителей порядка, – всеми силами старались воспрепятствовать тлетворному проникновению неполноценных инородцев и вырожденцев-космополитов?..
Утром по средам обычно заявлялось свиное рыло в шапокляке и узких, отвисших на коленях панталонах – тюремный врач доктор Розенблат, который по долгу службы был обязан регулярно убеждаться в том, что все заключенные пышут здоровьем и даже думать забыли о всяких там хворях и болячках, свойственных всему остальному роду человеческому, имевшему несчастье до поры до времени находиться вне благословенных стен «оплота карающей справедливости».
Впрочем, что уж тут греха таить, иногда и эта рутинная, выверенная до мелочей процедура давала сбои, и в монолитных рядах излучающих бодрость и веселье узников нет-нет да и оказывался невесть как затесавшийся туда отщепенец, слабым, немощным голосом взывающий о милосердии, в таких прискорбных случаях свиное рыло, пронзив отступника испепеляющим взглядом, недрогнувшей рукой прописывало ему цинковую мазь для ежедневного втирания в грудь или на худой конец клистир -дабы неповадно было в другой раз бросать тень на безукоризненную репутацию родного пенитенциария.
В один прекрасный день заключенным даже выпала высокая честь лицезреть самого председателя окружного суда – на рослого, благоухающего, как парфюмерная лавка, хлыща, на холеной физиономии которого были написаны все мыслимые пороки и который всячески бравировал своей сомнительной принадлежностью к «высшему свету», нашла вдруг блажь «самолично» удостовериться, что во вверенных ему исправительных учреждениях царит образцовый порядок: «не сыграл ли кто-нибудь из фраеров в ящик, повязав на шее галстук»[93], – как весьма витиевато изволил выразиться наш задумчивый и немногословный «Нарцисс», по-прежнему ежедневно «наводивший марафет»[94], зачарованно склонясь над зеркальной гладью своего карманного «пруда».
Все бы хорошо, если б не моя наивность: изъявляя скромное желание обратиться к высокопоставленному гостю с просьбой, я сделал к нему всего лишь шаг, но не успел и рта открыть, как этот вальяжный господин с поразительной для его комплекции проворностью африканского павиана скакнул за спину ближайшего надзирателя и, тыча мне под нос револьвер, принялся истошно вопить, чтобы его избавили от домогательства «преступных элементов».
Почтительно поклонившись, я все же осмелился спросить, не поступала ли на мое имя какая-либо корреспонденция, и тут же вместо ответа получил весьма чувствительный тычок в ребра от доктора Розенблата, который сразу после своего коварного выпада почел за лучшее немедленно ретироваться.
Господин председатель тоже не стал испытывать судьбу – с достоинством отступив на заранее подготовленные позиции, он осторожно выглянул из окошка в двери и, убедившись, что ему ничего не угрожает, злорадно порекомендовал мне как можно скорее чистосердечно признаться в содеянном убийстве. И, грубо заржав, добавил: «В противном слючае вам, милостивый го-сюдарь, в этой жизни уже не сюждено получать какой-либо кор-р-респонденции...»
Я уже давно привык к духоте, и даже смрад обсыпанной карболкой параши меня не особенно смущал, однако теперь мне не давала покоя другая напасть – мое изможденное тело постоянно, и днем и ночью, сотрясал сильнейший озноб.
Блатная парочка сменилась другими заключенными, а те в свою очередь следующими, но я как-то незаметно для самого себя перестал обращать внимание на то, что происходило в камере. Мне было совершенно все равно, что на прошлой неделе на соседних нарах лежали карманник и грабитель с большой дороги, а на этой – фальшивомонетчик и торговец краденым.
Пережитое накануне на следующий день начисто стиралось в моей памяти.
Под гнетом тяжелых, медленно перемалывающих меня мыслей о Мириам в моей душе не осталось места для внешних впечатлений.
И лишь одно событие более или менее глубоко запечатлелось в моем сознании – время от времени даже врываясь в сон, оно преследовало меня странными фантасмагорическими образами...
Однажды я по своему обыкновению взобрался на «насест», чтобы подышать свежим воздухом и посмотреть на далекое, забранное решеткой небо, как вдруг что-то острое кольнуло меня в бедро...
Осмотрев сюртук, я обнаружил того самого «опасного свидетеля», от которого собирался во что бы то ни стало избавиться, – проклятый напильник, прорвав карман, завалился за подкладку: очевидно, он еще до моего ареста тихо затаился в этом укромном местечке, иначе дотошно обыскивавший меня бородатый служака в подштанниках его бы непременно обнаружил.
Выудив навязчивого «приживала», я равнодушно бросил его на тюфяк.
Когда же, немного продышавшись, я спустился вниз, то напильника не обнаружил – впрочем, у меня не было никаких сомнений в том, что «несостоявшийся убийца», оскорбленный моим невниманием, нашел себе нового, куда более заботливого покровителя в изъеденном оспой лице Лойзы.
Несколькими днями позже вороватого подростка вывели из камеры и препроводили этажом ниже в отдельные «апартаменты».
Как объяснил мне надзиратель, тюремный устав запрещает совместное содержание в камере двух подследственных, проходящих но одному и тому же делу.
От всего сердца пожелал я несчастному Лойзе использовать попавший в его руки инструмент по назначению и с его помощью «нарезать винта»[95], по образному выражению Черного Восатки, – капризной судьбе было угодно распорядиться так, чтобы этот никогда не лезший за словом в карман и питавший трогательную «салабость» к огненной стихии пироман вновь оказался в моей камере.

МАЙ
Давно утратив всякое представление о времени, я, к своему немалому удивлению, вдруг обнаружил, что солнце припекает уже совсем по-летнему и даже на иссохшем дереве, заживо погребенном в сумрачном колодце тюремного двора, появилась пара зеленых почек. Мои вопрос о том, какое сегодня число и месяц, застал надзирателя врасплох – в общем-то, он не имел права вступать в разговоры с заключенными, а уж с теми, кто отказывался признавать свою вину, и подавно, ибо таких упрямцев в интересах следствия старались держать в полнейшем неведении относительно сроков пребывания в изоляции, – однако, помолчав в нерешительности пару минут, славный малый все же шепнул мне тайком: «Пятнадцатое мая».
Итак, вот уже три месяца я находился за решеткой, и за все это время ни единой весточки из того недосягаемого мира, который простирался по ту сторону толстых тюремных стен!
По вечерам через зарешеченное окно, которое с приходом жарких дней практически не закрывалось, в мою камеру долетали тихие, печальные звуки рояля.
«Это с первого этажа, – пояснил мне на прогулке один из старожилов нашего каменного куба, – там ключник живет, а дочка его на клавишах лабает...»
По-прежнему ни днем ни ночью мне не давали покоя тревожные мысли о Мириам, только теперь пытка стала изощреннее.
В иные часы, обычно ночью, терзающая меня тревога вдруг куда-то исчезала, сменяясь блаженной уверенностью в том, что призрачный двойник, призванный к жизни моей настойчивой волей, все же нашел дорогу в дом Гиллеля и сейчас, застыв у ложа спящей девушки, ласково гладит ее лоб.
Потом наступало утро, моих сокамерников одного за другим вызывали на допрос, лишь обо мне, казалось, все забыли, и тогда вновь накатывало отчаяние, и меня начинал душить какой-то иррациональный страх: а что, если Мириам уже давно мертва?..
И я, в полном смысле слова цепляясь за соломинку, принимался вопрошать судьбу – жива Мириам или нет, больна или в добром здравии? – ответом служило то количество соломин, которые моя рука раз за разом наудачу выдергивала из тюфяка.
Однако даже это немудреное гадание, больше похожее на детскую игру в чет-нечет, ничего хорошего мне не сулило, и я, дабы заглянуть в будущее, погружался в себя и, пытаясь обмануть собственную душу, которая, конечно же, была посвящена в тайны грядущего, задавал ей вопросы, на первый взгляд не имеющие отношения к тому, что меня действительно интересовало: наступит ли когда-нибудь такой день, когда я буду снова весел и смогу смеяться?..
В таких случаях ответ моего введенного в заблуждение оракула был неизменно положительным, и я, наслаждаясь иллюзией обещанного счастья, получал короткую передышку от мучивших меня мыслей.
Подобно малому зернышку, подспудно, под землей, набирающему силы и вдруг, с первыми лучами теплого весеннего солнца, прорывающемуся к свету слабым колоском, созрела и проснулась в глубинах моего сердца непостижимая, обрушившаяся на меня словно гром среди ясного неба любовь к Мириам, и напрасно ломал я себе голову, силясь проникнуть в сокровенную природу этого чудесного откровения, посетившего меня в бездне страдания моего, – нет, поистине невозможно было понять, как вообще могло случиться, что я почти каждый день часами просиживал с этой удивительной девушкой, болтая с ней о всякой чепухе, и мне, слепцу, так и не открылось, что уже тогда моя душа втайне изнемогала от любви к прекрасной собеседнице.
Трепетное желание, чтобы и она думала обо мне с тем же чувством, едва зародившись, быстро нарастало, подчас становясь столь сильным, что иногда переходило в какую-то странную, ни на чем не основанную, почти провидческую уверенность, и стоило мне тогда только заслышать доносящиеся из коридора шаги, как мое сердце уже замирало от страха: это за мной, сейчас меня выпустят на свободу и мои радужные грезы, не выдержав столкновения с грубой действительностью, бесследно рассеются.
Слух мой за долгое время заточения обострился настолько, что от меня не ускользал ни один самый вкрадчивый шорох.
Всякий раз с наступлением ночи я подолгу вслушивался в тишину, пока не улавливал приглушенный грохот колес одинокого экипажа, дававшего мне желанную пищу для размышлений о том, кто бы мог в нем сидеть и откуда возвращался сей припозднившийся инкогнито...
Впрочем, надолго моей фантазии не хватало – два-три взмаха немощных крыл, и она бессильно падала наземь: сама мысль о том, что по ту сторону тюремных стен существуют люди, которые вольны делать все, что им заблагорассудится, казалась мне противоестественной, у меня просто в голове не укладывалось, как можно свободно передвигаться по городу, беспрепятственно навещать знакомых, по собственному желанию входить в те или иные дома и воспринимать все это как нечто само собой разумеющееся, не испытывая при этом того неописуемого ликования, которое томящегося в неволе узника, наверное, свело бы с ума.
Что касается меня, то я просто не мог себе представить, что когда-нибудь и мне выпадет восхитительное счастье бесцельно фланировать по улицам, наслаждаясь людской суетой, пением птиц, видом цветущих деревьев...
Тот солнечный день, когда я держал в объятиях Ангелину, казался мне чем-то нереальным, давно канувшим в Лету – при воспоминаниях о нашей прогулке в экипаже меня охватывала тихая, щемящая грусть, сродни той, которую испытываешь, обнаружив в случайно открытой книге забытый там когда-то цветок, в незапамятные времена юности украшавший прическу твоей возлюбленной, а теперь, засушенный и безуханный, беспощадно спрессованный в свой собственный полупрозрачный призрак, годившийся разве что в качестве заурядной единицы хранения в какой-нибудь скучный гербарий.
Интересно, как там старина Звак – все так же коротает вечера в компании Прокопа и Фрисландера «У старого Унгельта», вгоняя в краску добродетельную Эвлалию?
Ну конечно нет, ведь сейчас же май – самая пора для странствующего кукольника, когда он, взвалив на плечи свой
обшарпанный ящик, в котором скрывается пестрый, никогда не тускнеющий мир безмятежного марионеточного счастья, знай себе шагает по пыльным дорогам от одной провинциальной ярмарки к другой и на зеленых лужайках перед городскими воротами забавляет простой люд и детвору немудреными моралите о Синей бороде...
Вот уже два часа, как я сидел один – поджигателя Восатку, который в течение последней недели был моим единственным соседом, увели к следователю.
Странно, на сей раз его допрос продолжался необычно долго.
Ну вот, кажется, и он... Загремели тяжелые железные засовы, и в камеру, сияя как медный таз, ввалился апологет «огненной стихии» – царственным жестом уронив узелок с цивильными вещами на нары, он принялся с такой быстротой переодеваться, как будто от этого зависела его жизнь.
Срывая с себя арестантские одежды, он с проклятиями швырял их на пол.
– Ишь губы раскатали, падлы, душа с них вон... Бог не фраер, Он все видит... Поджог! Поджог! А савидетели ихде? – Довольный пройдоха оттянул указательным пальцем нижнее веко. – Черного Восатку на понт не возьмешь!.. Ветер то был, грю я им. Они и так и сяк, а я ни в какую: ветер – и се тут. Ево и сажайте на кичман, тока сперва спымайте... хе-хе... ветра в поле... Ну а покедова serous[96],сачастливо оставаться! Пойду сатаряхну пыль с ушей в «Лойзичеке»... – Он мечтательно раскинул руки и прошелся по камере в лихой чечетке. – А тока у жисти раз бавает ацавяту-ущий ма-а-ай... – Залихватски надвинув на лоб котелок, он вдруг щелкнул по его твердой тулье, украшенной маленьким, в синюю крапинку перышком кедровки: – Да, совсем из головы вон, вот чо вас должно антэрэсовать, господин граф... тока не падайте в обморок... Эвтот шкет Лойза, ваш подельник, нарезал-таки винта! Век савабоды не видать, собственными ушами слыхал, как легавые крыли его почем зря. Еще в прошлом
месяце смылся... Рванул со свистом: фьють... – Восатка пробежал двумя пальцами по тыльной стороне своей руки, – и поминай как звали...
«Ага, вот и моему напильнику нашлось применение», – подумал я и усмехнулся.
– А раз пошла такая масть, то и вам, господин граф, по всему видать, недолго осталось на нарах чалиться, – посерьезневший «огнепоклонник» дружески протянул мне руку, – рвите от-седа когти, да поскорее!.. А окажетесь на мели – милости прошу в «Лойзичек», спросите Черного Восатку... Меня там не то что каждая шлюха – каждая собака знает... Итак, servus, господин граф, честь имэю каланяться...
Поджигатель еще стоял в дверях, а надзиратель уже вталкивал в камеру следующего заключенного.
С первого же взгляда я узнал в нем того самого рослого бродягу в синей военной фуражке, с которым однажды пережидал непогоду в сырой подворотне на Ханпасгассе. Приятная неожиданность! Возможно, он располагает какими-нибудь сведениями о Гиллеле, Мириам, Зваке и других близких мне людях?
Я уже открыл было рот, чтобы забросать своего нового сокамерника вопросами, как тот, к моему величайшему удивлению, с таинственным видом приложил палец к губам и замер, словно статуя.
И только когда снаружи раздался грохот задвигаемых засовов и шаги надзирателя затихли вдали, к нему стала возвращаться жизнь.
Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди от нетерпения.
Но что это, почему такой заговорщицкий вид?
Неужели он меня знает? В таком случае, чего ему надо?
Первым делом бродяга уселся на нары и стал стаскивать свой левый башмак.
Разувшись, он вытащил зубами из стоптанного каблука что-то вроде затычки, извлек из открывшегося углубления маленький изогнутый кусок металла и, поддев им державшуюся, как выяснилось, лишь на честном слове подошву, отделил ее...
Вся операция была проделана с молниеносной быстротой и полнейшим игнорированием моих сумбурных, обгонявших друг друга вопросов.
Довольный произведенным эффектом, бродяга с видом фокусника, только что исполнившего сложный трюк, отвесил церемонный поклон и протянул мне составные части своего башмака с секретом:
– Вуаля! Сердечный привет от пана Харузека.
Я был настолько ошеломлен, что в первую минуту не мог вымолвить ни слова.
– Ну что, все кипит и все сырое? – окинув меня скептическим взглядом, спросил бродяга. – Разуйте шнифты[97], пан фон Пернат, всего-то и делов, вынуть железку и ночью, когда никто кося ка не давит, распрячь подошву... – Заметив, что я все еще не понимаю, «фокусник» вздохнул и, снисходя к моей наивности, пояснил: – Тырка под ней... тайник... В нем вы найдете ксиву от пана Харузека.
Чувство признательности так внезапно и стремительно захлестнуло меня, что я со слезами благодарности на глазах едва не бросился на шею этому совершенно незнакомому мне человеку.
Тот осторожно, так, чтобы не обидеть меня, отстранился и назидательным тоном сказал:
– Не надо нервов, пан фон Пернат! У нас ни минуты в заначке – эти крысы вот-вот пронюхают, что я попал не в ту ка меру, ведь мы с Францлем, пока этот бородатый чугрей внизу шмонал нас и подбивал клинья на предмет клопов, махнулись номерами...
Видно, очень уж у меня была тогда глупая физиономия, так как бродяга, смерив мою застывшую в мучительном недоумении фигуру оценивающим взглядом, поспешил предупредить готовый обрушиться на него новый град вопросов:
– Э-э, похоже, темна вода во облацех... Короче, встряхнитесь и, если чего не понимаете, не берите в голову... Все, что вам надо знать: я здесь, и баста!
– Скажите же, – перебил я его, – скажите, господин... господин...
– Венцель... Меня кличут Венцель-на-все-руки.
– Венцель, меня интересует архивариус Гиллель... Как он? Что с его дочерью?
– Сейчас не время трёкать[98] за других, – нетерпеливо отмахнулся Венцель-на-все-руки. – Фира[99], которую мы с Францлем прогнали цирикам[100], скроена на живую нитку – так что, не ровён час, меня могут хватиться и выгнать взашей из этой камеры. Зарубите себе на носу: чтобы заместись к вам на кичу[101], мне пришлось лепить горбатого, будто б я взял на гоп-стоп одного жлоба...
– Как, только ради того, чтобы попасть ко мне в камеру, вы ограбили человека, Венцель? – потрясенный, спросил я.
Бродяга презрительно мотнул головой.
– Ну да, как же, держи карман шире, стал бы я колоться этим крысам, если б в натуре грабанул какого-нибудь фраера! Вы что, меня за двенадцать ночи[102] держите? Это все так, фартицер...[103]
Только сейчас до меня наконец дошло: для того чтобы пронести мне в тюрьму письмо от Харузека, этот пройдоха сознался в преступлении, которого не совершал!
– Ладно, проехали... – Бродяга сделал серьезное лицо. – Теперь слушайте сюда, я буду давать вам натырку[104], как косить под эболетика...
– Что-что?
– Под эпо... эбе... тьфу, черт... под эбилебтика... Короче, мотайте на ус все, что я буду говорить! Перво-наперво закройте хайло и наберите слюны...поболе... Вот так, глядите... – Венцель-на-все-руки надул щеки и стал перекатывать в них воздух, как будто всполаскивал рот, – теперь надо, чтобы у вас на губах
была пена... – с отвратительной естественностью бродяга изобразил и это. – Потом руки... большие пальцы нужно зажать в кулаки... навроде как судороги... а шнифты вытаращить что есть мочи... – Пройдоха выкатил глаза так, что они едва не вываливались из орбит. – Ну а напоследок придется поорать дурным голосом... это самое трудное... В общем, вопите, будто у вас кол в горле стоит... Вот так: бё-ё-ё... бё-ё-ё... бё-ё-ё – и сразу с копыт долой... – Он как стоял, так и грохнулся во весь свой гигантский рост на пол, тюремные стены заходили ходуном, а ему хоть бы что – встал, отряхнулся и небрежно бросил: – Вуаля, спешите видеть: эбилебсия в натуре, как муштровал наш «батальон» покойный доктор Гулберт – земля ему пухом...
– Да, да, очень похоже на припадок, – согласился я, – но мне-то зачем симулировать эпилепсию?
– Здрасьте, плыву и берегов не вижу... Как это «зачем»? Вас сразу переведут из камеры, – принялся втолковывать мне Вен-цель-на-все-руки. – Дохтур Розенблат тот еще скропоидол[105]! Вам голову с плеч снесут, а этот клистир ходячий все одно будет талдычить: заключенный здоров как бык! А вот эбилебсия у него в авторитете. Наблатыкаешься косить под эбилебтика – и ты уже на койке в тюремной больнице. А оттеда соскочить – что на парашу сбегать... – Бродяга таинственно понизил голос: – Решка на больничном шнифте[106] подпилена и держится на соплях. Об том никто ни сном ни духом, окромя нашего «батальона». Пару ночей постоите на цинку[107], только не проспите нашу петлю – мы ее вам с крыши спустим, – а как закнацаете галстук[108], не шухе-ритесь – сымайте решку и плечами в удавку... Мы вас сперва на крышу подымем, а после с другой стороны на улицу спустим... Плевое дело...
– Так-то оно так, – нерешительно промямлил я и робко осведомился: – И все же с какой стати мне бежать из тюрьмы, ведь я же невиновен?
– Такое скажете, что в сто голов не влезет... Другой бы спорил, а я... – начал было Венцель-на-все-руки и, изумленно округлив глаза, уставился на меня, как на редкое насекомое, потом обреченно вздохнул, словно усталый учитель, вынужденный в сотый раз втолковывать нерадивому школяру прописные истины, и медленно, чуть не по слогам, произнес: – Тем более резон – взять ноги в руки!
Мне пришлось призвать все свое красноречие, чтобы отговорить бродягу от того рискованного плана, который, по его словам, они в прошлую ночь «чуть не до дыр перетерли на толкови-ще» в «батальоне».
И все равно он никак не мог взять в толк, почему я отвергаю раз в жизни выпадающий «фарт», предпочитая «париться» на нарах и «ждать воли» от «легавых».
– Как бы то ни было, а я от всего сердца благодарен вам и вашим лихим друзьям, – воскликнул я, тронутый до глубины души этой бескорыстной готовностью помочь, и с чувством пожал бродяге руку. – Когда тучи над моей головой рассеются, первый долг, который я почту за честь исполнить, будет выразить вам всем мою самую искреннюю признательность.
– Э-э, мадаполам[109], – небрежно отмахнулся Венцель, – Опрокинем вместе по паре кружек «пилса»[110], и ладно... Какие могут быть промеж нас счеты?! Пан Харузек – он теперь ведает казной «батальона» – уже замолвил за вас словечко, да мы и сами с усами, наслышаны, что вы никогда в скесах[111] не ходи ли. Передать ему что-нибудь, ведь я через день-другой выйду на волю?
– Да-да, непременно, – заспешил я, пытаясь собраться с мыслями, – пожалуйста, скажите Харузеку, что меня очень беспокоит здоровье Мириам... Пусть он зайдет к ее отцу, архивариусу Гиллелю, и передаст ему это. Господин Гиллель ни на миг не дол жен терять ее из поля зрения. Венцель, вы запомнили это имя – Гиллель?
– Гиррэль?
– Нет, Гиллель.
– Гиллэр?
– Да нет же, Гиллель.
Венцель едва не сломал себе язык, прежде чем, скорчив отчаянную гримасу, сумел наконец выговорить это заковыристое для чеха имя.
– И еще: пусть господин Харузек... скажете, я очень прошу его об этом... по мере своих возможностей позаботится об одной высокопоставленной особе... Видите ли, я имею в виду ту знатную даму, которая... Ну в общем, он знает, о ком идет речь...
– Ха, кто ж ее не знает?! Это та шикарная шмара, что наставляла своему муженьку рога с этим немцем... ну как его?., с дох-туром Саполи... Так ее и след давно простыл: она развелась и укатила невесть куда вместе со своим пащенком и Саполи.
– Вы это наверное знаете? – Мой голос невольно дрогнул. Как ни велика была моя радость за Ангелину, обретшую наконец
свое счастье, а сердце все равно болезненно сжалось у меня в груди: ночей из-за нее не спал – и вот, пожалуйста, забыт и брошен...
Быть может, она в самом деле решила, что я убийца?
Горечь удушливым комком подступила к горлу.
Бродяга с какой-то особой, свойственной всем отверженным чуткостью, странным образом мгновенно пробуждающейся в их огрубевших душах, лишь только дело коснется такой деликатной материи, как любовь, казалось, угадал, что творилось у меня на сердце, так как сразу смущенно отвел глаза и промолчал, будто и не слышал моего вопроса.