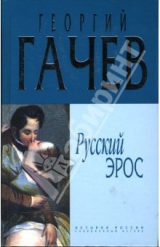
Текст книги "Русский Эрос "Роман" Мысли с Жизнью"
Автор книги: Георгий Гачев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Ночное и дневное мироощущение
Но, выходя в дневной мир на общение с вселенной как особь, целостность, индивид, – человек кругом себя замечает множество особей, целостностей и индивидов, которые аналогичным же делом заняты. Кто это? Тянясь ночью и нюхом чуя свою другую половинку, я знаю, что это необходимая часть нашего антропоса; но когда я зрю множество вертикальных фалликов: что они здесь делают? – ревниво я спрашиваю, – и есть ли всем место под солнцем. Так, в дневной жизни дилемма Человека обретает вид: я (один) – и множество, 1+оо, – тогда как ночью: 1/2 +1/2 (значит, не пристало днем промышлять половинки и мыслить полово). [22]22
«Что такое человек? – вопрошает Сатин в «На дне» – Это не ты, не я, не они… нет! – это ты, я, она, старик, Наполеон, Магомет в одном!» Кстати, отрицательное определение это выстроено по канону русской логики, по схеме это не то, а – вот что», в отличие от формулы западноевропейской логики «это есть то» Русский Логос непременно начинает с негации, критики, полемики, и, распалившись, разогревшись (что нужно в холодах то и сырях), наводится уже и на положительное искание истины и утверждение
[Закрыть] Целостный Человек теперь: общество, народ, человечество – все в одном – Бог!. Откуда ж это множество народилось? недаром бессознательно в такой форме задается нами вопрос. Ибо мы здесь днем на земле так же чувствуем себя, как несчетное множество снующих, тыкающихся сперматозоидов, семян, генов, хромосом, монад, зародышей, душ, гомеомерий, которые будто изверг в ночи единый фалл: как Бог-отец, демиург – создатель, зиждитель и производитель И вот начинает просвечивать платоновская концепция бытия в «Тимее». Существуют в космосе рассеянные идеи – вне времени и пространства, до творения, как семена всего. Космос (наше тело) создает демиурга – бога-творца вещей, существ и мира (наш фалл); он извлекает, формирует и вбрасывает в мир эти семена уже в индивидуальной форме – как особи. И сам устраняется. Далее вступают в сотворчество низшие божества – стихии: земля, вода, воздух, огонь и т. д. – как ангелы. Они выводят в свет существа и вещи в наполненном и окончательно оформленном виде
И вот я, особь, дневноживущая вещь, имею в себе эту память: о темном хаосе («о древнем, о родимом» – по словам Тютчева) и Эросе и светоносном фалле – боге-творце-отце, меня произведшей первопричине; имею в ощущении память о стихиях, божествах, меня выпестовавших и одаривавших (как феи спящую красавицу), – ив жизни все время прибегаю к ним за помощью: молюсь солнцу, ветру, воде; а не молюсь – так люблю или боюсь. Но это – в телесной жизни ощущения: ибо это уже память тела, когда ген мой, хромосом стал плотен и наполнялся веществом
На глубоком же уровне моего состава запряталась память обо мне как монаде, хромосоме, идее – о том атоме, волне, корпускуле, кванте чистой энергии и воли к жизни, каким меня изверг демиург. Это память обо мне как Адаме, т. е. здесь еще есть чувство я, личности, моей души, формы – и притом в самом чистом и отграненном виде; так что если я хочу знать, что есть я по сути и квинтэссенции, я должен с помощью ума разрыхлить все напластования сущностей, качеств, признаков (даров фей) лопатой диалектики – и вспомнить, выявить чистый вид, идею
Но и это еще не все. На этом уровне есть я и бог-отец, родитель. Но ведь он – всего лишь демиург, работник-трудяга, исполнявший высшие предначертания. В нас есть идея о прародителе – то, чего и сам фалл не знает (как и наш в ночи, в соитии: он знает, что к нему воля, желание стекается – и он работает; но откуда? зачем? – бог весть…). Прародитель – это наше тело как вселенная, она – как единое живое существо, в котором мы уже не имеем значения; что-то, какие-то прообразы нас и архетипы – как возможности и потенции – там рассеянно блуждают; но главное: общая жизнь, даже не общая (ибо это будит идею особности и соединения), а просто жизнь (и не «жизнь»: ибо это будит идею смерти), бытие (и не «бытие»: ибо это будит идею небытия) – то Неизреченное, что знаком (т. е. другим чем-то) не обозначишь, а то что просто само есть! – и баста Это высшее предельное бытие – в беспредельном – уже не диалектикой достижимо, а в экстазе чистого умозрения, соития, рассеяния, растворения когда исчезают границы «я» – «не я», субъектно-объектные деления в мире, формы вещей расплываются – и есть марево силы, света и блаженства восторженной, восхищенной жизни (ибо исторгнут из себя – и похищен) То есть здесь исчезли деления, прерывность пространства и времени – а все вали туда и «Эрос», и «воля», и «жизненная сила», и «Истина», и «секс» – и все сойдет, сгодится – и будет недостаточно И для достижения этого состояния в человечестве есть столько же путей, сколько первоидей мы сейчас готовы были ухнуть в ЕГО обозначение и Элевсинские мистерии, и йога, и тантризм, и молитва, и любовь-смерть, и труд, и игра в карты, и война, и чаепитие (японский дзен-буддизм), и деланье, и ничегонеделанье, и скопчество – все годится, лишь бы на избранном этом, по душе пришедшемся пути (а значит, недаром душа его выбрала значит, он ей присущ, она его вспомнила, он – в ее составе заложен, как потенция) идти до крайности, до предела – и выйти в беспредельное ЭТО (Итак, множество путей, как множество особей, истин – опять мы вышли к идее анаксагоровых гомеомерий, лейбницевых монад, бесконечно малых, бесконечно больших, джордано-бруновой «множественности миров»)[23]23
Недаром индуизм чтобы дать человеку косвенное представление об этом, строит такое предложение «Все есть истина Все не есть истина Все есть истина и не истина Все не есть истина, но не есть и не истина» Таков канон определения всякой вещи в логике Нагарджнуны
[Закрыть]Таким образом, предельное постижение и достижение – есть исчезновение «я» и «не я», а значит, и ощущения себя в чем-то Но ведь так и в высший момент соития, на конце фалла, в точке касания – неизвестно, что ты чуешь обостреннейше себя или ее? себя в ней или ее в себе, мужчиной ты себя чуешь или женщиной? Также и экстатическое состояние равно сказывается в том, что я себя чую миром, Богом, Шивой, Буддой – то ли так, будто они в меня вошли, и я ими держимый (одержимый), на острие этого сладчайше-острейшего чувства слияния с бытием, в непрерывном биении со скоростью переменного тока, – то ли массируешься ощущением, что мир в тебя вливается, а то – ощущением, что ты в мир истекаешь, рассеиваешься – и, как быстро вращающийся круг являет недвижимость, так и я в столбняке и ничего не происходит и все равно
Воина – как соитие
Эстетика войны подвиг, жертвы, слава – это влиться в мир, исчезнуть блаженно Ведь если вспомнить детские мечтания совершить подвиг, – что главное в их составе? Я вижу, как бьюсь с врагом, наношу удары (т. е я– мужчина) Я весь в ранах, истекаю кровью (я– женщина), но тем отчаяннее бьюсь с врагом Наконец, в последнем объятии – улетает дух в веселии. И теперь питается, пьет кровь своей славы, что остается от меня в жизни т. е. в мечте о войне – сделать смерть сладостной и перенестись на остров блаженных, на Елисейские поля, в Валгаллу героев, в рай с гуриями, куда, по исламу, возносятся воины, павшие в священной войне – «газават». А что в Валгалле? То же самое я вижу, как ласкают мое имя, память, в славе после смерти, приносят весть о моем подвиге возлюбленной, друзьям, тем, кто меня несправедливо обижал, матери-отцу, которые меня ругали и думали, что я плохой, несправедливо оскорбляли меня подозрениями, – а я вон какой хороший оказался! – и все плачут, льют слезы позднего раскаяния, и меня любят и сливаются в кольцо любви надо мной, памятью обо мне Слава и есть кольцо, подкова бессмертия, влагалище, ножны, вечное вместилище моего духа В славе я заполняю мир своим величием и владею тем, чем не смог реально-телесно при жизни См об этом у Пушкина в «Желании Славы» Когда-то он любил и был счастлив, как малый фалл Но мир их разлучил, отторг друг от друга. И ныне он томим новым желанием, чтоб именем моим она повсюду окружена была, чтоб некуда от моего имени, моей славы ей было деться Это месть миру. ты не дал мне войти в нее малым, мужчиной – ну что ж, я обернусь миром, полостью, женщиной – и возьму ее своею славой, как мужчину Военное сословие выдерживается в праздности, вдали от сублимированного Эроса Труда, мысли – как и племенные самцы откармливаются на соитие Они – избранные жертвы, агнцы, жрецы Отсюда их гордость И они действительно подняты надо всеми людьми, которые расплескивают свой Эрос в буднях по мелочам, а они – для однократного соития готовятся: чтоб победить или умереть, в обоих случаях акт состоится – или в качестве мужчины (вертикально, со щитом), или в качестве женщины (распростертый на щите) – тогда венчается славою и бессмертием Воины – как обрезанные фаллы – неприкрытые Потому они – лучшие мужчины, и женщины так любят военных, а они ими пренебрегают, как монахи, ибо их Эрос не про баб уготован Потому так женщины падки соблазнить аскетов и воинов – их чистейший духовный сок на себя оттянуть и ороситься. А воину женщина и не нужна Ибо он изучает оружие: всеми видами владеет, чтобы поразить врага– т. е. тренируется управлять разными фаллами и разными способами Все виды оружия имеют прообразом мужской трехчленный орган пушка на колесах, ружье с прикладом, шпага с ручкой Ракета, пуля, бомба, самолет (фюзеляж на двух крыльях), стрела из натянутого лука. Недаром эти образы служат эвфемизмами для обозначения эротического действа Так у Апулея Луций умоляет Фотиду: «Сжалься, скорей приди мне на помощь! Ведь ты видишь, что пылко готовый к близкой уже войне, которую ты объявила мне без законного предупреждения, едва получил я удар стрелы в самую грудь от жестокого Купидона, как тоже сильно натянул свой лук, и теперь страшно боюсь, как бы от чрезмерного напряжения не лопнула тетива». А она, раздевшись: «На бой! – говорит, – на сильный бой! Я ведь тебе не уступлю и спины не покажу Если ты – муж, с фронта атакуй и нападай с жаром и, нанося удары, готов будь к смерти. Сегодняшняя битва ведется без пощады» (Апулей. Метаморфозы Кн. II. С. 16–18)
И Германн в «Пиковой даме», одержимый страстью к старухе – этой гребаной всеобщей матери, ведьме, шаманке, бабе Яге, – вытаскивает пистолет, и у них происходит некрофилия – соитие с трупом с помощью тоже холостого пистолета. Так что недаром Платон, который в «Пире» так высоко воспел духовную любовь, полагал в «Государстве», что мужчине следует быть стражем города, входить в сословие воинов; он видел в их существовании равноценный духовному Эрос: они тоже преданы высшему интересу. И их праздность, не занятость практически полезным трудом – такая же, как и праздность мудреца, преданного созерцанию истины И обратно: недаром, когда Толстой повел атаку на Эрос, породивший в жизни излишества и бессмысленность, он ее развернул единым фронтом – и против наук и искусств – праздных умозрений и фальшивых занятий, и против половой любви («Крейцерова соната»), и против войны, армии и «законной» праздности воинского сословия. Собрание общественности с моральным растерзанием аморального – есть хоровое изнасилование: люди, въедаясь в подробности аморального поведения (с кем, когда жил, да и как?) словно сами переживают соитие – и истекают. Во всяком случае комсомольские собрания в университете с постановкой персонального дела – были[24]24
В поздние сороковые годы, когда я учился – 15 XI 89
[Закрыть] таким хоровым совокуплением, где изобилующие девы филфака (на 1 парня – 8 девок – русская ситуация: «восемь девок – один я»), у которых искусственно задержана эротическая жизнь, кликушествовали и требовали крайних строгостей
Для партийных людей, особенно одиноких женщин (ср. моя мать: в связи с ней об этом и подумал), собрание с растерзанием постепенно становится эротической потребностью – действа и жертвоприношения, где вкушается сладострастье
Сверхидея из роддома
Итак (мое «итак» – священное отправное слово для дневного перехода мысли, как у Шехерезады: когда же настала 397-я ночь, Шехерезада сказала: «Дошло до меня, мой царь»), приступаю к очередному утреннему умозрению – после перерыва в сутки: вчера не умозрел – и жизнь стала захлестывать Так что мне нужно усилие, чтобы растолкать ее и опять вознести голову к свету из волн Опять она меня, жизнь, облепила, как многостепенное и многокапиллярное влагалище – и теперь продираться сквозь нее Но это, очевидно, и радость – так это я с собой всю жизнь делаю– создавать себе безвыходные положения и дать втянуть себя в капканы – чтобы иметь потом повод вырываться к свету, вдохнуть широкой грудью, вкушать процесс высвобождения В ходе этого высвобождения я остро ощущаю жизнь, продираюсь впритирку – как при загребистом соитии И для мысли наваливающаяся жизнь ( о жизни я сказал сейчас такое, что где-то в своих записках о женщине: «Женщина – это что? То, что наваливается и липкое?») подкидывает свой хворост, что ей пожирать, выбиваясь Вот и сейчас подкинута мне пара загвоздок Позавчера, выйдя из утреннего умозрения в дневные дела (№ мой день, оказывается, строится так, что реализует 3 индийских служения– Дхарма – религиозно-философская деятельность духа – этому отдаюсь с утра, до дня; Артха – практическая деятельность в миру – как мужа и главы семейств и члена общества; и Кама! – наслаждение плотское: вечер, друзья, пир, зрелище, женщина Правда, равномерности здесь нет, и я ее не хочу Сейчас все вырываюсь к Дхарме – ею хочу заполнить все Но яйца, грехи сотворенных через Каму дел (Артха) – не пускают приходится бегать в роддом, справки, стройки – и это досадно выбивает из чистого умозрения, так прекрасно мыслилось с утра и дышал легко и чуял чистым себя! – а тут в круговорот зависимостей и сует голову сую)
И вот, собственно, я уж и высказал загвоздку то, что я принял себе принцип: делать дела, но сам находясь как бы в рассеянности (в броне умозрения и не отдавать делаемому души, т. е. имея в идеале мечту ничего такого житейского не делать и не ввязываться) – правильно ли так нацеливаться и что это с точки зрения Эроса? Если жизнь есть прорастание фалла сквозь бытие, то, отказываясь от сует, бронируясь от них в умозрение, – отступаю ли я от предначертания мужа пронзить жизнь, или, напротив, держу в чистоте, холе и силе свое оружие – все мое существо в крепости духа и воли и непреклонности? Ведь подхлестывающая, насаживающаяся, как баба, жизнь провоцирует тебя рассосать и раскидать твою силу по мелочам хлопот и сует. На самом же деле и ей, жизни, этого от тебя не нужно: напротив, и ей нужно, чтоб ты твердо стоял и было бы ей на что насаживаться, – так что соблазнами хлопот она тебя испытует и бьет, чтобы еще и еще раз испытать наслаждение от твоей упругости. Ведь тогда и взаимно дары приносятся. Ведь не откуда как из роддома, я вынес свою сверхидею об Эросе. Стоя на днях в толпе в посетительской и передаточной и вспоминая еще свои утренние священнодейства и продолжая в уме ход мысли, я сосредоточился: все люди вокруг предстали как сквозь воду – в мистическом тумане, и узрел всю жизнь как вхождения и выхождения – и вдруг родилось умозрение о жизни как соитии и что человек– самоходный фалл, – умозрение, легшее во главу угла текущего рассуждения. Значит, жизнь, любя меня, заставила рыпаться, раздражаться, я стал умом сопротивляться – ив совместном наседании и отталкиванье и родилось это умозрение. А сиди я дома днем и пытайся далее умозреть – кончился бы: импотентное самососущее онанистическое расслабленное рассуждательство бы могло потечь. День и жизнь как практического существа – значит, создают и жизненные накопления для мысли. А мысль, утреннее умозрение, служение дает мне крепость стоять в миру и твердо, и с широко открытыми через идеи глазами: ведь нося в себе идеи, я притягиваю на себя, как громоотвод, – факты жизни, и сок и молнию из них извлекаю, что по моим жилам просачиваются и просверкивают. – Значит – так держать! «Под лежач камень вода не течет», – сказано. И очень через Эрос это помыслено: ведь «лежач камень» – это мертвый фалл; живой же человек должен быть «стояч» камень или «бегуч» – и тогда вода женское его оросит. Однако, вишь, на каком уровне держит твою мысль двухдневный контакт с жизнью: ты никак не то что не воспаришь, но даже и самоопорной мысли начать не можешь, – а все отбиваешься и в тенетах и путах житейских тужишься: на уровне правил практического поведения мыслишь и линию эгоистически-личного поведения вырабатываешь; свет еще не вошел, и ничего я не вижу, а лишь топчусь, кручусь, барахтаюсь безглазым телом. Вот видишь, и польстить тебя себе жизнь заставила: выдоила из тебя ей славословия: что, дескать, и мысли без неё шагу никуда. Не воин ты, а бабник – в сегодня до сих пор пройденном рассуждении: слишком оно заинтересованно
Та-а-к, Значит, есть во мне ощущение того, чем может быть мысль: красотой, истиной, – т. е. есть цель, и она проволакивает меня на любовь к себе, на пир веселости и окрыленности духа и умозрения сквозь жизнь и ее тенета. Ибо я, вкусив однажды, уж помню эту радость легчайшую. Значит, не просто любить, а что любить кто призван и кому пристало. Значит, я сквозь тенета продираюсь к той, кого я больше люблю и кого мне любить пристало, – и отрясаюсь от любвей сирен и русалок. Ну да: плывя по жизненному морю среди майи забот и хлопот о ближних, которые сладчайшими песнями-рассуждениями (вроде сегодняшнего) тебе дух туманят, говоря, что только они истинные и есть на свете и к ним припади, – памятуй, что припадешь и утонешь; оттого мудрый Одиссей велел силой себя приторочить к мачте: чтобы и слышать – и не поддаваться
Любопытство и опыт
Но в общем это: пытаться войти во грех и во искушение – и чистым остаться. А это нельзя: потому что для чего я ввожу себя во грех и искушение? – Оттого, что «хочу все знать» из любопытства, т. е. уже любопытством тебя грех и оковал, увязал за собой. Потому запрет вкушать от древа познания был узами не на дух, мысль и лицезрение света, а на слюнявое любопытство – как собака, высуня язык, истекает (недаром про женщину говорят: «исходит любопытством») в предвкушении. Любопытство – сосущее и присасывающееся. Это есть чувственность в уме, его въедливость. Это секс – частичка в Эросе. Эмпиризм в науке: верить только опыту, непосредственно чувственному контакту с вещью – это как ребенок хочет все на зуб обкусать, облизать, во рту подержать вещь; это оральный эротический акт – детскость, инфантилизм мышления: когда даже глазам и ушам – на зрение и слух не верят, но лишь органам осязания, обоняния и вкуса – т. е. непосредственному касанию. Если вспомнить проделанный в предыдущий день с помощью платонова «Тимея» разрез бытия, идей творения и воплощения (от идей, прообразов через демиурга в монады-сперматозоиды; далее с помощью стихий-божеств-веществa: земля, вода, воздух, огонь и т. д.; появление живой формы и особи на свет – и ее прорастание сквозь жизнь и попытка умом в познании воспроизвести пройденный путь и вернуться от нынешнего состояния – к идеям, прообразам), – то сенсуализм и эмпирия есть заново прохождение того звена, когда монада, форма наполнялась дарами стихий, веществ, так что через опыт и можно обрести представление только о веществах, качествах, материях-матерях, грудью кормящих, – но служанок и кормилиц у бытия и мирового замысла. Опыт – это сосание груди мира как матери-материи (а ведь все роддомом и недоношенным младенцем мыслю – а?)
Итак, поскольку познание есть эротическое соитие духа со вселенной, то и в Логосе, значит, та иерархия и лестница, что есть в Эросе, – полностью сказывается. И как есть Эрос-прародитель и Эрот-рожденный (Амур-секс), как есть первый Адам Человек и Адам при Еве, частичный, половой, – так Ум и уменье, Разум и рассудок. И рассудок (частичный ум) – как Адам при Еве, состоит при эмпирии: как устроитель и оформитель касаний монады о вещество, контактов формы о материю и заглатываний ее: как оно, это дело, происходит
Из утробы на свет
Но это все познание утробного периода – без света, с огнем, светильником искусственным – самодельным, кустарным, для внутреннего употребления. Потому рассудок никогда не уверен, не может претендовать на истину (то, что есть), однако в скептицизме дерзает свой предел и тупость объявить всеобщим пределом Хотя в этом признании ему дана спасительная скромность: благодаря тому, что рассудок невысоко ставит себя и претендует давать не идеи, а организующие опыт концепты и конструкты, он может работать
Кант отграничил мир явлений от вещей в себе Явление есть вещь, для нас повернутая, чувственно с нами соприкасающаяся, и познание мира явлений – это сексуально-утробное, сосательное общение с бытием. Глаза еще не раскрылись, зрения и света нет, и безглазое тело губкой сосет – и вот все, что оно знает. Но вот человек выбил дно и вышел вон: родился, отсосался, встал на ноги, вертикально вознес голову, открыл глаза – взвидел божий свет, и в него вошел ум. Он узнал величие, возвышенность и необъятность бытия. Сосущий и безглазо касающийся не может иметь идеи простора и великого, он знает лишь тесно прилегающее, а это все – вот тут, возле, около, в точке, руку протянуть: все малое и такое же, как я, по моим меркам. А вот вышел вон – и исчезли облегающие воды. Ведь зародыш в пузыре из воды вынашивается – как бочка по морю плывет, и человек, рождаясь, из вод на легкий воздух и твердую землю выходит Значит, при выходе из утробы рождается вместо синкретических вод – и бытия как воды (Фалес) – различение твердого (жесткого, неуступающего) и легкого (летучего, податливого): куда можно и куда нельзя шевельнуться. И все последующее развитие – это в «можно»: в воздух, в высь, куда мир уступает – и, значит, манит; не в землю же врастает человек, а в небо вырастает: как огонь и фалл, что оба равно преодолевают силу тяжести и имеют силу тянуться вопреки ей вверх. Возникает дальнодействие. И если в этих условиях я опять продолжаю полагаться лишь на опытное знание – это значит, что я хочу все ухватить, низвести до себя, до уровня своих представлений и в рот положить – т. е. продолжаю действовать как сосунок; а сам я по составу в этом акте – лишь земля, материя, сила тяжести, обладающая способностью низводить
Но огонь-то, например, этому не поддается. Попробуйте узнать, что такое огонь, попытавшись повернуть, изогнуть язык пламени так, чтобы он шел сверху вниз и искры летели вниз, «вы просто потушите огонь и ничего о его природе не узнаете. И когда откроются глаза и виден свет станет, который изливается опять сверху: как дар, как откровение, – попробуйте понять, что он такое, схватив кусок света (но так, чтобы не выпустить из рук, окружить его со всех сторон материей, землей), – и вы получите не свет, а тьму, правда, уже как идею чего-то связанного со светом: как то, что не есть свет. И все открытия эмпирии в своих высших проявлениях как раз единственно могут открыть и утверждать именно о журавле света через синицу тьмы в руках И какие бы сложнейшие ухищрения и приборы ни воздвигала эмпирия, то все будет воздвиженье Вавилонского столпа – т. е. заполнение неба землей, а не узнание того, что есть небо (само и поистине) Однако эти последние мои твердые различения что-то мне не нравятся. Ведь контакт-то происходит, соитие осуществляется, а ведь выше мы вывели, что в высший миг соития не знаю, что я ощущаю: ее или себя, женское или предельно мужское? – и то, что это уже неважно, что четкие различения и формы утратили смысл, и восстанавливается единое: Человек (андрогин), – это-то и дорого и есть радость. Значит, неважно, что в опыте я не узнаю света, а узнаю о свете через тьму, – это потом, результат, остающийся после смерти опыта. Сам же опыт, как и строительство Вавилонского столпа, – есть усилие, поднятие, воздвиженье в любви и к любви, так что и опыт (как и война, и как эротический акт) есть сладостное самозабвенье познания – ток между нами и бытием
И все же это – на уровне низовом. Это попытка понять всеобщий мировой Эрос, зная только секс и пытаясь лишь его раздуть до неба. Когда человек вышел на воздух и свет, необходимо становится дальнодействие: соитие без касания, без чувственного контакта: чтобы сообщаться не с ближним (тем, что под рукой), а чтоб шло сообщение малого, меня, – с великим. Если в утробе, когда я сосунок и эмпирик, я не знаю высокого, а сужу обо всем через себя, и мир вижу эгоистически: как облегающее меня телесное существо, – то теперь я воспринимаю свою малость и величие мироздания; и теперь, хотя (желая) расти, я меряю себя миром, и мир падающей звездой бросает в меня свое семя: идею микрокосма, духа – и меня, как части лишь, но имеющей надежду. Итак, возникает задача соединения без непосредственного контакта, касания, соприкосновения. Ориентироваться (встав на ноги) уже мы начинаем не на ощупь и не по запаху, а на зрение и слух, – чувства уже более теоретические, чем эмпирические. Правда, язык наш так устроен, что оттягиванья верха вниз допускает, а подъятия низа вверх нет: например, можно сказать, что глазом я обнимаю (дело рук, тела) всю окрестность, зрением впитываю (дело обоняния, запаха) краски мира, глаз вкушает сладость (вкус, заглатывание) солнечного луча Но нельзя сказать: «я услышал ступнею песок», «я узрел аромат магнолий», хотя уже можно сказать: «я услышал запах цветов» – но это оттого, что слух: «чу!» – чутье, его процесс сродни осязанию и касанию, и недаром глухие слышат телом (волны о него бьются), а у кузнечика органы слуха – в ногах; да и у нас в ухе помещается вестибулярный аппарат, т. е. орган телесного равновесия (кстати, вот еще свидетельство того, что человек устроен на дальнодействие, с расчетом на него ориентирован в мире: если поползновение ориентируется нюхом, то вертикальная походка – слухом). То же и выше: можно сказать «умозрение», «я узрел истину», «надо различать понятия» (от слова «лицо» – то, что зрится). Т. е. можно объяснить ум. знание – через видение, свет, как прозрение: что мы умом – видим. Про вдумыванье можно сказать, что это вслушиванье, мысль роет глубину мира, взлетает ввысь: телеснопространственно ее выражая. Но нельзя сказать: «я понял взглядом красоту этой долины», хотя можно сказать: «слух узнал родные звуки»; так что выходит, что и обратное, сверху вниз движенье в языке тоже происходит
Я вижу умными очами
Колумб российский между льдами
Ломоносов
Итак, эмпирическое познание – близкодействие, ощупыванье, точность. Умозрение ж – есть проникновение на расстоянии, дальнодействие, его объект и дело – интеллектуальная красота. Платон, Шеллинг… Интуиция, как проникновение в поры бытия, более чувственна, сексуальна – из способов познания. Недаром у французов и евреев развита: Бергсон..








