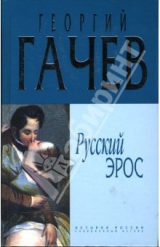
Текст книги "Русский Эрос "Роман" Мысли с Жизнью"
Автор книги: Георгий Гачев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Недаром слово тоже имеет рожденье, и муки слова – муки родов: как женщина, выродив дитя, пускает в мир свой фалл, так и словотворцы выпускают слово2, чтоб оно ходило и зацепляло мир и глаголом жгло сердца людей. Слово здесь мужественно. Словотворцы же – натуры женственные. И действительно, истинный мужчина говорит мало
Но женственность словотворца здесь сродни Гее, которая сама производит мужчину (Уран-Небо), чтоб он оплодотворял ее. Словотворцами человечество порождает Логос – Фаллос мысли и культуры, благодаря которому становятся все возможные дистанционные соития, на дальнодействии: Пушкина с Гомером, Сократа со мной, японца с Марком Твеном и т. д. Произнося слово, мы испытываем определенное сладострастие – от артикуляции и резонанса: мы посылаем волну – содроганье, струю исходящего из нас (воз)духа, который уже наш: пропитан нами в легких и во рту, насыщен стихиями, стал одной с нами природы – и есть уже наше чувствилище, щупальце в мир.
ТВОРЕНИЕ – КАК СОИТИЕ
Но так проясняется для нас и цель Творения. Для чего Господь создал человека? Для того, чтобы было с кем возиться. Ведь до творения Дух Божий носился над водами как неприкаянный – некуда ему деваться, не в кого войти. Но человек – сосуд избранный – создан, и отныне сладострастие духу – совесть, т. е. очевидно, мера («глоток») вдоха – и есть атом воздуха. 2 И вдруг, как солнце молодое, /Любви признанье золотое / Исторглось из груди ея (Тютчев) – вот роды слова
Совокупление через сознание: проникать в самые отдаленные тайники, уголки нашего существа, – ничего чтоб не сокрылось и не осталось нетронутым, девственным
То есть логика та же, на основе которой Господь создал жену Адаму: худо человеку быть одному. Но и Богу худо быть одному. Мир им и создается как поприще – влагалище для своих сил, а Сыну своему единородному Богу-Слово, Он вверяет человечество: чтоб с ним носиться, страдать, а от него казнь принимать1. Как мы хотим быть и женщиной и мужчиной в соитии, так и Бог-Слово принял образ человека: чтоб соитие с миром через распятие испытать
Молитва же, экстатическое произношение любовных слов к Богу – есть наше соитие в дальнодействии; и недаром влюбленные в Бога – религиозные люди впадают в транс, равный эротическому оргазму
Язык-огонь
5.1.66. Уже дошел до того, что загадки сочинять стал – народное дело. «Бьется в тесной печурке огонь» – что такое? Ответ – речь, язык
Рот – печурка, топка, зев, геенна – пасть ада. Язык – язык пламени – огонь. И от него «язык» – как речь – слово. Язык бьется в тесной печурке: то туда приляжет кончиком, то сюда горбом – в итоге членораздельные звуки речи образуются
Итак, переходим к рассмотрению рта с точки зрения огня. Как спящая валькирия Брунхильда со всех сторон окружена огнями, так и наше существо: у врат его, у входа лежит огнедышащий пес Цербер – язык, огонь: ласково виляет хвостом (язык – гибок и галантен, прекрасный танцор: и огонь пляшет; он без костей, как и фалл: «а все-таки, мать Маланья, кость в ем есть!»), заманивает, засасывает, – а назад не выпускает: возврата оттуда уж нету, и на языке огненными буквами горит надпись: оставь надежду, сюда входящий
Итак, ничто не может войти в нас без санкции языка, им не освоенное, не прочитанное. То есть язык пламени стоит у входа в наше существо и все входящее подвергает крещению огнем, причащает к огню – и здесь огонь обнаруживается как всесъединяющая субстанция, устроитель единства нашего существа. И чем грубее вещество – тем более он активен: с землей, входящей комками, кусками, он прямо борется в обнимку, вплотную, впритирку – порами, колбочками и палочками вкуса прилегает и снимает отпечаток, опробует на соответствие себе. Вкус – это горючесть материи – та или иная мера ее пронизанности солнцем: сладкое, горькое, кислое, терпкое, соленое – все это земля по отношению к огню
По отношению к воде язык уже не атлет, а волна: ласково пригибается, уступает. По отношению к воздуху: при просто дыхании никак себя не проявляет, мирно дремлет, разнеженный под Зефиром. Здесь огонь – темное тепло, не проявленный, как когда он – свет. При речи же – огонь бьет воздух, хлещет воздушный океан, пронзает его перунами: речь – громоустие, биение столба воздуха языком. При разговоре у нас во рту каждый раз совершается гроза: вспышки языка (те или иные его прилегания, зигзаги в пространстве микрокосмоса) – и громы раздаются, выносятся. При речи огонь так ведет себя с воздухом, как не при тепле, а как при горении с излучением света: пламя бытия на ветру, многоязыкое, многоглагольное, взвивается, хлещет – и само рождает гулы, волны и погоняет, помыкает ветром
Речь – костер
Здесь – в языке – начинает впервые открыто проглядывать наша световая природа. В самом деле, когда мы до сих пор выявляли огонь в составе человека, мы прозревали его в общей форме фигуры человека – вертикально возносящейся, как язык пламени. Но далее мы теряли огонь из виду и находили его не как свет, а как тепло (ровная температура тела), как сердце (всполохи кровообращения), как работу в нас – невидимую. Еще в красном цвете крови и наших внутренностей огонь давал себя знать. Но чтобы узнать, что мы внутри – огонь, язык пламени, – нужно идти наперекор натуре: вонзить, разрезать – и выявить сокровенное. В языке же тайное само делает себя явным: нутрь наша сама выворачивается и вылезает наружу – и оказывается чем? – языком, кончиком остреньким, лижущим и воздетым. Это как рожки и хвостик у бесов: в отличие от обычных внешних конечностей: рук и ног, – рожки и хвостик и копыта беса суть проступание его внутренней природы, сокровенного естества. То же самое в нас и язык: он наивно, помимо нашей воли (язык мой – враг мой) выдает тайное: раз изнутри выдающаяся часть наша имеет форму языка, т. е. ту же форму, что имеет и огонь на краю своем, в своей конечности, – то отсюда очевидно становится, что истинная нутрь наша, наше «я» – огонь. Язык есть откровенное сердце: так же бьет и действует, работает в желудочке рта – среди его каналов и клапанов, – разгоняя землю, воду, воздух туда-сюда, отделяя овнов от козлищ, злаки от плевел. Не будь сердца, его тактового биения, нутрь наша ощущалась бы нами… – точнее: никак бы не ощущалась, ибо никакого различения там не было бы. А так через сердце появилась двоица: да-нет, разделение, а не кромешное марево
Это и есть работа человека: разделение, определение, внесение своей мерь! в материю и возникновение формы. Но такой же активный работяга в нас и язык – он членоразделитель: и речь от него – членораздельная, и он один умеет пропустить любую стихию в чистом виде, отделив от других: так мы можем высосать, отжать из куска пищи всю воду – сок впустить, а сухую землю – отвергнуть; можем и чистый сухой воздух впускать в дыхательное горло – в то время, когда едим и пьем
Везде здесь наше «я» полагает свою меру (природу, суть, личность) – всякому «не я»: субъект опосредует объект. Язык во рту есть я в миру. И как всякая вещь есть соединение руки (и рука – на уровне сердца – отрог моего внутреннего костра и моего кванта, моей меры) с «сырым» веществом (и опять в этом слове наш язык нам открывает, что труд, работа – есть обогненье), – так и всякое слово, из уст излетающее, есть удар моего «я» (моего языка пламени, моего кванта), его запечатлевание на стихиях – и прежде всего на воплощенном: заземленном и увлажненном – воздухе
И как «я» наше возникает со светом, так и язык свою работу членоразделительства (пища, питье, речь) осуществляет на свету
Отсюда можно заключить и обратное: раз язык работает на свету, а язык – представитель нашей сокрытой меры – внутреннего «я», – значит само это «я» – световой природы. Недаром «я» еще иначе выражают как «личность» – от слова «лицо» – то, что всегда на виду и есть вид – эйдос, идея – лицо нашего существа. Если языком выпрастывается наружу наша внутренняя!суть, которая есть огонь, а язык – его кончик, то наше «я» находится на самом кончике нашего языка: там, где гавань нашего существа переходит в открытое пространство. В самом деле: ja, ich, ai, az, je – везде здесь звук слетает с самого кончика языка, снимается легким выдохом. И, если глянуть прямо в рот, произносящий слово, то язык и его кончик в нем так же централен, как зрачок во рту глаза. И зрачок так же способен расширяться, суживаться, играть, как язык, и в этом сразу слово-мысль нашего взгляда сказывается. А глазное яблоко может так же раскрываться и стискиваться – как и печурка нашего рта. Рот – полый микрокосм, вселенная – как атом (язык) и пустота. Глаз – та же коробочка, что и рот, – только выпуклый микрокосм, где главное – не пустота, а полнота бытия
ГЛАЗ
Именно глаз идею бытия как вселенного (т. е. заселенного) выражает: наличное бытие, существующее (тогда как рот бытие как потенцию выражает: все в нем может быть (сказано), но никогда не есть полностью). Глаз же – это ровное присутствие бытия – полного
У глаза то отличие от остальных отверстий: влагалища, заднепроходного, рта, что в них – зев, вакуум, возможность бытия, живое небытие, жаждущее стать бытием. В глазу же дыра, углубление, влагалище в черепе – заполнено наличной жизнью: во впадине под бровями – выпуклость глазного яблока – т. е. из влагалища выступает полуокружность, головка фалла
Собственно половые органы сокровенны, любят и создают тьму: когда фалл входит во влагалище – всякий просвет в камере исчезает. Половые органы, как и подобает половинкам, обращены друг в друга, а не на свет. Они отвернуты от света, и в соитии человек свету показывает не свой перед, где лицо – личность и «я» его, – но зад, спину и тыл, бежит опрометью от рати бытия-света-пространства – в атом, в каплю, с головой спрятаться и войти и буквально уничтожиться
В комбинате рта, где уста-губы – влагалище, а язык – фалл, уже не половость, но полноценность и самодостаточность Человека: полное самообслуживание в отношении сладострастья. Однако здесь сладострастье потребительно, поглотительно, направлено внутрь. Недаром и фалл-язык – производитель упрятан, держится в прикрытии. Рот эгоистичен (недаром эгоист – это тот, кто пожирает, поглощает в себя и ничего не отдает) и лишь в речи-слове обращен в мир, и происходит самоотдача. И когда язык высовывается изо рта, мы видим в этом недостаток воли, «я», самости, сдержанности (т. е. своей меры – своего кванта), и это бывает у идиотов; и слюни, как слезы, текут: с конца капает, как несдержание сексуальное или недержание мочи – тоже от недостатка внутренней цепкости моего костра, собранности моего существа в организацию – организм. Но вот в глазу: веки – губы – влагалище. Здесь, скорее – вылагалище, ибо оно раскупоривается не тем, что его раздвигают извне, чтоб войти в него, но распирается изнутри, от своей полноты бытия, – как у рожающей женщины плод головой выходит. Глаз и пребывает на нашем лице как идея нашего плодородия и творчества, обращенного в мир как самоотдача. Глаз – это цветок и плод наш: веки – лепестки, волоски ресниц – как тычинки и волосики в цветке, а глазное яблоко – плод и есть. В глазу – синтез нашей животной и растительной природы. В самом деле: два глазных яблока и меж ними нос – это повторение на лице мужских половых органов: фалл и два яйца. Само устройство глаза – влагалище, из которого проступает фалл. (Потому лицезрение глаз в глаз, ненаглядность, неотступное смотрение и впитыванье зраков – есть тоже соитие, служба Эроса: недаром «ненаглядный» – «желанный».) В то же время глаз – цветок, ромашка, василек, ягодка; и если животные органы пола тянутся сокрыться в лесу – в растительности, и там во тьме делать свое черное дело, то глаз – как цветок: обращен к свету, к солнцу, зрак в зрак смотрит и не наглядится1
Но еще язык-огонь не докончен. В языке тот огонь, который представляет собой наше существо, в последний раз стелется, распластанный, пригнутый горизонтально, – прежде чем вернуться на родину (ибо мы – похищенный огонь, и наша жизнь – возврат отпавших)
Но как язык пламени, возносясь с низу ног наших в искру глаз, по пути очеловечивал все вещества, все стихии в нас: разогревая их, придавая им нашу меру – наш квант, наше «я», – так то же самое и в последний раз и в сильнейшем сиянии он делает во рту. И недаром язык пламени как в печке изогнут – так, что тяга помещена не вертикально прямо над разгорающимся огнем, но в бок, в стороне: огонь стремится на волю, а нарочито разделены воля и вертикаль – и огонь в своих стремлениях необходимо раздваивается и мечется – и горит, пылает, как и мы, когда меж двух решений и целей; его естественная натура тянет его вверх – и он наивно восстает вертикальным пламенем! – и тут же ему сворачивают шею: деваться некуда – приходится отдавать тепло, чтобы (не до жиру – быть бы живу!) убраться подобру-поздорову на волю. Воля же мнимо дана вверху: маленькое пространство над дровами в печке – как приманка; а на самом деле путь на волю устроен сбоку. И вот меж волей и вертикалью распаляется огонь – и все, чем жив, – последнее отдает. То же и во рту происходит: язык, которому естественно стоять, как огненному столбу, – имеет путь на волю не вверху, а в стороне, так что в своем стремлении на волю он тычется вертикалями вверх – и все добро свое раздает: печку рта обогревает, космос речи создает
В итоге сплава, что в тигле рта возникает, создается легчайшая субстанция, квинтэссенция всех четырех стихий – ко всем им причастная материя – слово. И создает ее опять язык-огонь, сей всеобщий превратитель, совратитель, змий-развратитель, искуситель огненно-льстивый. Здесь происходит в камере рта то же, что в цилиндре двигателя внутреннего сгорания: как там вещество, масса, сгущаясь, уплотняясь в такте сжатия в атом, вдруг превращается в искру и вспышку – силу-энергию, так и здесь все тяжелые, увесистые материи-стихии превращаются в 1 8.III.67. Св. сообщила мне детскую загадку: «Тело к телу, волос к волосу, чем больше делаешь – тем больше хочется». Каждый думает нечто предосудительное… Ответ – мигание: веко к веку (тело к телу), ресница к реснице; и действительно: начав мигать (тебе – как чешется), все чаще мигаешь
Но недаром первым делом приходит мысль о соитии. Мигание и есть вид соития – и именно оттого, что наш глаз устроен гермафродитно: фалл (головка яблока) и веки – губы влагалища. Похожа на это и загадка: «В темноте на простыне два часа наслаждения» Ответ – кино. И кино действительно есть соитие в мире с помощью глаза: луч ронзает тьму имя, слово, звук пустой – в нем же воля, сила, власть и вечность. И происходит это извлечение членораздельного звука посредством мгновенного замыкания, что совершается между исходящей струёй воздуха и языком (или стенками коробки рта). И как именно такт (касание) сердца вносит членораздельность в жизнь нутра, так и язык, касаясь то нёба, то зубов и т. д., вносит меру «я» и точную форму в возможное звуковое марево – и возникает точный закрепленный звук-вещь-форма – фонема. Как в такте сердца дано «да» или «нет», бытие или небытие, т. е. разделительный союз «или» (а не неразличенное «да» и «нет»), так и речь, создаваемая языком, – раздельная: не всё во всём, но всё отдельно: каждый звук, слово; все – особь, грань, форма, опре-деленность. В то же время язык как дает форму, раздел (границу) звуку, так дает ему (как такт сердца) и меру времени – длительность: звучит звук, пока язык приложен к определенному месту. Язык – как рука, ладонь: деятелен, мнет, деформирует. Но язык имеет себе уже другую пару: он есть рука глаза (света, ума), так же, как рука – язык сердца (огня). Рука-сердце есть пара на уровне темного огня – тепла. Язык-глаз есть пара на уровне огня-света, открытого в мир. Рукой же мы главным образом притягиваем к груди, присваиваем себе, достаем, стягиваем мир к себе: рука – эгоцентрична, загребуща, друг мой. Язык же – враг мой: им, как и глазом, мы обращены в мир, выдаем себя миру. Ладонь вогнута, полость; язык и глаз – выпуклы: ими мы выталкиваем из себя – именно добро, свой высший личный сок (в отличие от семени – родового сока жизни во мне), а не отходы, дерьмо, как в нижних отверстиях. Через глаз и рот мы не «на тебе, Боже, что мне не гоже», но отдаем свое «я» и свою душу
Свет и ум
6.1.67. Господи, помилуй! Ну что дашь – что из меня такого выжмешь
Итак, мы выходим изо рта. Ибо и речь, слово нельзя понять по рту лишь, хоть в этой камере звук образуется, – но в связи с чем-то, к чему переходим
Отдам отчет в затруднении – может, так и выберусь. Что меня смущает? Что то, к чему перехожу, не знаю: так ли назвать – «свет»? Но ведь и до сих пор я работал с готовыми, а не мной выделяемыми началами: земля, вода, воздух, огонь. Так что могу и «свет» взять сверху
Второе затруднение – в теле не могу найти теперь седалища. До сих пор находил: для земли – низ, для воды – живот, для воздуха – легкие, для огня – сердце. Так же мог рассматривать каждую стихию в двух планах: отношение: земля внутри и земля во вне – раз, а второе: отношение земли внутри к огню внутри и т. д. – т. е. все стихии были и жили и внутри тела, и его можно было рассматривать как автономный космос
Но вот перехожу к свету – и вижу его во вне, вокруг, как стихию, а в теле не вижу ему места и дела. Хотя – постой! Вот я гляжу вперед – и простор: поля, деревья, дети, белое и слегка янтарное зимнее небо. Гляжу – и я исчез: нет меня. Подумал об этом. Закрыл глаза – упали веки, и все исчезло; значит, вот он, я, я этот вид произвожу. Исчез мир вокруг, зато мысль заработала – вот, значит, представитель света во мне! – и пошли от нее касания и сигналы в любую точку: в ноги, в волосок, в пах, в зубы, в память только что бывшего вида
Так, может, вот в чем свет и его дело во мне: свет на меня
падает снопом лучей, с неба, сверху и вокруг (обходит меня) бросает и просвечивает. И ум во мне – это луч. Его пути и направления: вертикаль и круг. К вертикали в нас имеют отношение земля и огонь. Луч падает сверху вниз – в направлении земли; но не оттого, что он притягивается, а оттого, что отсылается вниз. Если бы он падал вниз под действием притяжения, то он бы темнел и заземлялся, земле поддавался. На самом же деле самый чистый характер луч имеет не вверху, в небе, у солнца (где он видим и веществен), но когда мы закроем глаза и мыслью извлечем, разбудим какую-то дремлющую отягченную клетку в ступне или междупалье – т. е. просветим ее насквозь. Значит, свет падает на землю и входит в тело не чтоб заземляться, а чтоб максимально просветлеть: если импульс луча света вверху (солнце, мозг), то торжествующий луч – не тот, что выходит из кроны, но тот, что проник к антиподам1. И в этом смысле луч подобен! Вот почему уму так интересно ковыряться в букашках, микрочастицах, в отношениях души и тела – в аффектах, в природе вещей, в материи и т. д. То есть его торжество и призвание – в освещении низового: именно перед лицом материи ум – чистый, невещественный, тогда как в умозрении Бога, неба, света – он эфирен, спутан с предметом: обманут тонкостью вещества у предмета мысли. Потому в отношении Бога и родины луча, исходящего из корня кроны, наше отношение это радость, блаженство, счастье, любовь (как при чувстве родины), но уму там нечего делать; ему же пристало: помолясь в любви о даровании сил от кроны (муз, Бога), делом низового освещения – материи, опытного знания – заняться
Так, в «Кабус Намэ» (гл. 1) сказано: «Помышляйте о богатствах аллаха, но не помышляйте о сущности его. Ибо сильнее всего сбивается с пути тот, кто ищет пути там, где его нет. Ибо познающим всевышнего ты станешь тогда, когда перестанешь познавать».. Но возможен и другой поворот, который Тютчев выразил в стихотворении:
Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной,
Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом
То есть самый тонкий, невещественный характер свет-ум имеет не перед лицом тьмы, но рядом со своим ближайшим подобием: солнечным светом. Если сумеешь здесь их различить – то самую глубокую истину постигнешь языку пламени: наиболее ярок огонь не в той точке, где исходит из горячего дерева, но ярчеет к концу языка. Конец у луча и наибольшая (невещественная) яркость – внизу, а у языка огня – вверху. Это оттого, что огонь – похищен (или убежал, т. е. особая воля в него вселена) и рвется домой, страдает здесь, на земле, вечно недоволен. А луч – ниспослан, кроток, всегда себе равен, своей воли не имеет, оттого безмятежен и не страдает. Он всегда при себе (скорость света – мировая константа, как Бог, постоянна), сразу ощущает свой один конец у короны солнца, а другой – здесь, в чешуйке рыбы. Так и мысль наша одновременность всего нашего бытия являет: мыслью мы чувствуем сразу и мозг свой, и кончик пальца. Луч – пребывает, как град Божий, везде, и он вневременен и неподвижен
Итак, вот назначение ума в нас и света в мире: среди клубления и свистопляски движений, превращений, недовольств и стремлений веществ, стихий (земли, воды, воздуха и огня) являть константу, пребывание, истину («естину», т. е. то, что есть, а не было или будет), пребывать свободно от времени, а следовательно, и от наших огневых различении, отгранений, и определений: «единое», «двоица», «множество». То есть все это в уме содержаться может – так же, как в свете могут пребывать и гора, и река, и ветер; но это его игровые карточные домики, ум может обходиться в мысли, понимании и созерцании истины – и без них. Итак, если отдать умозрение свету, то его можно представить с точки зрения распяливающей человека вертикали: земля – огонь – как ровный световой столп, луч неподвижный, т. е., точнее. не обязанный двигаться и не обязанный не двигаться, без отношения к противоположению: движение – покой; это все различения на уровне: земля (покой) – огонь (движение)
Вот это важное самое: то, что выражают луч, свет и ум, то, что их присутствие сообщает нам, – нельзя определить просто как константу: как покой, вечное бытие, не подверженное движению, смерти и т. д. Это все были бы умозаключения, производные от мира четырех элементов и связанных с ним идей: движения, жизни, смерти, начал и концов; и тогда бы в истине мы наслаждались отдохновением, покоем, бессмертием – т. е. убогими идеями на уровне нашего элементарного разумения. Истина не за покой и не за движение: она безразлична к ним. То же самое и ум – о нем говорят, что он – самое быстрое, быстрее молнии: все обшарит. И это верно. Но он наиболее всепроникновенен в созерцании, т. е., когда совсем ровен. Ум, как и луч, можно сказать, блестит, колышется (переливается), но не покоится и не движется. Но это и есть образ вечной жизни «я». Если вода-семя являет вечную жизнь рода людского, безотносительно к моему существованию; если огонь дразнит нас идеей личного бессмертия (через труд, славу, дело, историю), то луч светоума являет нам образ и зароняет в нас идею вечной жизни «я». Это я беру пока с точки зрения вертикали: луч – как единичный столп, единичная бесконечная линия жизни. И недаром вечно живые единичные, как представляется нам, такими вот лучами пребывают и колышутся; то они в теле, то вне тела, то в змее, то в дереве – это все колыхания, мерцания, переливы, блестки в собственной игре
То «я», идею которого образует в нас луч, – иное, чем то, идею которого образует огонь. Огонь означает нашу меру, наш квант, единство и постоянство нашего состава – в себе закупоренного, самосохранительного конечного существа. Наше огневое «я» есть воля, нервно, исполнено страхов и борьбы за свою меру, исполнено чувства своей (от)личности ото всего. Лучевое же «я», от света и ума (точнее: наше единство, нерассыпаемость светового луча), совершенно уверенно, и самочувствие этого «я» – не в особости и самосохранении (я делаю, я говорю, я мыслю – как это в огневой работе и общественной деятельности), не в единстве «я» (что я себя чувствую одним и в ноге, и в волоске), но в чувстве мирового единства (а не просто единства «я» с Миром – здесь еще различение их) – ив самозабвении и самонеразличении1
И здесь я уже вышел из понимания света как лучевого столпа (с точки зрения вертикали огня-земли) и перешел к ощущению света как сферы, круга, пространства (что роднит с воздухом) и как всеслиянности и соборности, единой жизни (что роднит с водой)
Свет – не точечен. И хотя мы привыкли связывать его с солнцем, но уже то обстоятельство, что светило не одно, но еще луна, а еще планеты, а еще звезды (что уже совсем пыль и рассеяние), – уничтожает точечность света. И когда солнца не видно, свет все равно – вездесущее марево. И солнце обходит: совершает круговое движение
Все это к тому, что свет как луч-столп есть еще узкое и очень абстрактное его понимание. Для света, наверное, вообще нет верха-низа (что так жизненно важно для земли и огня), нет стечения и пространства (горизонтального тяготения и расширения, что важно для воды и воздуха). И лишь совершенная фигура шара дает намек на форму его бытия в мире. Но и она тем более опасна – фигура шара, что его совершенно определяет, так что очень трудно этот образ шара преодолеть в сознании, а нужно: ибо свет не в шаре: шар – лишь намек, одна ближайшая ступенька к познанию истинного света, но, как ближайшая, – и самая опасная, ибо очень похожа, а как раз совсем не то: как Антихрист к Христу или Люцифер к Богу. Близость и сходство здесь тем опаснее – дезориентацией. Эллинское сознание, удовлетворявшееся в понятии света-ума совершенной идеей шара (Платон, Плотин), – тем обузило себя. Тут уже ощущение и переживание ВСЕединства. – 25.XI.89
Так вот почему не мог я найти место, седалище свету в нас: не точечен он, не атомарен, не капелен, не ветрен, не языков, не бьется нигде сердцем, но все пронизывает ровно: и нас, и округу, так что с точки зрения света нет никакой разницы: снег за окном и сердце, во мне бьющее: то какая-то мнимость надета на кусок светового – умного марева вселенной – какой-то сфигуренный колпачок. Но ум – свет улыбается нам: не обманывайтесь, принимая этот колпачок за что-то сколько-либо существенное (чему учат все остальные стихии), – это просто макет мироздания: созерцайте его в удобном приближении к вам, но таких макетов мириады: и лист, и капля, и Монблан; так что вообще-то, когда слово вами произносится или мысль думается, не полагайте, что это сфигуренного колпачка заслуга: просто здесь одно из колыханий луча – и вами в такой же степени лист и гора мыслят, и птица слово свое произносит: припомните, а то забыли, где это подслушали
Человек – юрта, палатка, произвольно накинутая на вольное пространство на ночь. Но оттого, что оно оказалось на время под накидкой, пространство как могло изменить свой основной состав и нрав
И когда спросишь себя днем: где свет? – вправо от меня, сзади, вокруг? – так же нелепо спросить: где я? – в мозгу, в том дереве, шелест которого я слушаю, в той звезде, луч которой сейчас под солнцем на меня падает, но я его не вижу и не слышу – и вроде и не подозреваю о его существовании?.
МЫШЛЕНИЕ – РАЗГРУЗКА БЫТИЯ
7.1.67. Ныне отпущаеши
Как воры, бросающие свое ремесло, называются «завязавшие», так и я хочу сейчас завязать писание: поджилки в висках, чую, не те, уже жидким молоком доятся. И потом эта каждодневная многословная дрисня! Всё. Надо перевернуться – куда-нибудь податься, где б я работал руками и ногами: дрова, лесоповал или лыжи
Но вчера имел забавное видение. Зашел к Б. на работу в Заочный институт художественного воспитания, и там стоят шкафы, а на полках папки, в папках же – послания, души писавших в узелках завязаны. И высятся эти полки над сидящими за столами. И вдруг я увидел, как люди теснятся, толкутся на земле, размножаются, и уже вширь некуда девать души и руки – и вот найдено иное измерение, куда можно улетучиваться, становиться невидимкой, бесплотным: в бумажку уйти. Тебе, например, любить или убить кого хочется, а ты сел – и стихотворение написал, и в нашей теснотище вышел – в пространство
Вот ведь: писание – это как второй ярус, полати жизни: тесно стало внизу – там толкаются, а я взобрался на полати – и свободен; а и для низа разрядка: убраны излишки. А то что было б, если люди всякий импульс энергии могли проявлять только в физическом движении? Мир был бы буреломом из ударов, чащобой тел и хаосом дел – и был бы заполнен, завален – не продохнуть! и где черт ногу сломит. А так – изобретена мысль; и как начал думать – так и пропал, заколебался (волнами маятника растекся), потерялся в бесконечности, никакого загромождающего бытие дела не совершишь, зато энергию – дурную кровь спустил. Гигиена! Мышление изобретено жизнью на земле для самоохраны, как энергоотвод. И иду я по улице, встречаю параллелепипед библиотеки – и вижу это здание как вселенский желтый дом, а каждую обложку – как смирительную рубашку. Вот и я сейчас. Куда бы мне деваться, если б не мог сесть с утра за стол и предаваться умозрению и вроде бы делу – буквочки на бумажку наносить? Должен бы был выйти на улицу, ломать машины, сгребать снег, строить дом, бить прохожего, спасти старушку. Но любое даже созидательное материальное дело (постройка дома, спасение человека) – было бы загромождением бытия, где и гак тесно; и от этого моего вклада и добавка людям – еще меньше воздуху и простора бы осталось. А так я изъял себя: как дитя балуюсь, тешусь, мысля, – и не плачу: безвреден и беззлобен. И потом в хорошем настроении заслуженного ничегонеделанья буду проводить вторую половину дня. И действительно, ум – мир иной, бесконечный. И мыслится недаром в неподвижности: можно усадить всех людей рядком и на полатях этажей друг под другом, дать в руки книжку или предложить помыслить – и Земля может быть максимально населена, где люди телами впритык – и в то же время все свободны: каждый сообщается с бесконечностью, и ни для кого никаких преград
Но постойте: я, кажется, вышел к уяснению того, что есть ум (свет), – то, чем вчера занимался. А ведь начал было отступление..
Итак, ум есть бог в каждом из нас – мысль Эврипида. А бог – бесконечность, вечная жизнь и всемогущество. Предавшись уму и размышлению, я перехожу в мир иной и живу как бог – играя с миром: он податлив, все его вещи никаких преград проникновению не представляют, т. е. становятся имматериальны, бесплотны – обнаруживаются как раз как невещественные: не как вещи, а как идеи (эйдосы – виды и формы). То есть в уме соитие и проникновение оказывается возможным с любой «вещью», сущностью – независимо от ее ограды, границ, или времени, или расстояния от меня; нет дальнодействия Эроса: все стало касаемым, ибо умом я могу тронуть, соприкоснуться со всем – и существующим, и возможным, и невероятным








