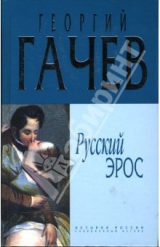
Текст книги "Русский Эрос "Роман" Мысли с Жизнью"
Автор книги: Георгий Гачев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Сон: я – беременей
4. III.67. Густеет состав бытия. Когда вышел утром ритуально под деревья, там, над – колокольчики звенят серебряные, чистые; да это ж птицы! Замер, слушаю: вся ткань воздуха многомерна и многослойна заколыхалась, потому что в разных точках и далях завспыхивали разногрудые голоса. Боже! расперло бытие – да и меня: улыбка расперла мне жесткие цепкие челюсти: входит прибыток! Куда-то денется. А сегодня – в ночь и под утро, когда я второй раз заснул, прерванный брачными песнопениями мартовских котов, – мне, как по заказу (после вчерашних рассуждений о сне и пробуждении), был дан сон. Главное в нем: будто обнаруживается, что я-беременный: растет живот, а в нем что-то, чую. Меня для доспевания засаживают в яму (в земле): чтоб, как гусь, доспевал и не рыпался, а сверху домовитая женщина-нянька меня кормит и благословляет. И сожалеем мы с ней, что вот раньше времени я себе варикозные узлы на венах вырезал: ведь рожать буду – опять набухнут, как у рожениц то бывает. В связи с воспоминанием об операции и больнице второй мотив: когда мне выписываться, Берта приходит с двумя авоськами красных яблок. А ко мне много народу (студенток вроде всё) пришло встречать выздоровевшего (это, видно, после вчерашнего семинара с аспирантами мотив) и щебечут; Берта же, не в курсе, одураченная и обиженная: ни при чем, значит, – уходит с авоськами
Потом лифт привозит меня в пустую новую квартиру, и из окна я вижу, как Берту заводят с авоськами в милицейский участок: подозревают, что больничные яблоки украла. И через несколько дней мы сидим за столом с едой с Бочаровыми и другими – и приносят «Новый мир», где уже памфлет Евтушенко на некоторую женщину (не называя фамилий), что вот ай-яй-яй! – на больничные яблоки покушалась. И дивимся: вот шустр пострел – за два дня успел и тиснулся
Это, конечно, полусны – не метафизические, подутренние, уже приземленные. Но и в них мотивы метафизические есть: явная бисексуальность: я – хочу быть женщиной и родить, т. е. вместить в себя и выродить; и в то же время я – в яме, т. е. хочу быть в женщине, т. е. как мужчина. Тут жажда быть не полом, не половиной, но целостным Адамом, андрогином, – но не за счет исчезновения libido, а за счет полного его развития в обе стороны – и как бы самосовокупления, вгрызания друг в друга обеих половинок (в обеих из которых я сам распределен), и так, через полное сладострастие и притяжение частей (сексов – секторов – в том числе и ребенка во мне) достигается – вершится восстановление целостного Человека. И второй мотив: кража и преследование; это я осуществляю в ипостаси Берты как родной сестры
Испражнение
А! Понял, отчего хорошо читать в то время, как великие свершения на толчке в клозете производишь. Вот я с утра сел без книжки и начал думать – и вот результат: снизу не идет. А почему? Потому что когда я думаю, я уже выделяю из себя силу, исхожу, испражняюсь – в воздух: в мыслильню бытия токи исходят. Земля и воздух во мне расходятся в разные стороны, в разные протоки: нет ни там, ни сям достаточного напора – оттого и запор. А вот когда я читаю, я погружаю в себя чужую мысль, наполняюсь, заглатываю воздух, и он, внедряясь, распирает мою формовку и выталкивает – испражняет – т. е. праздное пространство для себя выгадывает
Накануне мысли
6. III.67. Зачем я сажусь – всего на час с четвертью, что у меня есть, пока придется ехать – за молоком ребеночку? И все же надел телогрейку – свою униформу, мундир мышления, расчистил стол и на него, пустой, положил белые листы, глянул в окно на простор, дверь на балкон открыл, вслушиваюсь в птиц, вот вдохну – и мысли нет, а все равно пишу. Ничего не поделаешь: обряд, молитва утренняя моя. Писать я сел сейчас, хоть и мысли нет, да и боюсь, что придет: развить все равно не успею, а либо скомкаю, либо, если разойдусь и придется прерывать, – это уже будет стон и зарезание живого; уж лучше тогда мысль неродившаяся – как незачатый ребенок: хоть тоже убит (ведь мог бы существовать!), но не саднит душу, как вот этот, уже у которого ручки и ножки задвигались-закрутились, завыкидывались, и он гулюкать свое начал..
Так сел я просто ради того, чтоб огонек поддержать – хворосту подкинуть: инерцию писания, которая уж заглохать начинает – за дни переключения на нянечную жизнь. Вот уж и две зацепки для возможной мысли: ведь ей лишь бы зацепиться (как и при прописке), а там и устроится, для нее лиха беда начало, а там – сама пойдет, и понесет ее. Зацепки такие: ребеночек загулюкавший… – но уж это не зацепочка, а без днища, и в страхе я – уф! кружится голова! – пока отойду, чтоб не смущать дух и не соблазняться на мысль в эту прорву. Нет уж, есть маленькая зацепочка, подомашнее, попривычнее: поймал я себя на том, что написал: «уж лучше уж тогда» – и пришлось мне одно «уж» зачеркнуть, и я не знал, какое, и даже захотелось обое (хорошая старославянская форма двойственного числа) оставить. (А впрочем, предвижу уж, что и от «ребеночка» мне никуда не уйти, так что и с «уж» начав, где-нибудь, на каком-нибудь повороте, – в «ребеночка» вольюсь: как в лесу бывают такие развилки дорог, которые, чуешь, впереди сойдутся, так что все равно, по какой начать идти. И даже приятно и дух захватывает – на кривую полагаться, что вывезет: как вот позавчера, идя на семинар с аспирантами, о национальной еде[71]71
Зимой 1966/67 года вел я с аспирантами Института мировой литературы домашний семинар о национальном понимании мира. – 16.12.89
[Закрыть] наметил говорить, и что ж? Положился на «кривую», и она вывела в вольную импровизацию всех: и умно было, и, главное, – живая непредвиденная мысль на глазах всех и умами всех зачиналась, рождалась, плутала, жила…). Так «уж». Что значит эта склонность – я знаю ее за собой – чуть ли не возле каждого слова ставить «уж»? Это слово-«паразит», но почему именно оно завелось (вошь, а не грибок)? – значит, среда для него во мне питательная. Слова-паразиты – в них вообще целые модусы мышления, настолько глубокие, что уже ушли с поверхности сознания в материнскую толщу безотчетного мышления и высказывания. Не выходит: не пойму, не поймаю мысли – нет напора…
Кошкачеловек перелицованный
Костя-кот облизывает себя – обмывает. Чистюля. Но чудно: всякую вшивую грязь, что извне на шерсть его садится, слизывает – ив самую нежную нутрь свою отправляет, словно пищевод – это его мусоропровод, канализационная труба. Человек, напротив, выплевывает всякую из себя гадость… Человек по-своему привык полагать, что вне его – не он, а лишь панцирь, покров, одежда, а он (я) начинается внутри – там его суть – то, чем люди суть, живы. Кошка же облизывает шерсть – оттачивает свои антенны, мироуловители: волосики, усики (усы – так вообще нервные антенны, и все выпячены во вне – чувствилища). Но се значит: вот у кого чувственное познание, из ощущений возникает, здесь примат эмпирии, и отсюда раздражение и мгновенность импульса, ибо у кошки мыслильня из нутра выворочена наружу: обнажена во вне, в шерсти. Нутро же – подсобно, грубо, туда отходы жизни: грязь всякую с шерсти сплавляет, как лесистая тайга – по реке. У человека же, напротив: лучше снаружи грязен будет, но внутри чист; лучше шкура задубеет от грязи, но внутрь ее не пустит. И даже просто обмываясь, ведь грязное отбрасывает во вне. Тело наше – словно первый эшелон обороны для непроницания грязи в нутро. Значит, кожей не воспринимать, но отталкивать воздействия человеку пристало (в отличие от кошки). Зато деликатность ткани нутра, ее полувещественность, «эфирность» говорит об утончении там вещества, его одухотворении. Значит, если кошке пристали чувственные реакции, раздражимость и эмпирическое мышление (недаром кошка – самое чувственное животное), то человеку пристала задержанность реакций на внешние раздражители, а вместо эмпирии (податливость на вне и извне) – априория: мышление из себя, изнутри, действие не как аффект и реакция, но как мысль и план
Итак, та сеть нервных волокон, что в шерсти у кошки выпячена наружу и через которую у нее идет главная чувствительная жизнь, – у человека вворочена внутрь. Зато те голые бесшерстные внутренние поверхности и стенки, что у кошки служат отходо-отводами ее бытия, – у человека выворочены наружу и живут в качестве бесшерстной голой кожи. Недаром у кошек язык странно шершав: это выдает как бы экзокожность ее внутренних стенок; подобно и наша кожа цыпками покрыта бывает. Итак, кошка и человек – перелицованные по отношению друг к другу существа. И недаром нашей коже так хочется кошечности (меховой одежды) как своей поверхности, нароста, дополнения и продолжения..
Многожизние облипает
7.3.67. Ух! Многой жизнью я, оказывается, ворочаю: вон вчера в гнезде с ребеночком и Светланой среди пеленок и игрищ провел божий, блаженный соительный и жизненный день. Но и сюда, как домой, – с радостью вечером вернулся: с утра чисто умозреть буду на покое среди своих родных. Здесь же – непорядок: Б. – тучей, и было отчаянье от бессилия с Димкой, от их покинутости. Извержение и истерика; поздно сидели – и радостно умиротворились. А утром велю ей одеться – выходить со мной в рощу на очищение. Послушалась. Спустились – в подъезде ящик с почтой: «Потом!» – говорю. Прошлись: «А вчера Мелетинский…» – «Гони образы Мелетинских из души: смотри на свет, нюхай ветер, слушай птиц». Замолкла. Идем. Храм се же божий – чудодейственного напоения силами. Б. повеселела: «Ав-ав!» – изображает собаку, что я на разминку вывел. Солнце, тени весенние, лучики в горлышках птичек – как попискиванье ангельских душ ребеночков. Ох, уж как расперло мою душу за эти два дня возле ребеночка: просто физически чувствую, как нутро мое расступилось, сморщенная душа расширилась и там, среди слежавшегося и застарелого, заматерелого и осатанелого старолюбья и давнезлобья, ручками и ножками и голоском и тельцем расталкивая и цепляясь, заворохалась новорожденная, парная любовь к ребеночку. (То есть он вошел в меня, как фалл во влагалище: в этом деле я теперь – женщина.) И так полчаса святились и светились мы. Согласилась, что так бы каждый день – и из нее не истерика на Димку излучалась и бессилие, а покой и стройность. И даже принцип жизни изрек: «Не желать себе улучшения (изменения) жизни (новой) иной, но хорошего самочувствия в этой (данной) жизни. А это всегда в нашей власти». Вот так становлюсь я мастером ars vivendi1 – иного выхода у меня нет, как таковым быть. И оттого мне остается только одно: жить радостно, быть счастливым, легким, не угнетенным ложью и правду счастья излучающим – счастья, которое просто, кругом нас – вот оно, бери. Так что ж: собирался заняться отвлеченным – Цветаевой – и перекрыть разгулявшуюся жизнь мою и обрести вновь строгую, самоосаживающую волю мысли. Но и жаль будет ее, жизни-то, вчерашнего шипения, что до сих пор в ноздри бьет. Потом же весь день был налит Эросом – разновиднейшим, так что каждый его миг прямо к делу и предмету моего рассуждения относится. Так что попробую его в слово перелить, дабы «в гранит оделася Нева» и жизнь без насилия мирно уступила бы на время место мысли – и так бы дружно они жили: прихлынув волной, жизнь бы разливалась и затопляла и ошеломляла голову и опаивала дух, а потом, утомленная и блаженная, стихала б, под эгидой мысли собиралась восвоясях и текла б положенную пору – в покое и светлости, оттянув и вознеся Эрос свой высоко в небо, воздух и свет – во все это через мысль и умозрение перелившись. (Одна не любящая меня знакомая со злобой назвала меня: «самый благополучный человек»: «деревья ему, видите ли, нашептали, чтоб не идти, и он не пошел в институт; а нам тут мучься!..» И я чую грех и побаиваюсь радости – возмездится? Но отчего радость моя, делимая с любимыми родными семьями, под чистым воздухом и от вольных умозрений, – менее Божье и праведное дело, чем общелюдское, темное, злобное и завистливое страданье?)
Итак, как приступала и накатывалась волна вчерашнего дня. Вначале было бодрое мирное утро у Б. с «малшиком»: моленье в роще, мирные тихие разговоры за столом, потом полтора чара умозрения – лишь бы огонек поддержать; будильник – без четверти одиннадцать, собрался; Берте: «Поехал за молоком и на службу к дитю, – мать ее уехала, вернусь часов в II». В метро читал В. В. Розанова «Люди лунного света». Сосед заинтересовался, что за книга, записал название – выпишет в Ленинке. Голубые глаза, круглое бледно-красное лицо; похоже, что чист и полом угнетен. Вот он, как пишет: даже когда и сколько раз с женщиной; подсказывает, как в будущем организовать, т. е. у нас теперь, по науке..
Вот – клюнуло. Невыговоренное слово Эроса носится в воздухе во всем, люди словно мотают головой и хвостом, как лошади от оводов, – и другому предаются: службам, газетам. А все равно у всех на уме ЭТО. И вот двое чужих – он и я – на выговоренном слове, пробившемся, как живая трава сквозь асфальт и бетон, – во братстве и по существу сошлись. Я говорю через идеи и Бога, он – через науку и советский быт: слова тяжело, непонимающе ворочаются; каждому трудно понять, что другой имеет в виду (вот: привык уж к этому разделению: «говорится» и «имеется в виду»), – и стеснительно вообще; как созаклятники и тайная секта на 10 минут сидения в метро из нас сформировалась; лживо все-таки вообще говорить об этом: жить должно, а не говариваться
Когда ехал в автобусе с донорским молоком, отбросил газету и стал снизу на дома краснопресненские двухэтажные взирать, потом никитские – побольше: вдруг взвидел их космомысленность: арочки, крыши, сосульки, надбровья карнизов, завитки и ресницы разные – вознесения людских идей и милых образов: дома снизу веерами вверх распушиваются и царственеют в висячей каменности. Так это все взвидел из окна автобуса на первом ряду. Вдруг в темную нутрь автобуса глянул; набилось черных и кишащих тел и одежд – и уступить бы надо, но отвернулся взглядом, как от токовой розетки, и в окно опять дозаглянул. Но уж пришлось себе доводы привести: а) я сам подрезан в ноге; б) в таком настроеньи, когда мне виденье даровано, не имею права из-за тупой безглазой гуманности красоту вспучивать: уж лучше буду гуманным, когда света божьего не вижу, – то ж чаще… Но не аргументами, а чувством безусловной правоты: от радости – успокоился и опять воззрился. К Арбату подъезжая, знал и ждал дом, где Гоголь умер, и щемень прознобила. Вышел во двор – памятник обойти. Корявую глыбу скамьи увидел, мантию округлую – и жутко пронзающий клюв, уже изнуренно повисший: наработал свое с рукой – усталыми когтями. Вообще как птица подбитая и нездешняя – гоголь. Хохол – не хохол: хохлом, видно, обернулся, для нам понятности. А внизу – пузатые, с зобами, воробышки, голуби, куры, индейки– вообще птичник под ним, наседкой – развел. Но все – тупые, земные, круглые, домашние, подкупольные и от неба его крылами загорожены; сам же на себя прямой космический луч принял и, пронзенный и обожженный Икар, поник
Медленно я обходил, сняв шапку и вверх жмурясь на светлое небо с вдвинутой и нахлобученной на него окаменевшей птицей. Очень все массивно-пузатые эти его примыслы земле: видно, как противовес и гири своей субтильности и неукорененности любил этих умильно пузатых ребеночков: как кургузые грибы и лопоухие самодвижущиеся пуза – все они дивны
Чудо и сладостность живой плоти он, эфемерный, мог ощущать – ив Сквозник-Дмухановских, и в Собакевичах. Невинны ее, плоти, сосательные и нюхательные зовы. Но – я уже грешу: уж первый час, а кормление в 12. Пошел. Идут с цветами – где? – вон! Подснежники – 35 копеек. Иду и впился… Захотелось отвлечься: зашел в соседнюю комнату – там круглая, сыро-земная Ира, с сухим маленьким глазом, умно-косым, и вертикально-угольная, огненно-воздушная, с озерной глубокостью, Наталья Александровна к Б. пришли. Посмотрю-ка я на ваш пейзаж. Вот сейчас пришпилю. Не надо, Гена, смотреть (Ира). Не люблю. Так я, может, и смотрю, а не вижу. А Б. где В школу пошла – велено встречать Д. Вот моду учителя завели!.Чего это у тебя сын плохо учится. Шарниры в нем, видно, еще не уравновесились. Броуново движение частиц – не собраны, каждая сама собой с внешним миром связуется: там объясняют, а его глаз птичка увлекла – и душа из тела вон. Вон у меня брата (Нат. Алекс.) на второй год оставили сами родители: а то не справлялся; теперь же вон он какой! Что кончил и сколько языков знает!.. Да и я никогда учебников не открывала, а кончила. У меня Машка до 6-го класса каракули писала, словно в ней несколько разных людей. А потом свой собрался почерк
Ну да, верно, каждое существо выпущено в мир со своим часовым механизмом (как мина на свой завод настроена) и имеет свой такт времени; и каждый в свое время соберется. А прилагают к ним стандартный такт, и мы еще, родители, тупые, детей зверски загоняем в такт своими ахами, не уважаем свое время ребенка. Ведь в человеке неизмеримо больше даров, чем эта школьная программа, и каждый по-своему, но извернется, как угорь, и с ней справится, – чего ж не справиться? Итак, человек на дороге жизни лет в 7 – на сломе от детства к цивилизации, имеет расшатанный состав, в нем ходуном атомчики ходят; а когда в особь сформируется, гибким змеем-фаллом железную дуру цивилизации обгребывает
О! Тьфу, Боже! Уж время моего утреннего сеанса истекает, а напору так и нет: дробь, мелочишка всякая. А такой улов мог бы быть. Шуршит второй (первый?) пласт моей жизни за стеной и не дает во вчерашний вслушаться. На кухне говоры женщин; вот веселый малшик-щебетун распахивает дверь и врывается: Пап, дай я тебе покажу, как вчера с Витей самолет собрали. Какой? Ну что с тобой не смогли собрать. Чуть попозже. Ну я на минуточку. И я вязну и еле вытаскиваю тяжелые, вялые тумбы ног, облипшие глыбами сейчас текущего существования. Раз ум в плену у ощущения – умозрению не подняться, не набрать высоту птичьего полета
И побираюсь, как нищий: крохами кто что подкинет пользуюсь, тогда как мог бы сам быть царем и дародаятелем (все словечки сегодня на безмысльи изобретаешь) О, многожизнье, б…! О, плоскомыслье! (Но тут же: тьфу-тьфу-тьфу! – добавляю, чтоб подействовало, – не накликать бы беды своим сетованьем на то, что слишком много жизни вокруг…)
Все! Не вышел заход к мысли прямо от жизни. Начнем завтра с другого конца – отвлеченностью возгоримся. А может, просто семенем вчера (соком мысли моей) во влажную жизнь изошел – и сейчас туп, вял и, как курица, хлопаю крыльями попусту и сухо скрежеща
Развеивать печаль
7.III.67. 12 ночи Ты что печален? Один день дома побыл – и уж такой. Не все суетиться. Можно и печальным побыть
Пошел отвлекающий разговор. А мне жаль стало спугивать печаль – такое глубокое и чистое состояние: в ней музыка – Бах так хорошо игрался и слышался. Чего всегда торопятся «развеять печаль»? В печали – как в глубоком колодце: днем звезды видно, – т. е. тютчевские, что днем, когда сокрытые как дымом Палящих солнечных лучей, Они, как божества, горят светлей В эфире чистом и незримом Завтра, чтоб развеять возможную печаль Б-ы: чтоб не чуяла какой-либо перемены и одиночества, – пойду на шумное сборище университетских[72]72
Ритуальная раз в год встреча близких состудентов некогдашних -17 XII 89
[Закрыть]. И опять слух забью, затолку – и негде будет чистому лучу печали и безвыходности протиснуться. А нахлынула она – от разговора по телефону – с тем, что было вчера таким живым и полным. А по трубке и проводу – словно на разных светах мы: и напряженные, и сухие. Здесь же мое родное разбитое корыто; и если у меня горечь, мне скажут: «Ты этого хотел, Жорж Данден», как и сейчас слышу: «Тебя никто не держит, и прав у меня никаких. Иди…» О, сор слов бумажных (у меня)..
ЗИМА И ВЕСНА
8. III.67. – Ну, я пошел работать. А что ж ты вчера говорил, чтоб сегодня мама ничего не делала, а мы с тобой будем всё: и убирать, и готовить? – Дима мне
Но мы говорили вчера об этом до того, как мы с тобой большую уборку маме сделали. Понимаешь, мысли пришли: спугну – улетят, и больше их никогда не будет. Надо мне каляки свои пописать. Б. машет, радуясь и улыбаясь: пусть идет (Пришел я к ним – проснулась поздоровевшая. Малшик ей к подарку открытку тайно пришивает, но она видит. Я ее спрашиваю: «Ну как, кого ненавидишь?» Это она позавчера в истерике: что он над ней издевается, что она его не выносит. Ну, мне надо было воскресенье дать). Ты уж, Дима, за меня помоги маме: там за хлебом сходить и еще что..
Когда вышел под деревья сегодня, шумно шелестели оставшиеся вцепившиеся корявые коричнево-морщинистые листья под уже весенним ветром: додержались-таки! Еще помню смотрел: удержались ли еще те, что вчера были? И когда осталась избранная рота, особенно о каждом болел – и так всю зиму: «Продержись!» – словно о себе это через них мольба… Тьфу! Это уже автоматизм выражения «ближнего, как себя»: «себя» – мерка будто всего. Да нет, не думал я о себе, а разверст и бескорыстен был: хотел, чтобы именно они – эти листья и души, что в них из прежних рождений сгустились, как мои друзья (опять отношение ко мне!), жить продолжали
И вспомнил: какой я был открытый – дух мой – осенью: о Тютчеве и философию природы писал. А тут уж сколько времени – под подол и в подполье секса забрался – ив темной, теплой его влажности прею: дышать чем и взвидеть – маловато. Но, надеюсь, – и это точно: весна идет и выкинет меня опять наружу на свет божий. Чем? Да своим вторгающимся разнообразием окрестного мира. Вон уже сколько разного – сравнительно с лапидарной и монументальной простотой и однообразностью зимы – слышу, чую, вижу: воздух многолик и многопластов от разных тембров птичьих; малый морозец, но влажный, промозглый – проницает насквозь; чудно это: зимой в сильный мороз в той же одежде чувствуешь себя крепко забронированным, а тут – беззащитным, проницаемым. Это опять – поры отверзты в нашем теле: трещины, щели – как полыньи на реке перед ледоходом, и весенний прибыток бытия напирает и начинает вкалывать свои иглы-лучи – предтечи дионисийского фалла; но, в отличие от зимних бодрящих иглоукалываний, эти – расслабляющие, тебя в женщину превращающие
Разноцветнее становится небо и звуки; в нас волненье, смуты желаний и надежд – и они выводят и вытряхивают нас из себя (проветривают затхлое – как матрацы), из закупоренности в своем помещении – вновь в открытый космос, и люди весной и летом каждый более слиян с космосом, чем друг с другом. Так что зима – рост социальности: люди, согнанные, изгнанные из природы, теснее друг к другу прижимаются. Но отсюда, зимой же – рост сексуальности (в отличие от Эроса, царство которого – весна): меньше разнообразия и выходов находит человек в природе – больше друг в друге: притираясь и приглядываясь человек к человеку. Вот почему действие психологически напряженной русской литературы XIX в. – в основном зимой (и осенью) – Пушкин, Достоевский и т. д. Тогда запертые друг против друга люди в зимнем заключении – энергию направляют друг на друга и едят друг друга поедом. Так и в купеческих домах при закрытых ставнях и спущенных собаках – Домострой. Так и в свете и полусвете и интеллигентском подполье Петербурга. Лет 7 назад в «Слове России»1 я написал, что преимущественные действия советской литературы 20-х годов – летом, а русской XIX в. – зимой[73]73
См моя книга Образ в русской художественной литературе – М Искусство, 1981 (написана в 1960-м). Нет страницы про это редактор вычеркнул – 17 12 89
[Закрыть]. Смеялись. Приводили примеры. Но теперь ясно, почему эта мысль основательна: революционная эпоха наружного действия, т. е. раздвигающе мир направленная, – в России соответственно имеет прообразом и спутником саморасширяющийся космос весны и лета, когда человек выходит из себя, и через слияние с внешним миром: лучом, деревом, ветром, запахом – надеждой, мечтой, планом – подцепляют и приносят из космоса в гнездо человечества еще клочок бытия, как птица-самец веточку в клюве несет
ПОДСНЕЖНИК
Вот и я позавчера, самец, во второе, молодое свое гнездо молочко нес и подснежники. Вошел: тихо, голубо и свято. Спит ребеночек. Она, крупно-белая, в голубой кофте, тетрадки проверяет. А я ее грудью только покормила – час уже как. Вот спит. На! – протягиваю рюмочку букета: перетянуты ниточкой зеленые листики в талии, а кверху – как маленькая грудь высокая: беленькие цветики ротиками (ребеночком думаю) выглядывают
Берет. Вертит в руках, листики ковыряет
Это что
Как что! Не знаешь
Нет
Подснежники
Это и есть подснежники
А ты что, никогда не видела
Нет
Вот что сделано с нашими женщинами! Какого-нибудь Превера знает, а подснежника не знает. Ну и что? Подумаешь, не знаю как называется. Да не в слове дело. Хотя и в слове: ведь цветы-то какими любовнейшими, музыкальнейшими словами из лучших звуковых сочетаний языка – составлены. Так что просто твердить имя цветика можно – как имя любимого. А наши женщины вне этой культуры – на чем росли? На какой жвачке. Ну вот узнала. Хоть теперь надеюсь с помощью Настеньки из тебя женщину сделать: воззвать к задремавшей, затюканной наукой и погребенной. Вот уж ругаться. Да ты понюхай, всоси. Свежестью пахнет. Как они растут
А вот там, где в лесу снег подтает и земля проглянет, под воротником-отворотом, – оттуда и эти беленькие головки подымаются: словно снег еще – снежинка, но уже на зеленом стебельке: не сверху, из холодного космоса павшая, а из земли поднявшаяся – как втора в музыке, которая всегда более низким – грудным, женско-материнским голосом ведется Первый голос – тема, просто идея-луч, а во вторе – зажизневший Но запах какой! Да и запаха нет, а просто словно предвесенний напоенный ветер в ноздри из них исходит, раздвигая их, раздувая – и расширяя мозг и грудь. Запаха, краски нет. Это еще не жизнь, но «хочу жить!» природы, желание жить, потенция жизни – Хорошо говоришь
Замолчали Из угла, где кроватка (слушаем), то писк совсем тонкий, то пук. Как флейта-пикколо и фагот. Ребеночек – ангельский оркестр: музыка сфер. Гулит: бум-бум – то струнные пробуют, настраиваются А когда надсадный, грозный и гневный, требовательный крик во плаче извергнет, – то как тарелки огненно-медно зазвенят на вершине музыки, и уж тогда пук – как литавры и тромбоны. Так хорошо сидеть и слушать спящего или глазеющего. Надо разговаривать с ним. Вон мама моя все время с ним разговаривает. Ну поговори. Не получается. Да на что я свои слова воззвучу? Дай ангельскую звучность подслушать– как сам собой ребеночек звучит. Да это же ангелочек. Не то что такие, как мы, загрязненные. И потом: когда не плачет, а гулит – значит, сам полон, недостачи в звуках не чует. Но надо развивать. Вот давай эти погремушки над ним прицепим. О, оставь! Эти жесткие механические звучанья – жуть, безжизнье. Но надо же контакт с внешним миром налаживать, глаза чтоб в фокус сходились на вещь. Тихо. У подоконника мы. Она нажимает на огненного резинового петушка – из него пронзительный писк. О, опять механический соловей. Молчим. Гляжу на петушка: рыжий, красно-огненный «золотой гребешок». Да он же, его тело и голос, – и есть сам огонь (недаром пожар – «пускать петуха»). И когда утром луч с неба готовится, его снизу возносит ликующее огненное горло твердо пронзает и дыру лучу пробивает. Петух – союз неба и земли в комке, сгусток надземного пространства. Недаром так его нечистая сила бежит, как волки – огня, головни. Звуки ребеночка уже слышатся мне как кудахтанье – верно ведь девочка. А Настенька уж знаешь, как выросла. Сколько ты думаешь сейчас у ней? 55,53 Больше, чем у девятимесячных через три месяца И вообще туз наш – распрекраснейший бутуз








