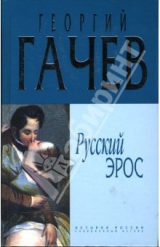
Текст книги "Русский Эрос "Роман" Мысли с Жизнью"
Автор книги: Георгий Гачев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Вода – мыслитель
Вот что рассказала нам земля, входящая в нас через рот. Что же расскажет теперь вода Рот нам дает меру: глоток – это дюйм нашего нутра – тоже мера. Сердце дает нам ритм и такт: в дыхании он выражается как вдох-выдох, в питье – как глотки, в пище – как проглатыванье: все по мере, по нашему «я» в нас входит: по Сеньке шапка. Рот может впустить в нас землю – твердое тело, но дальше оно не пройдет, пока не превратится в жижу, а куски – в капли. Это подтверждает шарообразное строение вещества человека: слоями располагаются в нем земля, вода, воздух, огонь: от поверхности – к нутри. Та последовательность слоев, что мы замечали в восхождении человека по вертикали: ноги – живот – легкие – сердце, – теперь обнаруживается при нисхождении в него внешнего мира; только рот приемлет в себя землю и мир как тело: дальше – no passaran. Земля обволакивается слюной, увлажняется, претерпевает крещение в купели – святой водой кропится и миром помазуется и, став струёй, на волне языка подносится прибоем к глотке – и вытекает изо рта внутрь (как в отверстиях живота, вода и семя, вытекая, влекли нас на соединение с миром). Но и в глотке отбор входящего: на влагу и воздух, и если глоток попадает в дыхательное горло, то бичами кашля непрошеный пришелец изгоняется. Недаром и в грудной клетке одно под другим находятся: грудная кость, пищевод, бронхи, сердце – земля, вода, воздух, огонь – эта последовательность свято блюдется. Однако при том, что внутри нас вода есть нечто более посвященное в наши таинства, чем земля, – вне нас, в наружном космосе пропорционально больше воды, нам присущей и имеющей доступ в нас, чем земли. От земли – лишь поверхность, и то из нее очень малое съедобно. А от воды – мы можем пить и воду, с неба – дождевую, и из рек (лишь из морей и болот– вод хаоса – не можем), и притом прямо в естественном своем виде может вода в нас входить: не вареная. Значит, воды в нас и воды в космосе больше сродства имеют, чем земля в нас (наше тело) и земля, материя, вещества вне нас. И форма воды вне нас– капля – вполне может войти в нас, тогда как формы и виды тел: их поверхности, грани острые, углы – должны быть убиты и форма превращена просто в суть – в материю: лишь ликвидируя особь вне нас, может наша особая телесность составляться. Вода же и так проходит – каплей и струёй: не претерпевает таких метаморфоз. Значит, она больше носитель идеи единства нашего с бытием, чем земля И значит, естественная жизнь воды в космосе прямее переливается в нашу внутреннюю жизнь, чем бытие земли. Грозы и их разряды тут же обновляют и воду внутри нас; купанье, омовенье, журчанье воды, вид реки, моря – все это больше говорит нашему внутреннему существу, чем формы и виды земли сами по себе (без выси, простора, который есть воздух, – и света): камни, горы, углубления, выступы, песок, большие, маленькие… – их действие на наше осязание вообще мало сообщительно нутру: лишь через посредство света проникает в душу
ПОЛИРИТМИЯ
Впускание в нас земли, воды, воздуха и огня – каждое имеет свою периодичность: едим два-три раза в день, пьем чаще; дышим – несколько раз в минуту; сердце бьется ежесекундно. Прожить без пищи мы можем десять-сорок дней, без воды – два-пять, без воздуха – две минуты, после остановки сердца – секунды, верно, еще мыслим. Таким образом в нас– полиритмия, контрапункт линий времени, тактов – от разных стихий («тел») отсчета. Так что не только у женщины полиритмия, расходящаяся с годовым циклом пространственного бытия земли – в силу девятимесячного цикла беременности, месячных истечении, но и вообще в человеке разные волны времени проходят (а следовательно, он потенциально звучит, как оркестр). И такты времени внутри нас соответствуют массе вещества в пространстве вне нас: в нас есть время и земляное, и водяное, и воздушное, и огненное – как испускания разных квантов. (Этому соответствуют тембры разных музыкальных инструментов.) В то же время (опять «время») – именно во времени вгнездилась для нас нужда, необходимость. Как бы мы знали, что мы зависим от земли – вот везде и под нами, если бы не подошло время нам есть? Как бы знали о нашей нужде в воде, если бы не подходила регулярно нам пора пить? Как бы знали о привязанности к воздуху, если б не подступал к горлу срок однова дыхнуть и перевести дух (как скорость)
Время бьется в нас – как fatum, судьба, необходимость (недаром они имеют не пространственный облик, но временной ритм, как срок-рок)[44]44
«Рок»-«год» по-польски и украински И – Рок– Судьба – 20 XI 89
[Закрыть]
И через живопись Судьбу выразить нельзя – лишь аллегорией, а музыке это пристало: Бетховен, Чайковский: «судьба стучится в дверь», fatum…Недаром музыка, а не живопись сопровождает смерть; но статуя и храм – вечность, памятник. И полиритмия нашего организма – се многоглагольная нужда наша. Потому так боимся закрыть рот (или что нам его заткнут) – словно прервать соитие с миром (coitus interruptus), ибо оно все через рот проходит, – и постоянно вращаем языком, губами шевелим или руку подносим – ежесекундно так или иначе опробуем его, чтоб удостовериться: жив ли курилка
Огненный змей
28. XII.66. Так что же, предал я вчерашним днем или не предал свое знамя – дело умозрения? Вчера проснулся в ночь – часов в 5 – на стоячем фалле и так, нанизанный на него, прокорежился и произвивался все утро, пока, наконец, не взвился, отшвырнул все свои гимнастики, рощи, молитвы, наглотался еды – и сорвался лететь в центр Москвы, чтоб вломиться в теплую еще постель к белотелой русской теперешней[45]45
Несмотря что мы оформили брак с молодой женой и у нас родилась дочь, я, мерзавец, снимал им комнату, а сам продолжал обитать в первой семье, ибо там мне привычно все было и удобно умозреть – 22 XI 89
[Закрыть]. Смешно было ехать в толкучке утренних часов «пик» – и куда?! Люди – на работу и служить спешат, а я – в п…у. Влетел – тепла, соплива, молоко сцеживает[46]46
Жена беременная, покинутая, с испугу подалась в роддом, где ее травмировали осмотрами, так что дитя родилось раньше своего времени и младенца взяли в особый институт – 15 XI 89
[Закрыть]. Запах в ноздри, вид в лицо – безумею и зверею: срываю свои стены-одежды-крылья и набрасываюсь раздирать и лакать
Потом, когда, откинувшись, с каждым выдохом отрыкивался, – было мне видение, да нет: точное самоощущение сего события как вихря, что как смерч налетел на мое существо; меня сначала скрутил, потом погнал и на нее набросил и скрутил; потом все кромешным маревом огней заходило и выбросило на берег – и вот лежу, отхрипываюсь, и это во мне еще буря погромыхивает, уходя, – зарницы по мне прокатываются. Чую себя тем огненным змеем, что вдруг налетал на ночи и ранние зимние утра разомлевших русских красавиц. Но это не образ, а так оно и было: мы оборотни и являемся себе и другим то под одним, то под другим видом – т. е. той или иной идеей. Сейчас – идеей вихря, смерча и змея. И в космосе открытом (в пространстве) эта идея является – нашим очам или видениям. И в космосе внутреннем – в человеке – эта идея прокатывается: как самоощущение (что со мной происходит) и как мысль. И образ смерча и змея, что я вычитываю и узнаю в сказках, – не более действителен, чем мое вчерашнее самочувствие себя змеем и смерчем. Ну да, он вырвал меня с корнем – у корня дня моего: сорвал все планы и ритмы и, застив глаза семенем, залил лицо, ноздри, рот, уши, так что никакая мысль и умозрение не могли туда, в слово прорваться – сквозь эту магму, которой извергся вверх возмущенный и подавляемый во мне так долго телесный Эрос: до каких пор возможно так издеваться?! Его же кровью и силой питаться, о нем же писать – ив тайне для чего? Чтобы преодолеть его, сублимировать в Эрос умозрения– отдалить его на расстояние от себя – и сделать предметом лишь размышления – и тем освободиться от его тревожной и разносящей все и вся нужды! Нет, не выйдет – и он хлынул наверх: «свистать всех наверх!» И вся свита Венеры: желания, шепоты, сладкие слова, видения, запахи – стала в то утро меня донимать – и до веселого безумия меня довела
Когда же потом, весь изошедши и истекши, я отмаривался, – я вновь привыкал к осям пространства, формам вещей: к окну, квадратному, вверх уходящему, дереву за окном, к занавеси и столу и к ней, ходящей тихо туда и сюда по комнате. Мир умер – и вот вновь, умытый, родился после грозы, и я детски в него вникаю, вспоминаю то, что знал (как, по Платону, мы, родившись, через познание вспоминаем то, что наши души знали до рождения – в мире чистых идей)
Агасфер И Антей
И какое мне дело, – думал теперь возвышенно и великодушно, – до той маленькой игры, которую ей, как человеку вовлеченному, приходится вокруг меня вести? – пусть ее! («личность», родное «я» вполне имею в своей Пенелопе; а в этой «я» может быть каким угодно – мне теперь как раз забвение всяких личностей нужно, потребно родовое, нужна Гея, самьё!) – важно, что могу к ней прикаяться, разразиться на землю, а не шнырять по небу неприкаянной агасферной тучей, что не может найти приюта. Да! Кстати, понял эротическую подоснову образа Агасфера[47]47
Хороша игра– «агасферной» – «атмосферной»
[Закрыть] он не может умереть, то есть кончить свое соитие, узнать высшую точку – и излиться: обречен на предбанник Эроса, как и Маяковский
Мы с сердцем ни разу до мая не дожили,
А в прожитой жизни лишь сотый апрель есть
Но это же томление кануна – всегда напряженно и изматывающе и в русском духе, особенно в муже; но все же – хоть один раз, и именно один раз (значит – катастрофой и смертью, а не наслаждением) это – свершается. Хотя Агасфер вечно один и кажется воплощением человека как особи и индивидуума, на самом деле он ищет смерти (ночи, женщины, матери), нуждается в ней, значит: частичек, полов. Мука в нем: что он, будучи частичным индивидом, нуждающимся в дополнении своей половиной, – обречен выносить жизнь целостного Человека, независимой особи. Агасфер – это как если бы второй Адам, согрешивший и половой, вынужден был бы играть роль первого Адама
И в связи с этим понимаю и еще одно самочувствие, которое мне было, пока я отмаривался и отдувался. Я чувствовал себя солдатом, служивым, что на побывку к матери прибыл, или матросом, что на берег сошел, а завтра опять в долгий рейс. В более героизированном варианте: чуял себя воином, ведшим долгую битву в облаках и эмпиреях духа, который, уже полузадушенный, свалился, как Антей на Землю, – силы набрать. Но как Антей силу набирает? В воздухе – в чистом духе ему смерть – без корней. Когда же к Земле прикоснется – сразу взвивается. Да это же пламя вспыхивает, это огонь так: низвергнутый, отдаленный – возвращается; а в середине, в нейтральной, бесполярной зоне – иссякает и мрет. А отчего таинство огня, возносящегося к небу, совершается? А очевидно, оттого, что соки матери-земли, как брызги груди, – тоже вверх к небу направлены (и огонь их подхватывает и возносит на своем, присущем ему языке): ведь они супруги – земля и небо
Отец, сын и муж земли
Представим, если бы земля свои силы, соки и воды – все внутрь сгущала бы и стягивала: она бы создала внутри такое тяжелое вещество, которое в конце концов угнело б самое землю – и голову бы ее, и все выпуклости – груди, и долины сверху, с поверхности бы снивелировало – и всю землю превратило бы в сплошную воронку – вниз, в себя уходящую. Нет, Земля – и роженица, а не эгоцентристка лишь: в ней, в ее рельефе (горы и провалы морей) непрерывная тяга к мужу, небу – экстравертность; но и интравертность-преданность к ее прародителю, отцу, что в ее утробе ее зовет. Время от времени Земля освобождается от отца, изрыгая его из утробы в виде сына – сыновей разных: то весна обновляет поверхность (и изнутри силы вверх – в небо уходят), то горообразование какое-нибудь Так что у Земли тоже свой комплекс: в ее нутри – ее родитель. И там же, в утробе, сын зреет. Сына рожает – и создает твердь неба (по Гесиоду: Гея родила Небо Уран – и сделала своим мужем). Итак, Земля между отцом, сыном и мужем – и они для нее одно и то же, ибо все в ней, и все из нее. (Кроме того, Гея и Уран становятся сестрой и братом – ибо единоутробны по отношению к прародителю Хаосу.) Вот почему женщина в любви к мужчине ощущает себя не только женой, но и матерью или дочкой: то она утешает взрослого ребенка, то сама свертывается в кошечку, детку. То же и мужчина: многородильно, полифонично его чувство к женщине
Именно состав и консистенция Земли заставляет нас представлять такими ее отношения: в ней нутро не абсолютно плотно, но есть там и тяжелое вещество, средоточие (откуда центр и сила тяготения); и полости, бездны, провалы, пустоты – Тартар; мглы и мрак – Эреб; и воды – Океан мировой с ее границ и сквозь нее проникает; и огненные – летучие реки по ее нутру струятся. То есть рельеф ее, состав ее внутри и консистенция – те же, что и в корпусе человека. Ненасытная прорва – Тартар – нашего живота, что как бочка данаид, наполнившись, вновь опустошается; Сизифов труд сердца, что вкатывает с усилием вверх реки крови, а они бурно вновь вниз стекают (опять снова здорово кати камень вверх). Харон= наш язык: перевозчик существ и кусков и тел из внешнего мира вовнутрь – через слюни Стикса. Наша утроба, наше нутро и есть Аид, а наши внутренние органы и суть те мифические грешники, что обречены вечно (для них – пока жива утроба) выполнять свою бессмысленную (для них) работу, ибо не видят, не знают ее проявлений и результатов на верхних этажах, где ум, свет, слово, дела, добродетель. Бесы – все скептики и пессимисты, когда судят выше сапога: о смысле всего бытия. Наша утроба – наша кочегарка. Но Земля знает в себе и утробу, знает и небо над собою, к тому и другому причастна. Так что она ведает и тоску и геенну огненную – и радость и просветление. Ее мысль всеобъемлюща. Антей может приникать к лону Земли, чтобы упокоиться, уснуть вечным сном – тогда он втягивается через воронку вниз, внутрь Земли, к их общему прародителю, по венам. Но Антей попадает не на вену, а на артерию – и на этом фонтане жизненных соков, бьющем вверх, он выносится опять в небо. Если бы огонь попадал на поток нефти, всасывающийся внутрь, – и он бы потух, и нутра бы земли не зажег. Но раз он горит и взвивается вверх, значит, он попал на струю, бьющую из земли вверх
Женщина – волна
Но я изменил рту – снова растекся мыслию по древу, по всему телу бытия и Земли; но это оттого, что Эрос растекся по древу моего тела, по моему трупу («труп» по-болгарски, – полено, бревно)
Остановился я на соотношении рот и вода Кстати, вчера, быв на ней, а потом видев женщин на выставке Пикассо, ощутил, что женщина не только вся волниста (3 волны по ней проходят), но и капельна груди – капли, шары – и вдруг доиться стали сочится капель молочная Все существо, все вещество к единому знаменателю (т. е. значению) приводится к семени в нас, к молоку в женщине И вот на выходе из человека – его суть, его свод то одно и единое что сотворяется из множества земель, вод и прочих видов, которые в нас входят, – капля семени все их содержит в себе будущие и прошлые, так что даже дырочка в ухе матери в ухо к дочери переходит Но отчего я, даже когда в исступлении, не мог много сосать ее молоко, а сразу тянуло ее кусать – сосок и грудь? Отчего и она (раз я не мог в ее недавно разродившееся лоно изливаться, она приняла мое семя верхним влагалищем) тут же зажалась, глотать не могла Видно, здесь противоестественное бы совершалось молоко ее, которое есть ее выход, исход, а не вход, предназначено младенцу, будущему, – ему и вкусно, я же смотрел на сдоенное в бутылочку молоко, что она должна относить, – с чувством озноба, мистического ужаса, которое через отвращение оберегало свое табу для меня ведь если бы я к нему присосался, я б нарушил ритм космоса – и замкнул бы на себя бесконечность рода людского (себя, отца, сделал бы и своим сыном, сосунком), и превратил бы ее линию, сквозь меня проходящую, в шар, и мы бы в нашем звене рода людского явили бы старицу– оскопленную семью, а семья есть каждый раз вр. и. о. рода людского, носитель семени (семья – семя) То же и она если бы приняла верхним влагалищем, которое есть узел особи, «я», личности этого человека, завет человечества, духа, – то, что предназначено во влагалище нижнее, что есть залог и завет рода людского в этом человеке, – тоже бы совершила нечестие – превратный ход Космоса и Хроноса земля как бы оскопила свое чадо – родителя (приказ Геи Крону в отношении Урана) и то, что она должна принимать на своем входе для вынашиванья и исхода, замкнула бы на себя, и супруги грех Онана бы совокупно сотворили Земля бы отвратила от себя свое плодородие Так назревают различия при том, что рот (и его полости в голове) аналогичен животу в теле, однако они не взаимно заменимы Рту дано другое плодородие доверено испускание духа, единого слова – при том, что впускаются все стихии Нижним же отверстиям дано лишь избранное, единое впускание семенифалла женщиной, тогда как выпускание множественно и земля (кал), и вода (моча), и воздух (газы), и лишь огонь, что по своей природе возносится вверх, через низ органически не может выходить Когда женщина рожает, в ней – как качели одновременно выпрастывается низ и набухает верх – грудь, выходит земля и накопляется вода (притом расположены так, что уровень входавыхода земли ниже уровня истечения вод) Вода-жизнь в ней взбивает фонтаном вверх, как и при излитии семени из мужчины То есть вода в человеке обретает несвойственное ей направление вверх (у четвероногого это вниз – возврат земле) и подчиняется направлению огня значит, в человеке и вода-жизнь языком пламени организована – фонтаном взмывает вверх (тогда как кровообращение у животного распростерто на плоскости, как естественно располагаться воде, – и причастно, скорее, параллелепипеду, чем столпу и пирамиде) Вот почему недаром сказано, что именно огонь, его дар и к нему причастность, отличает человека от животного, и это не только во вне человека сказывается в очаге жилища, горнах промышленности и пламени мысли – но огненность прирождена нам в расположении нашего нутра и течений рек жизни в нем, которые – огненны, взмывают, бьют ключом, а не просто равномерно по кругу (или, точнее эллипсу)[48]48
И эклиптику – Зодиаком – 21 XI 89
[Закрыть] вращаются, как у животного, кровообращение в котором более сродни орбитам спутников планет (животные так и обегают землю по поверхности)1, тогда как человек сродни взмывающей ракете, саморасширяющейся галактике, протуберанцу
Часть третья ЭРОС И ЛОГОС
Любовь словом
2.1.1967. Видно, мне иного излеченья нет, как играться с чертами и резами – бумаготерапию принимать: мусолить ее. Вчера о спицетерапии прочел – вяжут и успокаиваются: оттоки токов происходят в ритме мерном спицевращения. И к тому ж – глядь! – а что-то полезное или замысловатое выйдет. Но так и на бумаге случается – еловики вывожу ручечкой, вязь плету какую-нибудь – и укрощаюсь и вот чуть не язык высуну, как Акакий Акакиевич, который весь пыхтел, когда к сладчайшим своим буквам приближался: он так выводил их округлости, завитки, как иной женщину обхаживает словом, взглядом или тело гладит – рукой по линиям проводит. Точно – в этом было сладострастье Акакия Акакиевича – женские фигурки в буквах выписывать, как сладострастье Гоголя – совокупляясь с бумагой, что-то позамысловатее ей бросить, выкинуть, отковырнуть: на бумаге он словами и образами просто отплясывал: «Эк вона – и просто-о-ору что! Это тебе не город, Питербурх – а Русь!»: белизна бумаги, как чистота божьего света, «ровнем-гладнем разметнулась на полсвета». Вот откуда графоманство российское: распоясываясь на белизне и ровнегладне бумаги, житель русский всю ее, матушку, обнимает, гладит – с нею сношается, помечтовывает, как бы эдак исхитриться, чтобы «объять необъятное» тело – той женщины, что, по чувству еще Ломоносова, разлеглась, плечми Великой Китайской стены касаясь, а пятки – Каспийские степи. На белизне бумаги всю ее, родимую Русь, по стебельку – по буквочке, по словечку – по лесочку перебрать и перещупать можно, а больше никак, ни-ни! – не подступишься[49]49
Так обозначал буквы болгарский первокнижник Черноризец Храбр
[Закрыть]. И пословица: «Гладко писано в бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить» как раз и идеальную любовь выражает: в матовой белизне бумаги Русь такая ласковая, откормленная, гладкая, белотелая, податливая и романтическую горечь от столкновения с грубой девкой действительности. Графоманство в России – не только личное
16.1.86 упражнение неприкаянных одиночек, но и хоровая любовь государственного аппарата к России на нивах и холмах писанины разворачивается: отчеты, запросы, реляции, установки. Когда Алексей Александрович (а кстати, недаром созвучие: А-А: Акакий Акакиевич – Алексей Александрович) Каренин, отринутый в любви и утвердившийся в своем величии государственного человека, мысленно сочиняет докладную записку об инородцах, упущенных противным министерством, он же испытывает подлинное сладострастье от ловкого орудованья с номерами параграфов и статей: крючкотворец – тоже ой как не прост! Это – гладилин, гладиатор: бессильный уже старец или ребячливый муж воображает тело женщины «в завиточках-волосках» (Маяковский) и новые ей крючочки застегивает и расстегивает – вот эротическая подоплека крючкотворства: искусство затруднять соитие человека с делом, дела с истиной и смыслом. Посредник здесь – как сводник или сваха – сидит в канцелярии, а ко всему прикоснуться хочет через щупальца анкет, справок и необходимых заявлений. И то, что ничто без бумажек совершиться не может, – это право первой ночи феодального сеньора: аппарат блюдет его в превращенной форме словесных-письменных касаний, обнажении таинства, нарушения целомудренной немоты, и все-то должно быть названо «своими именами», а не окольными, обиняками, как имя бога в табу. Бумага, писанина – это бесстыжие зенки, что аппарат на Русь уставил, и та время от времени плюет в них языками пожаров: одна из главных народных радостей в восстаниях – это жечь архивы и списки. Однако освобождаться от бумаг и крючкотворства России нужно лишь время от времени – чтоб однова дыхнуть, дух перевести, разгуляться: хоть ночь, а моя! – а там хоть трава не расти.
Но это безразличие к тому, что не «в минуты роковые», а в буднях она подлежит и отдается волокитству и обхаживаньям бумажных ее любовников, – бесчувственность кажущаяся. Щелкоперство приятно и лестно Руси: ровень-гладень бумаги адекватен ровню-гладню ее бесконечного простора. Это в буднях – ей как дополнительная кожа, нарост в мороз: приятно зудит, почесывает во сне, разогревает, словно УВЧ Русь под аппаратом принимает – а там потихоньку ее разберет: разогреет, раззадорит, раскалит, доведет до белого каления, и тогда она, разгоряченная, скинет с себя этот покров и голая побежит париться в баньку, а потом в снег: отдаваться, «бросать по любви» станет Русь не со старичишками – слуховыми аппаратчиками, а со Стенькой Разиным, с вольницей, с силой молодецкою. Государство в любви России играет роль Предтечи, наводчика: оно – сват, но жених, но вор – другой. Так и творится Эрос русской истории: возлегает Русь с двуипостасным супругом – аппаратом и народом – и так лишь полноту соития испытать может: когда страстную ярость к аппарату обрушит страстной горячностью к непутевому, беспутному своему сорвиголове; иначе, без ненависти то есть, любовь ее просто тепла, но недостаточно еще горяча, чтоб стало возможно белое каление страстного слияния, которое в русской женщине всегда однократно и – катастрофа
Итак, въедливость – это в слове сексуальное свойство. Чуем мы, что Гоголь – насквозь эросный писатель, но уловить никак не можем: и близко не подходит, просто бежит от любви и любовных сцен. Но вот по въедливости его слова, стиля, всего почерка, обнаруживаем сладострастье всех его касаний, до чего б ни дотронулся. И недаром чиновничество, канцелярии, всякого рода советники – эти сладострастненькие клещи-щелкоперышки, – их ловкость и, даже без пользы себе, чисто эстетическое озорство в ограблении России, – все это так влечет малороссиянина Гоголя, словно исподтишка подсматривает и тем соучаствует в эротических действах – хоровых облапошеньях чиновниками России. И хоть рассудочные западноевропейские умы, читая «Ревизора» и «Мертвые души» Гоголя, ужасаются и мрачнеют: боже, как страшна Россия! – из них прет какое-то непостижимое веселие и сладострастье духа: Гоголем буквально упиваешься, смакуешь, читаешь взасос – будто веселые похождения плутов-озорников: экие, право, того… как ловко и вкусно делишки обделывают! Чиновнички Гоголя – это умилительные детки, карапузы-проказники, что наивно и бесстыдно сосут матушку-Русь – а ей и сладко! У одного вдруг отвалился нос-фалл, у другого, напротив, «Кувшинное рыло» – т. е. женский орган на лице проступил. Русь полуспит – как Татьяна, а во сне над ней шабаш чудищ разыгрывается. «Вот рак верхом на пауке, / Вот череп на гусиной шее / Вертится в красном колпаке» – все это гоголевская чертовщина, что в «Вечерах» и «Миргороде» откровенна: ведьмы, Вий, чудища в ночь у гроба, красная свитка, а в «реалистических повестях» – уже одеты в мундиры, но все равно они же! Эти сладостные уродцы – извращенцы, – так же, как в детских сказках Чуковского «Крокодил» и «Ехали комарики на воздушном шарике / А за ними кот, задом наперед». Все чудища Чуковского, как и персонажи Гоголя, выражают стихию детского Эроса: Вий – Мойдодыр, Собакевич – Бармалей, Чичиков – ловкий Айболит… У них у всех: веки открываются (Вий), пасть, зубы-дыры (Мой до дыр! – может быть призывом женщины, которая в старости хочет, чтобы ее пронзили насквозь и живого места на ней не оставили). Либо чудовищное заглатывание: Собакевич, прожорливые взяточники, хапуги; или Бармалей и Крокодил – это все сфера страха; а положительный Эрос связан с животом и ласковым заглатыванием и касаньем тела: Айболит – пухленький, как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, вместе взятые
.. Ну вот: поплел свою вязь бесполезную – и вроде делом был занят и весело было – и нервы в норме: безобидно и беззлобно время протекло. А ведь удумал отдыхать: мол, я уж несколько месяцев напряженно мыслю (сначала – Тютчев, теперь – Эрос) и чтобы не портить предприятие, не дискредитировать мысль, – пора на физические труды или иные тела гоняния оттянуться. Конечно, сделаем Но пока муторь новогодняя утомительная – извела И вот исцеленье нахожу – к бумаге приникнув – как на воды отправился И даже не надо: для самой мысли вредно себя всегда миссионерством и визионерством только считать (вдруг бы натягиваться и напыщиваться – а значит срываться и фальшивить стала, если б обязательство взяла всегда быть лишь откровением) – а так бы я на нее и себя мыслящего взирал, если б запретил, например, себе сегодняшнему, испитому, извяленному, – к бумаге касаться Да, не могу сегодня прозрения дать – не вижу – ну и пускай: что я, нанялся писать для дяди, для кого-то? «Я песню для себя пою»; а сегодня мне надо маленькое словечко, тихое пощекатывание, поежиться зябко – отойти. Ну и где же, как мне это сделать? Вот – слово под рукой, и пусть сделает мне целебный массаж; и даже ему, слову, веселое ревнованье: на слабо исхитриться – ну что ж: оно на все руки мастер? – так пусть сегодня интимно-оздоровительный жанр помышления явит. А впрочем, и здесь, от зябкого помышленья зайдя, тоже что-то усмотрели и уведали: тихое сладострастье писанины. Вот и Стефан Цвейг подобное заметил в Эразме Роттердамском: «Он любит книги не только ради их содержания. Один из первых библиофилов, он боготворит их чисто плотски, их бытие и их возникновение, их великолепные, удобные и в то же время эстетичные формы. У Альдуса в Венеции или у Фробена в Базеле стоять среди наборщиков под низкими сводами типографии, вытаскивать из-под пресса еще влажные печатные листы, набирать вместе с мастерами этого искусства виньетки и изящные заглавные буквы, подобно зоркому охотнику, гоняться с ловким острым пером за опечатками или отшлифовывать на сырых листах латинскую фразу, чтобы она стала чище, выразительнее, – для него сладчайшие мгновения бытия, трудиться среди книг, ради книг – естественнейшая форма существования»[50]50
Подчеркнутые слова создают атмосферу эротического акта свод, пресс, влага лона, образ охотника, что гоняется с острым пером и т. д. (Цит по «Наука
и жизнь» – 1966 – № 8 – С 138)
[Закрыть]
Великолепный Эразм Роттердамский испытывает от возникновения слова и охорашивания буквы то же сладострастье, что и наш милый Акакий Акакиевич – каллиграф: «Там, в этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами (все это сплошь слова для передачи разных фаз эротического действа: восхищенное состояние в присутствии любимого существа, признание, домоганье. – Г. Г.), так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его». Прямо как у Пушкина: «а любовников счастливых узнаю по их глазам» – в них отпечатлевается образ любимого существа. Это буквальное сладострастье – как водка – полный и засасывающий заменитель сладострастья реального, так что и Эразм, и Акакий Акакиевич, и Гоголь нашли способ обходиться в жизни без женщины, не вступая в связь и зависимость от нее. Эразм испытывает плотскую радость от рождения слова среди влаги и сырости типографий – также и Акакий Акакиевич выписывает букву как писаную красавицу, охорашивает ее, словно участвует в утреннем туалете красавицы – и, при острой детской чувствительности, уже самими ароматами сыт и пьян: от прикосновений он бы просто умер – как и случилось с прямым объятием и отнятием шинели (шинель, по Фрейду, – предмет из круга мужских символов: видимо, объятье, как туча, покров – как Зевс на Данаю…). Недаром, как только святой Акакий Акакиевич допустил себя оскоромиться – сорвал яблочко: шинель новую приобрел и узнал сладострастье ее объятий, – тут же с ним и игривые мысли стали случаться: уже дальнейшего захотелось – на витрине на женщину заглядываться стал, потом выпил и нектару: любовный напиток «Шампанское» – и, возвращаясь, «шел в веселом расположении духа, даже побежал было вдруг, неизвестно почему (как с детьми случается. – Г. Г.), за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения». Странный образ женщины у Гоголя – они все стремительны, проносятся (и в «Невском проспекте», и панночка в «Тарасе Бульбе», и в «Мертвых душах»), не дают остановиться и успокоиться взору, духу, телу. Напротив, мужчины у него скорее неуклюжи, байбаки, тюфяки. Подвижность, молния, острота – это вообще-то атрибуты мужского начала: гоголевский же герой эту активность ощущает за женщиной и панически ее бежит, как красная девица. Точно пушкинский Белкин, что «к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая». Недаром и Белкин, и Башмачкин (и фамилии созвучны) – из серии «маленьких людей». Они и в Эросе – люди маленькие, т. е. мальчики, дети, у которых еще не произошло расчленения синкретического Эроса на половины – полы, сексы – секторы, и не выражено еще пристрастие к какой-либо определенной половине: или мужской, или женской. У героя Гоголя как раз Эрос видится как чуждая сфера, нерасчлененное марево








