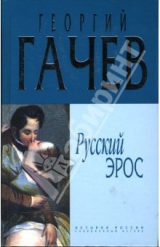
Текст книги "Русский Эрос "Роман" Мысли с Жизнью"
Автор книги: Георгий Гачев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Национальные казни
25. XII.66. Проснувшись ночью после польской водки у пана Пилевского в Сочельник – Рождества Христова, куда меня Бог послал вчера к вакантному прибору на столе, так что мой приход им подарил четное число – 6, значит, радость на весь год (подумайте! Ищешь, куда бы податься и где б выпить, и вдруг так, ни за что ни про что посланцем Провидения оказываешься: и хоть ты плохой человек, можешь людям великое добро сделать)… (Оставляю оборванным деепричастный оборот: как зрелище рождения и разгона на мысль. – 19.XI.89.)
…Но с непривычки пить, ночью проснулся, и, блуждая в уме, напал на позавчерашнее умозрение минета и mot – и стал в гордости самовосхищаться: как я до такого дошел – и стал толкаться в этой точке, в этом проране мысли, и вдруг узрел, что сюда же относится гильотина: французская казнь – откусыванье: человек – фалл-язык просовывается в рот, упадает зуб (верхняя челюсть) – и кончик языка (голова) прикусывается. Гильотина – женщина-гомункулюс: созданное обществом социальное, государственное влагалище – для торжественного всенародного вкушения на Гревской площади!. Сходна с этим испанская гаррота (тоже романский дух) – смертельный ошейник, мертвой хваткой самостягивающееся влагалище, Кармен: кого полюбит, того уж не отпустит и смерть принесет:
Не любишь ты – так я люблю,
И берегись любви моей
Казнь есть оргазм в эротическом соитии человека-фалла,[39]39
Невидимо сексуальный князь Мышкин постоянно переживает казнь гильотиной, которой он был очевидцем; в воспоминании этом он испытывает coitus, как и куря папиросы
[Закрыть] прорастающего за жизнь сквозь бытие. Это coitus interruptus (прерванное соитие), что, по Фрейду, – основа всех страхов. Но это в то же время ускоренное, напряженнейшее соитие: ибо за миг все сладострастие жизни должно быть пережито (как это у Достоевского князь Мышкин – о вечности минут везомого на казнь). Потому страх – сладострастное чувство, и ребенок, и взрослый в воображении многократно переживают свою смерть – именно напряженную, насильственную: как высшее проявление и цветение «я», а не отмирание
В казни человек – особенно возлюбленный бытием фалл, и бытие нетерпеливо, возгорается сладострастием к человеку этому, не может ждать и приковывает к себе. Он избранный и призванный. Но само это воспламенение космоса, нарушение его ритма, вспышка и разряд молнии – есть непорядок, ЧП, северное сияние, протуберанец – особое стечение и возмущение звезд. Здесь очевидна становится бисексуальность бытия. При естественном прорастании человека-фалла сквозь бытие оно играло роль влагалища, женщины, матери – лона покойного и приемлющего. Но в coitus interruptus, в казни, – бытие вдруг остервенело набрасывается на человека и, превратившись из влаговоздушной женщины в огненно страстного мужчину, активничает и вонзается в человека (большинство видов казней – то или иное преткновение). Так что мужественно идущий на смерть: на казнь, на бой с врагом, – готовый встретить ее как подобает мужу, на самом деле играет в этот миг в соитии с бытием роль женскую. Казни – столь же разновидны, сколь и природы людей, и национальные космосы. И всегда – точное слово о том, как понимается в данном космосе (обществе) человек и что он есть, в чем его суть, так что если ее уязвить, отнять, – человека не станет. Казнь есть мысль: что есть человек, – определенное человекопонимание
Русская казнь – топор: человек отождествляется с деревом; так еще одно подтверждение интимной связи русского человека с растением (а не животным) находим. И Раскольников, который на что уж мыслил западными примерами: Наполеон я или тварь дрожащая?.. – инстинктивно потянулся к топору: ничего иного придумать не мог. То же и крестьяне во «Власти тьмы» Толстого… Недаром! и Чернышевский идею социальной перемены! Заметил о себе. что слова: «недаром», «неслучайно» – основные скрепы, связи в ходе движения мысли. Точнее: они не дают никакого движения, а просто рядом нанизывают гирлянду ассоциаций, тем утяжеляя тезис и придавая ему видимость доказательности. Однако связанные через «недаром» и «неслучайно» положения, хотя доказательства не дают, но силу убеждения имеют, – ив итоге мысль получается убедительна не менее, чем от доказательств и выведения. Оба якобы доказующие слова эти начинаются с «не» – с отрицательного хода. Но так как они попирают сами по себе отрицательные идеи: «даром» и «случайно» – то слово, выросшее на двух отрицаниях, начинает держаться как на китах и обретает твердость убеждения. И это – характерный для русской логики ход: с отрицания… выговаривает так: «К топору зовите Русь»; А революция – пожар (в тайге)
Древнегреческая казнь – яд, чаша цикуты Сократу. Убивается человек через воду, через замутнение источника: значит вода в нем и есть жизнь1. При том и здесь сферичность2 греческого миросозерцания сказалась: смерть посылается в центр человека – в живот: в его ядро, вовнутрь – при том, что тело остается нетронутым. Для пластического, скульптурного греческого мировосприятия даже в смерти нельзя допустить безобразие человеку: сохранность и неприкосновенность тела – формы земли важнее, чем сохранность жизни – воды в нем. Сходно с этим и в Древнем Риме: открывание вен, выпускание крови (смерть Сенеки в ванне) тоже мыслит жизнь – как текущую. Яд – встречное семя, закупоривающее выход живому семени, тромб в средоточии человека образует; но везде вода при нетронутости земли и вида в человеке
Очевидна здесь и связь между средиземноморским Эросом и родом казни. Если, как общая посылка, справедливо, что при казни человек играет роль женского начала, а бытие – мужского, то и здесь чаша цикуты есть вторжение спермы во влагалище человека. Но это как искусственное осеменение, без фалла, зачатие– смерть внеполовым путем, как бы соитие однополых: мужчины с мальчиком, при том лишь, что один активен, другой – восприемник
В Древнем Риме, где уже Эрос разыгрывался вокруг Поппей, Октавий, Агриппин, Мессалин, – казнимый надрезанием вен мужчина – выдаивается страстно заглатывающей кровь римской волчицей. Недаром «римлянка» – синоним женщины-мужчины, сухой и огненно-волевой (римские матери: Волумния – мать Кориолана; римская девственница Лукреция и т. д.)
К югу и востоку от Средиземного моря – казни пронзением: распятие на кресте, сажание на кол и бамбук, харакири и др. Распятие на кресте – коронное воздвижение человека-фалла в бытие: он поднимается таким столпом, как никогда при естественном росте в жизни не мог бы.[40]40
По Фалесу, первосубстанция Бытия – вода
[Закрыть] Он в позе женщины отдающейся – раскинувшей руки для объятий. Казнь здесь затянута: соитие насильственно продлено во времени. Как через обрезание мужчина насильственно освобожден от собственной женщины и усилен как мужская половина рода людского, – так и при распятии человек явлен как ребро Адамово, Ева – усилен как женщина: пятиконечным пронзением [41]41
Сферос – такую форму имеет Космос и по Эмпедоклу, и по Платону, и по Архимеду… – 19.XI.89
[Закрыть]. Тюркская казнь: сажание на кол – совершенно очевидное соитие при том, что казнимый превращен в женщину. Однако перевернутое расположение контрагентов действа обнаруживает и здесь бисексуальность обеих сторон. Под действием естественного тяготения человек припадает к земле: значит, по расположению казнимый – мужчина, а земля – женщина. Но с земли вздымается кол – фалл, и казнимый на него намертво насаживается: значит, земля здесь мужское, а припадающий – женское
Подобна этому и китайская казнь, когда человека привязывают в клетке, а под ним сажают бамбук, который за несколько дней вырастает и неуклонно проходит, насаживает на себя казнимого. Медлительность китайского принципа жизни и истории и растянутость материково-азиатского соития (ср. Кама-сутра индийская) в сравнении со стремительным рывком японского харакири. Обе казни видят жизнь человека заключенной в его центре – в животе (японец вываливает русла внутренних вод). Но что-то тошнотно мне стало копаться в этих материях. Скажем скороговоркой: есть казни, что мыслят о человеке как состоящем из земли (побивание камнями, зарывание живьем в землю, бросание со скалы); есть те, что мыслят о жизни в нем как воде (перечислены уже и плюс – утопление); жизнь как воздух мыслится повешением; жизнь как огонь мыслится в аутодафе!; жизнь как квант мыслится электрическим стулом и т. д. Во всяком случае описание казней у Гоголя (казнь Остапа в «Тарасе Бульбе») или у Кафки (блестящий нож в конце «Процесса» или машина для эвфории в «Исправительной колонии») – должны рассматриваться как сцены остросексуальные. Недаром эти писатели, совершенно инфантильные, стыдливые, исполненные страха перед женщиной, так сказать, как таковой, бегущие любовных сцен, – в сценах истязаний отдаются откровенному сладострастию
Казнь – близкодействие космоса с человеком: именно секс (телесно-осязательный контакт), а не Эрос
Хаос – нечленораздельность
26. XII.66. Итак, продолжаем голову толковать. Рот. Рот, пожалуй, – завязка человека: рот – всеобщий проход для стихий входящих и исходящих. Через эту лунку, пещерку, предбанник, предтечу, шлюз, погранично-пропускной пункт бытие трансформируется в человека: стихии приобретают тот вид, в каком они могут далее входить в состав человека, культивируются, причесываются
Земля. Войти может только как пища, еда, т. е. земле надо дослужиться, чтоб удостоиться войти в человека: для массовой «Действо огня» по-испански неорганической природы вход почти воспрещен – лишь немногие и то несамостоятельно, а в качестве слуг: как соли при пище или в воде – могут быть допущены. Значит, накануне человека сразу выстраивается иерархия – сословия природы. Парии – неорганическая природа; это широкие массы и тяжелые. Лишь поверхность земли, где она обращается к воздуху, открытому космосу и солнцу и где от их соединения образуется растительность и животный мир, – там избранники для вхождения внутрь человека. Много званых, да мало призванных: лишь ничтожно, бесконечно малая часть земли входима внутрь нас – лишь то, что на поверхности земли. Но значит и обратно: нутро земли непостижимо для нас адекватно, ибо не может войти в наше нутро-утробу и не может быть ощущено чувствами внутренними, но лишь нашей поверхностью: неорганический космос мы постигаем кожей, осязанием, слухом, зрением. Итак: поверхность земли составляет наше нутро; наша поверхность сродни с нутром земли. И стихии (земля, вода, воздух, огонь), когда они не в составе вещей, но чистые и неразложимые элементы, – нам известны именно через нашу поверхность: касания, протяженность, твердость, тяжесть (земля): мягкость, влажность, податливая упругость (вода); легкость, пустота, звук (воздух); тепло, свет (огонь)
Итак, для поверхности нашего существа жизненно необходимы несмешанные стихии – открытый космос: твердая земля, чистый воздух, локализованная вода, распределенные тепло и свет огня. Представим себе, что вокруг нас то смешение и организмы, которые мы заглатываем в себя: это жижа, миазмы, болота – от такого смешанного, слишком напоенно густого органического космоса – чума, лихорадка, малярия, эпидемии: человек задыхается, гниет и мрет. Верно, таков и был хаос: не просто смесь и туманность веществ, отсутствие форм; не просто, как в Библии: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною» (Бытие. 1,2), – но именно шабаш неорганическо-органических смешений, чудищ, где полтела каменно или воздушно, а пол – животное (как Медуза, от взгляда которой все каменеет); да и не «пол»… (тогда и мер не было), а из змеи туманность, кишмя кишение, когда вдыхали не воздух, а планктон, и пить нельзя было чистую воду, но нефтяно-угольную жижу. Такие островки, рудименты мирового Хаоса, остались и у нас: Мертвое море, тропики, с их буйной растительностью и миазмами, где космос воспален в смешении; и там недаром по античным представлениям располагались антиподы людей, т. е. как и титаны, и пигмеи (без меры, что и пристало Хаосу), – и Тартар, и черные существа низа, Аида, утробы живут на поверхности. Так и фрейдисты объясняют: американцы белые оттого не терпят негров, что видят в них черного человека, что живет внутри белого (значит, укрощен: как титаны, загнан в Тартар и заключен), – вылезшим на поверхность и в самостоятельную жизнь
Да что я говорю «рудименты!». А соленая вода Мирового океана и морей – вот вещество, из которого состоял Хаос: здесь и органическая природа (планктон, водоросли, рыбы), и неорганическая; это мировой резервуар жизни, но для человека смертелен: ни есть, ни пить, ни дышать негде. Недаром Мировой океан и предстает естественно как предтеча и прародитель нашего мира и на нем наша земля (т. е. ее поверхность, для нас удобная и пригодная) держится
Космос – различение
Значит, космос возникал из хаоса, был отделением злаков от плевел, овнов от козлищ среди стихий, т. е. различением из марева и кристаллизацией: выжиманием и сгущением, консолидацией земли с землей, воды с водой. Выходит, что человеку присуще различение, отделение, формы – и это дело должно было совершиться в бытии как условие, чтобы человек мог возникнуть. Значит, идеи, т. е. формы, виды, сущности (консолидация земли, например, в ядро – в суть – в консистенцию) действительно предшествовали бытию человечества, жизни: и чтоб их познать, нам надо вспоминать (Платон)!. Но столь же верно, что для их познания надо вглядываться, въосязаться в то, что вокруг нас: ведь кругом нас космос являет чистые формы и сути; так после кромешного марева бури и грозы (когда космос в борьбе с титанами возникал из хаоса) мир промыт, и каждая грань ослепительно светит. Поверхностью нашей (а именно здесь гнездится ощущение и эмпирия) мы «органически» можем воспринимать только очищенные качества, сущности, виды, формы – словом, неорганическую природу. С точки зрения нашей поверхности мир продолжает очищаться и обретать все более чистые и ясные формы, сути и элементы. Потому красота – не первозданная, но созидаемая, и современный человек имеет дело с более рафинированным и идеализированным космосом, чем грек гомеровский, гесиодовский или платоновский. Ориентировка нашего восставшего вертикально и самоходного тела (нашей земли), его равновесие (орган его, кстати, в голове – в ухе) возможны именно благодаря различениям: верх-низ, занято-пусто[42]42
По Платону, познание – припоминание, того, что душа знала, но забыла. 19.XI.89
[Закрыть]. И мы движемся, лавируя и не натыкаясь, именно оттого, что не все во всем, а здесь – одно, а там – Другое
И мы сами: человек – есть отличение, лицо-личность, избирательность и форма, особь. Так это именно по виду, с поверхности и с наружности. И все наши отверстия в мир – строгие стражи: непосвященного не пропустят в мистерии нашего нутра, но проверят сначала: наш или не наш? Рот не примет большую форму, а лишь по своей мере – как «кусок» (откушенный – сформированный штампом челюсти). Язык и вкус сразу признают: свой или чужеродный массив входит в рот? На вкус: сладость – горечь, достаточно ли обработан огнем: светом и теплом; на мягкость, сочность – жизненность, органичность, свойственную нам водяность; на запах, аромат – ноздри уже при приближении уловят: присущ ли нам по духу? И если нет – мы фыркнем, отдунемся, выплюнем, выблюем, исторгнем, изрыгнем
Всеединое
Итак, виды, формы, различения, мерки – все это в пограничной зоне: там, где наша поверхность и контрольно-пропускные клапаны-отверстия в наше нутро – с окружающим миром, объективным бытием в контакт вступают, т. е. мы с ним как разные особи и тела. Это – как атмосфера наружных слепых ощупываний: оттолкновений и притяжении. Здесь встречают по одежке: по форме (а не по сути), по анкете. Что подобает – забирают, а уж ТАМ разберутся: в нутре, в тюрьме, каземате, утробе нашей. Но ведь там внутри – тьма, и ночью все кошки серы. И там-то начинается не разбирательство, а кутерьма: восстанавливается хаос[43]43
Тютчев постоянно чувствовал под космосом нашей наружности и внешней жизни хаос: «О, бурь заснувших не буди – Под ними хаос шевелится!..»
[Закрыть] и смешение, и обнаруживается, что все во всем, все – одно и то же, все – равно, и все – едино; там вихри, туманности, смешения
И это естественная мысль нашего нутра: что все в мире смешано, в каждой крошке, частице, атоме все есть (гомеомерии, монады) – и каждая бесконечно малая частица состоит из всего бытия и всех стихий: тех же наших наружных абстракций – земли, воды, воздуха, огня и т. д
И когда уже из нас выходит наш лучший, тончайший сок и вздымается наш язык пламени, дух, мысль – она обращает на мир это вожделение нутра: все освоить, все сравнить-уравнить, и проникнуть в разном (разновидном, разноплотном, жидком, сухом) – единое. Не дело ума – различения: это дело наружных чувств, ощущений – сферы контактов нашей поверхности. Это рассудок – рассуждает, взвешивает данные наружных чувств, видений – и их оформляет. Но ум – это воля нашего нутра, язык пламени наш (а не служка внешних контактов); и, как его ищейка и щупальце в миру, он пронзает толщи различий, форм, видов и сущностей – как иллюзии, майю, мир призраков – и зрит единое, и устанавливает нашу единородность с бытием неразличимость
Итак, из кромешной тьмы нашего нутра, потопляющей все различия, от их трения и смешений разогревается и возгорается тепло – и вспыхивает луч и, стремясь к родне, взлетает в верх нашего существа – и там собираются лучики в Валгалле черепа – под нашим небосводом. Ум сравнивают со светом очей; но мы уже начинаем подозревать, что это лишь внешняя схожесть – по близости их расположения возникшая. Ибо свет – разное являет. А ум – единое. Но сродство здесь есть: как свет – сам единый, а открывает бесконечное разнообразие, множество вещей, так и ум: сам – множество, собор духов, всё, а прозревает единое и средоточие. Ум – сосредоточивается, чтоб понять. Свет – рассеивается, чтоб увидеть. Умозрение начинается при закрытых глазах: от сосредоточения на мареве, хаосе, неразличимости «я – не я», вспыхивает тепло и внутренний свет – то иссиня-белый, то золотисто-оранжевый (как при закрытых на свету веках)
Итак, земля (стихия) нам выкинула кусок: тонкий слой своей поверхности сделала органической природой, поддалась нашим строгим различениям; мы его вкусили, эту приманку, – и тут же умерли как особи, личности и прониклись единым: единоутроб-ность свою с миром, хаосом (когда все во всем) вняли. И наросты земли (травы, животные), проникнув в нашу нутрь, донесли до нас свои корни и источники: слово земной глубины и бездны. Таким образом мог Платон ощутить нутро земли и описать его в «Федоне» как гигантское чрево, живот, где струятся огненные реки, как крови и воды по руслам наших артерий и кишок, где печень – тартар. Это мысли о невидимом и из невидимой глуби нашей исходящие, возможные лишь как внутренние созерцания и внятные уму, но не свету рассудка. Но еще раз вникнем в то откровение, что наша наружность, поверхность общается с космосом, неорганической природой, а нутро – г– с хаосом, органической жизнью. Чтоб нам ходить, есть, дышать, пить, а точнее: пойти, проглотить, вдохнуть, выпить, т. е. сделать однократный впуск мира в себя – через меру и квант (а это возникает от отпечатления нашей личности, «я», что есть наша мера и такт – и задает свой шаблон впускаемому), стихии должны быть очищены, формы различены и устойчивы. Значит, мир как ясность и очевидность, как «да» или «нет», есть мысль нашей поверхности (впустят или не впустят? – среднего, третьего не дано); так что мир как представление1 (теоретический разум, рассудок – их зона) есть то контрольно-пропускное определение, что совершается на рубеже: субъект-объект, и лишь для этой операции это деление предположено, априорно. Когда же я закрыл глаза, уши, рот, отвлекся от внешних кон-1 Аллюзия на вторую часть формулы Шопенгауэра: «Мир как воля и представление». – 20.XI.89
тактов и ушел внутрь себя, – уже нет нутри и внешнего, нет «я» и «не я», субъектно-объектного деления, а есть единое тепло и биение сердца, неразличимость мира-меня, как в утробе матери, когда я был и не знал своих границ и стенок, но просто сочувствовал, содышал, сопил, со сердцем бился – вместе с ее гигантским живым существованием. Устанавливается симпатия (сострадание, сочувствие) с бытием: это плод нашего внутреннего чувства; и когда потом мы сострадаем, увидев, лошади, птичке, травке, – это не от внешних форм, а от мгновенного перенесения нашего нутра в нее и от подстановки чувствований: не глаза и наружные органы и контакты внушают нам всесимпатию – они лишь проводники, отверстия для вылетающего (и вгнездяющегося в каждое существование) нашего нутряного мироощущения (без «я» и «не я») и в этом смысле – не зрячего, безразличного. Мир здесь нами мыслится как единое живое тело: мы – в нем или его лишь отток, и одна кровь везде струится: в планете и в насекомом богомол








