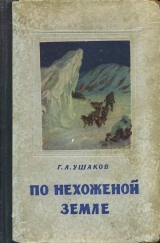
Текст книги "По нехоженной земле"
Автор книги: Георгий Ушаков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
ноги ставил на сиденье. Мы уже успели заметить, что в таком неудобном положении
Вася часто монтировал какой-либо сложный прибор, разрабатывал новую схему или, не
отрываясь, читал понравившуюся книгу. Такая поза всегда говорила о том, что наш
юный товарищ чем-то взволнован, решает какую-то трудную задачу.
Взгляд радиста был сосредоточен, а руки плавно и нежно скользили по
регуляторам приемника, точно Вася ощупывал эфир. Иногда руки замирали. Тогда Вася
весь превращался в слух... [111]
Слушать эфир, выловить из него нужное, поймать еле слышимую волну
слабенького самодельного передатчика какого-нибудь радиолюбителя – вот что было
настоящей работой Васи. Любовь к радио пробудилась у него еще в детстве.
Постепенно он стал мастером своего дела. Сидя у аппарата, он больше всего любил
слушать.
Мало того. Эта черта, пожалуй, была самой важной в характере Васи; и в быту он
очень любит слушать. Слушает внимательно, сосредоточенно и неподвижно. Только
пальцы мягко, то в одну, то в другую сторону, плавно поворачивают первый
попавшийся под руки предмет, будто Вася и в эти минуты настраивает свой приемник.
Сам он говорил очень мало. За все время пребывания на острове вряд ли сказал в
среднем по фразе в день и ни разу не повысил голоса.
И вот однажды он изменил своему характеру. Произошло это так.
Поздней ночью 23 сентября из радиорубки раздался громкий крик Ходова:
– Тихо!
Нужды в этом требовании совсем не было. Я сидел за книгой. В домике стояла
абсолютная тишина. Я сейчас же бросился в радиорубку.
– Есть связь! – шопотом сообщил Ходов.
Я понял, что минуту назад в ненужном громком окрике разрядилось его
многосуточное нервное напряжение.
Приемник отчетливо передавал позывные нашей станции. С нами говорил
любитель коротковолновик из города... Кологрива!
Где же этот славный Кологрив?
Никто из нас не мог ответить на этот вопрос. Все только разводили руками.
Тем временем беседа между радистами продолжалась и волей обстоятельств
приняла интригующий характер. Радиоснайпер из Кологрива просил повторить наши
координаты, так как острова, названного Ходовым, он не нашел на карте. Его сомнение
для нас было понятным. Ни на одной карте в мире наш остров еще не был обозначен.
Мы проявили не меньшее любопытство, чем наш радиособеседник, и узнали, что
славный город Кологрив находится в Костромской области.
Как бы то ни было, Кологрив, первым услышавший голос Северной Земли,
принял наши телеграммы и сообщил об этом Ленинграду.
На следующий день Ходов без труда связался с ленинградской станцией. [112]
Так наладилась наша связь, и мы, находясь далеко в просторах Арктики,
включились в темп жизни советской родины. Радио стало нашим информатором,
концертным залом, театром, газетой и другом. Чего-чего только оно не приносило нам!
Оно и вдохновляло, и смешило нас; приносило много радостей, а иногда и огорчений;
говорило о нашей близости к людям, к отчизне и одновременно все-таки напоминало об
оторванности.
* * *
Особенно хорошо слышны передачи Харькова. Даже в дни очень плохой
слышимости голоса Харькова доносятся к нам. Его концерты пользуются у нас
большой популярностью. Буквально все население Северной Земли и прилегающих к
ней островов жадно слушает музыку и пение. Не беда, что это население так мало.
Главное в том, что никто не отказывается от концертов. Мы очень внимательные и не
менее восприимчивые слушатели. Особенно любим пение.
После ужина мы сидим в помещении и продолжаем работать. Я подсчитываю
месячную таблицу метеонаблюдений, а Журавлев, сидя посредине комнаты, поближе к
свету, чинит свои меховые штаны.
Полярная ночь уже вступила в свои права. С улицы доносится посвистывание
ветра. Разыгрывается метель. Медвежья шкура, повешенная близко к домику,
раскачиваемая ветром, время от времени колотит в стенку когтистыми лапами.
Из радиорубки раздается то хрип, то резкий свист приемника, то недовольное
ворчание Васи Ходова. Ему заказан концерт, и он, скользя с волны на волну, упорно, но
пока безрезультатно, исследует эфир. Наконец, начинает звучать музыка. Ее передает
голландская станция Хюйзен. Вася выходит в комнату и молча, как бы прося извинения,
разводит руками – дескать, больше ничего нет.
Хюйзен передает грустные, унылые мотивы. Совсем не то нам хотелось бы
услышать. Но что делать? Сидим слушаем в надежде, что Хюйзен когда-нибудь
выплачет свою грусть.
Журавлев не выдерживает, соскакивает со стула, хлопает штанами об пол и,
обратившись к репродуктору, начинает отчитывать голландских певцов и музыкантов.
Заканчивает он словами: «Довольно за душу тянуть! Даешь «Кирпичики»!» И мы
смеемся над пристрастием нашего охотника к «Кирпичикам», давно переставшим
звучать на материке. Пристрастие это понятно: песенка только в начале этого года
докатилась до Журавлева, обитавшего в то время на Новой Земле. [113]
– Крикни громче, а то Хюйзен не услышит! – подзадорил я.
– Небось, не глухой! – ворчливо отзывается Журавлев, снова принимаясь за
починку штанов.
Через минуту репродуктор, прохрипев на последней высокой ноте, заканчивает
слезоточивый мотив. Потом из него летят непонятные для нас слова и, наконец, диктор
объявляет:
– Руссише романс!
Это мы поняли. Моментально превращаемся в слух. Сначала невольно ловим
слова на чужом языке, но они не доходят до сознания. Внимание переключается на
мотив.
– Сергей, а ведь это «Кирпичики», чорт возьми!
И действительно, уже давно набивший оскомину и забытый мотив периода нэпа
слышится из репродуктора. Оказывается, до голландцев этот «руссише романс» дошел
еще позже, чем до Журавлева на Новой Земле. Но эффект радиозаявки охотника и ее
выполнения получился исключительный. Мы смеемся до слез, а Журавлев, сначала
опешивший от неожиданности, быстро оправился и важно говорит:
– Что, небось, услышали! Заказать надо уметь. Я знаю, как с ними разговаривать!
Развеселившийся Вася просит:
– Сергей, закажи «Конную Буденного»! Ну, пожалуйста! Поговори с ними как
следует!
Журавлев подмигивает, свертывает брюки и, подойдя к постели, серьезно
заявляет:
– Нет, Вася, на сегодня довольно. Пора ложиться в дрейф. Да и станции этой
далеко еще до «Конной Буденного».
Васина просьба не случайна. Оторванные от непосредственного участия в жизни
страны, мы жадно следим за всеми новостями, не хотим отставать от товарищей на
Большой Земле, хотим знать все о борьбе советского народа за построение социализма,
о крепнущем могуществе нашей родины. Нам нужны и ее песни и короткие сообщения
ТАСС о вступлении в строй новых фабрик и заводов. Изложенные лаконическим
радиотелеграфным языком, эти сообщения звучат тоже как песни.
Большую часть полярной ночи слышимость мощных широковещательных
станций отличная и не меняется в течение суток. При желании мы можем слушать
радиопередачи всего мира ежедневно в течение всех двадцати четырех часов. Для этого
достаточно поворотом ручки радиоприемника, по мере вращения земного шара,
переключиться с одной страны, [114] отходящей на покой, на другую, более западную,
продолжающую бодрствовать.
Но, конечно, мы больше всего радуемся голосам нашей родины.
Страна твердо и уверенно идет вперед. Народ с небывалым в истории пафосом
строит свое новое хозяйство. Радиоприемник ежедневно рассказывает нам о блестящем
выполнении первой сталинской пятилетки, о вводе в строй новых заводов-гигантов и
фабрик, о могучей волне коллективизации, о победах знамени Ленина, высоко
поднятого великим Сталиным.
Так радио – великое изобретение русского гения – связывает нас с миром, со
своей страной. Время, когда путешественник, отправляясь в неизвестные страны, терял
всякую связь с миром, с развитием радио кануло в вечность... Эфир доносит до нас
уверенный и ободряющий голос друзей. Мы не можем видеть их, но чувствуем их очень
ясно. Находясь далеко от большого советского коллектива, мы все же остаемся в нем.
* * *
Сегодня 7 ноября – тринадцатая годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции. Радио доносит до нас голос Москвы – ясный,
празднично-торжественный, одинаково уверенный и в завтрашнем дне и в далеком
будущем.
Мы слышим Красную площадь. Кажется, что находишься на улицах Москвы,
смотришь на московское небо, на башни Кремля, на демонстрацию, залившую улицы и
площади, на море знамен, и кажется, что видишь улыбки людей, чувствуешь под
ногами асфальт, ощущаешь плечом товарища по колонне.
Мы горячо верим в будущее Арктики. Наш народ, поднявшийся на строительство
новой жизни, справится и с трудностями освоения полярных стран. Скоро и Арктика
перестанет быть неведомой частью земного шара. Самые далекие северные берега
СССР станут нужными, полезными и полноправными территориями нашей страны. И
сбудутся слова великого гения русского народа Михаилы Ломоносова:
«...Северный океан есть пространное поле, где усугубиться может Российская
слава, соединенная с беспримерною пользою чрез изобретение восточно-
северного мореплавания...»
Скоро поднято будет славное наследство русских исследователей – отважных
моряков и неутомимых землепроходцев, исследовавших полярные страны. Труды
Дежнева, Беринга, Чирикова, Лаптевых, Челюскина, Минина, Малыгина,
Прончищевых, [115] Пахтусова, Цивольки, Розмыслова, Русанова, дерзания Седова и
еще многих и многих русских людей, как сохраненных историей, так и ушедших в
вечность, не пропадут даром. Советские исследователи, еще более отважные, чем их
предки, вооружившись самой совершенной техникой, осуществят «с беспримерною
пользою» и «изобретение восточно-северного мореплавания».
Начало этому уже давно положено. В 1921 году за подписью В. И. Ленина вышел
декрет, требующий «всестороннего и планомерного исследования Северных морей, их
островов, побережий, имеющих в настоящее время Государственно-важное значение...»
Товарищ Сталин повседневно руководит работой советских полярников. Каждое
их достижение отмечается как вклад в социалистическое преобразование окраин
страны.
В период короткой северной навигации советские корабли уже заходят в устья
Оби и Енисея. Полные сибирским лесом и зерном суда отправляются отсюда в любой
порт мира. За полярным кругом закладываются первые полярные порты. Достижимой
стала Земля Франца-Иосифа. Дальневосточные моряки упорно трудятся над освоением
Чукотского и Восточно-Сибирского морей...
Но то ли еще будет! Наступит время, и на безмолвных сегодня берегах вырастут
города, поселения, промышленные предприятия; электричество проникнет во тьму
полярной ночи; советские воздушные корабли сделают доступной любую точку
Арктики...
И тогда в Арктике 7 ноября также можно будет видеть праздничные
демонстрации.
Это будущее. Четкое, ясное, безусловное, но все же будущее.
* * *
Сегодня, 7 ноября 1930 года, в глубокой Арктике существует только несколько
маленьких, примерно таких же, как наш, коллективов, разделенных между собой
тысячами километров ледяных пространств. И у них и у нас сейчас полностью царит
полярная ночь; только вой ветра нарушает безмолвие пустынных берегов.
Путешественник, отправляющийся сейчас в Арктику, должен принимать условия
здешней жизни такими, как они есть. Один на один он должен выдерживать нередко
тяжелый, предостерегающий, а иногда и леденящий взгляд Арктики. На все время
работы экспедиции он лишается живой связи с близкими и друзьями. Это сейчас самое
тяжелое в жизни полярника. Все трудности, связанные с работой, кажутся [116]
пустяками перед фактом длительной разлуки с большим советским коллективом.
Напряженный труд, постоянная борьба с природой, чувство ответственности за
дело незаметно сокращают время и заставляют забывать о всяких болезненных
переживаниях. Радио постепенно устраняет ощущение оторванности, включает в
общий темп жизни.
Но есть в каждом году дни, которые нельзя заполнить только работой или борьбой
с метелью. Это годовщина Великого Октября!... Это Первое мая!
...Тяжелые черные тучи распластались по всему небу. Они точно придавили
землю. А вокруг бесконечные ледяные поля, окрашенные в какой-то грязновато-бурый
цвет.
Только в полдень тучи приподнялись над южной частью горизонта. На полчаса
вспыхнула узкая полоска зари. Нависшие над ней рваные клочья туч окрасились в
багрово-красный цвет.
Напряженно, до боли в глазах, смотришь на эту узенькую полоску. И чудится, что
видишь десятки тысяч знамен многомиллионной армии строителей социализма,
вышедших сегодня на улицу, там, на Большой Земле нашей родины.
Там, под солнцем... А здесь?
Заря потухла. Тучи закрыли горизонт. Снова тьма. Понемногу разгуливается
ветер.
Я с усилием отрываюсь от своих мыслей и гляжу на товарищей. Они накрывают
наш праздничный стол, громко разговаривают, смеются. Я как-то физически чувствую
их настроение. Работа, которую и сегодня нельзя было прерывать, не клеилась весь
день. Пойманный на-днях песец, сжавшийся белым пушистым комочком под столом и
сверлящий нас бойкими черными глазками, не привлекает сейчас ничьего внимания.
Мысли всех – «там», на юге, под солнцем, на. улицах родных городов, под красными
знаменами. И с каждым часом чувствуется, как растет напряжение.
Четыре часа дня. Радио передает торжественную музыку. В Москве сейчас
полдень. На Красной площади кончился парад. Колонны бурным потоком хлынули
мимо Мавзолея Ленина. Человек в серой шинели, высоко подняв руку, с улыбкой
приветствует демонстрантов. Это – товарищ Сталин! Вся Москва сегодня на улице.
Пора и нам. Я приглашаю на улицу. Берем приготовленные ракеты, магниевые
факелы, карабины, наш флаг и выходим в ночь.
Один за другим вспыхивают огни. Вот, разбрасывая фонтаны искр, пылает
десяток факелов. Два из них Вася прикрепляет к пропеллеру ветряка. Они чертят
ослепительный [117] огненный круг. Ракеты режут темное небо, рассыпаются каскадом
разноцветных звезд. Освещенный факелами плывет вверх наш флаг – живой, как
пламя.
– Да здравствует Великий социалистический Октябрь! Да здравствует Советский
Союз! Да здравствует Сталин!
Залп из карабинов отвечает на мои слова. Треск выстрелов и шипение ракет будят
тишину. Ночь оживает. Горит яркое пятно нашей праздничной иллюминации. В центре
освещенного круга только несколько человек да возбужденно мечущиеся собаки.
Вокруг них тысячемильная чернильная темнота и льды. Не беда...
В Москве гудят улицы. Там Красная площадь. Площадь заполнена народом. Мы с
ними! Душой мы там! Вместе с миллионами, а миллионы здесь с нами. И нас в этот
день приветствует товарищ Сталин!
Во тьме и метели
День начинается быстрым, привычным и почти автоматическим движением —
ровно в 6 часов 45 минут я сую под подушку будильник, только что подавший свой
голос. Легче было бы просто нажать стопорную кнопку, но я приучил себя не делать
этого, так как, выключив звонок, можно тут же вновь погрузиться в прерванный сон.
Под подушкой будильник продолжает ворчать недовольно и глухо, но, как и всякая
машина, непрерывно, настойчиво. Это окончательно прогоняет дрему.
Точно в 7 часов мне надо быть на метеорологической площадке. Наскоро
одевшись, успеваю записать показания барометра, заглянуть на предыдущую страницу
наблюдательской книжки и сравнить цифры. За ночь давление упало на 11
миллиметров.
На улице еще вчера разгулялась сильная метель, налетевшая с юго-востока. Она
всю ночь куролесила вокруг домика. Сейчас слышен свист, вой в трубе и характерное
гудение антенны. По силе и по тембру этих давно знакомых звуков я, не покидая
комнаты, могу судить об усилении метели.
Беру полушубок, но тут же снова вешаю его. Сегодня он не годится, лучше надеть
кухлянку. Правильность такого решения сейчас же подтверждается. В сенях уже не
слышно ни завывания в трубе, ни гудения антенны – все заглушает рев метели. Ветер
то свистит пронзительно, как Соловей-разбойник, то шумит, гудит и фыркает, точно
сотня автомобилей, неожиданно задержанных светофором, то заводит заунывную
песню голодного волка. Стены вздрагивают [118] от яростного напора бури. С крыши
осыпается иней. Его нежные кристаллы при свете электрической лампы играют и
переливаются в воздухе. Вокруг лампы большое радужное кольцо, напоминающее
лунное гало{12}. На полу серебристый ковер из алмазной пыли.
Около выхода два выключателя, тоже сплошь запорошенные снежной пылью.
Повернув один из них, я включаю лампочку под флюгером, а с помощью другого
освещаю психрометрические будки. С фонарем в левой руке и с наганом в правом
рукаве кухлянки, на случай неисключенной встречи с медведем, распахиваю двери и
сразу точно ныряю в ревущий мрак.
Бешено несется снежный вихрь. Ветер крутит подол кухлянки, рвет из рук
фонарь, валит с ног. Я совершенно ослеплен, ничего не вижу в снежном потоке. Кругом
густая, бесконечная, черная тьма. Она гудит, стонет, слепит, захватывает дыхание.
Свет электрического фонаря освещает только мои ноги да на полметра проникает
в бушующую тьму. С большим усилием удерживаясь на ногах, делаю несколько шагов.
Чтобы не сбил ветер, приходится сильно откидываться назад. Впечатление такое —
словно опираешься спиной на упругий, пружинящий стог сена. Сильный порыв ветра
бросает меня вперед. Чтобы не упасть, пробегаю несколько шагов.
Вдруг под ногами в свете фонаря я скорее угадываю, чем вижу, тень животного.
Инстинктивно выдвигаю из рукава наган. Но в тот же момент в мою грудь с размаху
упирается пара тяжелых лап и теплый шершавый язык касается моего лица. Так
приветствовать может только друг. Это мой Варнак! Единственная собака, которую не
держат ни цепь, ни ошейник, ни загородка из колючей проволоки. Его обычный
соперник в этом утреннем ритуале – Полюс – не умеет выбираться из-за колючей
проволоки. Поэтому Варнак сегодня один. Ветер и метель, во время которых собаки
неохотно покидают належанное место, не удержали его от изъявления преданности и
дружеских чувств.
Дальше мы продолжаем путь вдвоем. До психрометрических будок около 50
метров. Ветер, подталкивая в спину, быстро доносит нас.
Однако сделать отсчет приборов и записать показания в такую погоду совсем не
просто. Снег бьет в глаза, засыпает книжку, а ветер рвет ее листки, мешает мне дышать.
Записав [119] показания одного прибора, отворачиваюсь от ветра и снега, делаю
передышку, потом приступаю к другому. Минимальный термометр показывает – 23,4°,
максимальный только – 14,8°. Так температура менялась ночью. Сейчас – 16,3°. Неба
не видно. Вообще ничего не видно, кроме будки, за которую я держусь руками, да
Варнака, сидящего у моих ног и ожидающего конца непонятных для него манипуляций
человека. Наконец наблюдения проведены. Я очищаю будки от налипшего снега, и мы
пускаемся в обратный путь.
Теперь надо итти против ветра и снежного вихря. Чтобы противостоять им,
сильно нагибаюсь вперед. Варнак, пригнув голову к самой земле, идет передо мной.
Каждый шаг кажется не меньше километра. Сделав несколько шагов вперед,
поворачиваюсь к ветру спиной, чтобы перевести дыхание. Варнак тоже
останавливается и ждет. Моментами меня разворачивают порывы ветра. Тогда лучше
переждать, пока потоки воздуха не перейдут на «нормальную» скорость. Так, шаг за
шагом, мы пробиваемся к нашему домику. Ух, какие длинные эти 50 метров! Варнак
мог бы проскочить это расстояние значительно быстрее, но он не хочет оставлять меня
одного. Когда порывы метели особенно сильны, пес тычется мордой в мои ноги, будто
хочет сказать, что он здесь, рядом, что я не один. Верность его больше, чем собачья.
Заблудиться в снежном вихре и гудящем мраке мы не можем – у Варнака есть
чутье, а я знаю направление ветра. Кроме, того, метрах в 15—20 от домика я могу уже
рассмотреть слабое светлое пятно. Сначала оно то появляется, то исчезает в несущемся
снеге. По мере приближения пятно становится заметнее. В центре его свет сильнее. Это
100-ваттная лампа, освещающая флюгер на мачте, установленной над коньком крыши.
На этот маяк, как моряки, мы и держим путь.
Наконец наше путешествие кончается. Стоя с подветренной стороны домика, я
наблюдаю за флюгером. Он показывает, что ветер достиг степени «крепкого шторма».
При такой скорости он способен вырывать с корнем деревья.
– Пустяки, бывает хуже! – говорю я Варнаку и на прощание треплю его по
круглому гладкому боку. На этом мы расстаемся. Варнак считает свои обязанности
конченными, в последний раз прижимает голову к моим ногам и ныряет в темноту, а я
иду в домик.
Через полчаса бужу Ходова, и результаты наблюдений летят в эфир. Наши
сигналы в одно мгновение пробегают тысячи километров. Это не то, что мое
путешествие на расстояние 50 метров. Однако эти 50 метров были обязательным
звеном, обеспечивающим передачу наблюдений в Москву. Там [120] их ждут в
Центральном бюро погоды. Они нужны, как и наблюдения тысяч других точек, для
анализа движения воздушных масс и предсказания погоды. Если сведения попадут в
Москву своевременно, то наше трудное путешествие с Варнаком будет полностью
оправдано.
* * *
Мы вступили во вторую половину ноября. В нашем районе исчезли последние
признаки полуденной зари. До этого, в ясную погоду, хоть по узенькой лимонно-желтой
полоске, появлявшейся на короткое время над горизонтом, да по почти неуловимому
рассеянному свету, мы чувствовали, что где-то есть солнце. Теперь полдень перестал
отличаться от полуночи. Небо на юге, такое же черное, как и на севере. В полдень
видны все звезды, до шестой величины включительно. При ясном небе они то горят
спокойным холодным пламенем, то искрятся и мерцают и кажутся необычайно
большими и яркими. Звезды нисколько не делают ночь светлее, но взгляд невольно
тянется к ним, как к единственным светлым точкам.
Когда небо затягивается облаками, исчезают и звезды. Тогда все окутывает
непроглядный, черный мрак. Темнота в такие дни ощущается, как физическое тело.
Кажется, что ее можно ощупывать руками, мять и формовать, словно глину или тесто, а
сознание того, что ощущаешь это в полдень, еще больше усиливает впечатление. Так
идет день за днем. Нам кажется, что мрак сгущается все больше и больше. Часто кто-
либо из товарищей, возвратившись с улицы в домик, заявляет:
– Ну, и темнота же сегодня! Такой еще не было!
Но это уже самообман. Мрак не может больше усилиться. Сегодня темно, как
вчера, а завтра будет так же темно, как сегодня.
Нагрянувшие в начале полярной ночи тридцатиградусные морозы продержались
недолго. Юго-западные и южные ветры принесли резкое потепление, облачность и
туманы. Почти месяц удерживается теплая пасмурная погода. В отдельные дни
температура воздуха поднимается почти до нуля.
Если нет ветра, антенна, провода, мачты, ветряк, столбы, крыша домика
обрастают толстым слоем изморози, а при ветре их покрывает ожеледь. Однажды она
превратила антенну в огромную нитку ледяных бус. Лед нарастал на канатике двое
суток. Сначала антенна была похожа на толстый ледяной жгут. Потом, по мере
дальнейшего обрастания льдом и провисания канатика, этот жгут начал дробиться на
отдельные [121] цилиндры длиной от 10—15 сантиметров до одного метра. Когда
диаметр ледяных цилиндров достиг 5 сантиметров, бронзовый канатик не выдержал и
антенна обрушилась на землю. Не меньше досаждает и изморозь. На улице ни к чему
нельзя прислониться. Изморозь пристает к одежде, точно масляная краска.
Наш ветряной двигатель прекрасно работает при скоростях ветра не меньше 5
метров в секунду. Поэтому в последние недели, с преобладанием легких южных
потоков воздуха, он часто бездействует. Когда начинается метель, наша первая забота —
запустить ветряк, чтобы пополнить запасы электроэнергии. Но после передышки
ветряк начинает капризничать даже при скорости ветра в 7—9 метров. Пропеллер еле
поворачивается, точно не в состоянии сразу пробудиться после многодневного сна.
Причиной этого всегда является иней, слоем в 3—4 сантиметра осевший на пропеллере
и мешающий его обтекаемости. Надо забраться наверх, счистить корку, и лишь после
этой операции раздается характерный шум и лопасти винта сливаются в один
трепещущий круг.
Теплая пасмурная погода лишает нас даже удовольствия прогулок. Липкий снег
пристает к лыжам, когда мы пытаемся пробежаться в темноте. А при поездках на
упряжках собаки с трудом волочат по такому снегу даже пустые сани. Снег набивается
собакам в лапы, смерзается ледяными комками между пальцами и распирает их.
Длинношерстные собаки тащат на себе все более и более увеличивающиеся куски
намерзшего снега.
Нам совсем не нужны ни тепло, ни сплошная облачность, ни южные зефиры.
Ноябрьское потепление и связанные с ним многочисленные неприятности всем
осточертели. Мы мечтаем о морозах, ясном небе и негодуем.
– Ну что это за полярная ночь?! Просто темная ночь в Крыму...
Охотник называет такую погоду идиотской. В науке о климате нет такого термина.
Но если бы ученые метеорологи познакомились здесь на месте с такой погодой и хотя
бы один день поездили при ней на собаках, то и они вряд ли бы подобрали другое
выражение для ее характеристики. Термин охотника если и не дает достаточно
конкретного представления о самой погоде, то ясно определяет отношение к ней
человека.
Несколько метелей, пролетевших в первой половине ноября, не отличались ни
продолжительностью, ни силой. Но все же по окончании их, как правило, перепадали
день-два желанной погоды. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все это время
мы мечтали об улучшении погоды, понимая [122] под улучшением добротную,
свирепую полярную метель. Казалось, что только она может освободить небо от
панцыря застоявшихся туч, разметать их, показать нам звезды и привести вслед за
собой морозы, полагающиеся в ноябре на 80-м градусе северной широты.
* * *
Сегодняшнее «улучшение» погоды заметно подняло наше настроение. Ветер
постепенно переходит к востоку и усиливается с каждым часом. Разноголосо шумит
мрак, свистят незримые крылья бури, с бешеной скоростью переносятся целые тучи
снежной пыли. Все вокруг напоминает бушующее море: Наш домик время от времени
вздрагивает, как корабль под ударами волн.
На тринадцатичасовые наблюдения мы выходим вдвоем с Ходовым. Та же
картина, что и утром. Только свита на этот раз другая. Кроме Варнака, нас
сопровождает и Полюс. С полдюжины других собак то появляются у ног, то исчезают в
снежном вихре. Метель намела сугроб вровень с проволочной загородкой собачника.
Псы воспользовались этим, выбрались на свободу и, несмотря на метель, чувствуют
себя счастливыми.
Мы довольны кутерьмой на улице, так как по окончании ее ждем ясной, сухой
погоды и усиления морозов. Общее настроение не меняется даже после того, как в
конце дня буря валит столбы-треноги между ветряком, домиком и магнитной будкой,
обрывает провода и, наконец, срывает антенну. Только у Журавлева портится
настроение. Лазая в метели, он недосчитывает на вешалах одной медвежьей шкуры.
Для него это чувствительный удар. Охотник неоднократно ныряет в бушующую
темноту и каждый раз после безрезультатных поисков возвращается в домик мрачнее
полярной ночи.
– Ну и сторонка, чтоб ее леший взял! – ворчит он. – Что сумеешь добыть, и то
норовит взять обратно. Тьма кромешная! Просто ужас берет!
До ужаса, конечно, далеко. Просто жаль шкуры. Метель может совершенно
завалить ее сугробом. Собаки не побрезгуют объесть лапы и нос. В том и другом случае
шкура потеряет ценность. Зная, что наш товарищ не успокоится, мы, вооружившись
магниевыми факелами, все выходим на улицу и после отчаянной, почти часовой борьбы
с метелью находим злополучную шкуру. Ветер унес ее метров на шестьдесят и уже
наполовину засыпал снегом. К Журавлеву сразу возвращается прежнее добродушие.
[123]
Общее настроение восстанавливается.
Поздно вечером, когда Ходов заканчивает передачу последней метеосводки, мы
слушаем радиоконцерт, принятый на комнатную антенну, разыгрываем очередные
партии в домино. Доносящийся с улицы шум метели часто заглушает музыку, зато
кости домино громко стучат по столу. Вдруг все мы, как по команде, превращаемся в
слух. За стенками домика вдруг воцаряется тишина. Она подкралась так незаметно, что
мы даже не уловили момента ее наступления. У всех на лицах один вопрос: что
случилось?
Я подхожу к барометру. Давление падает. Казалось бы, что шторм должен
усилиться. Однако, вопреки барометру, на улице тихо. Минут пять до нас не доносится
ни одного звука. Неожиданно наступившая тишина давит. Когда опять раздается свист
ветра, кто-то из товарищей облегченно вздыхает. Но через десять минут – снова
тишина. Еще шквал – и опять тишина. Это говорит о том, что метель выдыхается.
Все мы высыпаем на улицу. Еще раз налетает шквал. Ветер точно вздыхает —
глубоко и устало. И, наконец, все затихает. Воздух еле колеблется. Почти полный
штиль. Тишина и спокойствие воцаряются вокруг нашей базы. Жестокая двухсуточная
метель кончилась. Только темнота остается прежней. Но и в ней, повидимому, скоро
будет просвет. Об этом свидетельствует усилившийся мороз.
Возвращаемся в домик. Я завожу будильник. В 6 часов 45 минут он подаст свой
голос и откроет новый день. Этот день должен быть звездным.
Улыбка Арктики
«Весь день горели яркие звезды...» Так однажды вечером я начал очередную
запись в дневнике. Начал и остановился. Перечитал фразу. Она звучала так же
необычно, как если бы кто-нибудь сказал: всю ночь светило яркое солнце.
Только необычность страны, в которой мы находились, позволяла говорить о
звездах, мерцающих днем. Это отвечало действительности. И если сейчас я мог
написать о полуденных звездах, то через полгода, не отступая от истины, напишу:
«солнце светило всю ночь». Мы находились в Арктике. Она перевертывает привычные
понятия, раскрывает необычные картины.
Мои мысли прервал стремительно влетевший с улицы Вася Ходов. Одного взгляда
было достаточно, чтобы убедиться – юноша возбужден. Это было необычно. Наш Вася
[124] отличался уравновешенным, спокойным, несколько флегматичным характером, А
сейчас даже распахнутый полушубок свидетельствовал о волнении Васи.
– Скорей на улицу! Все горит!
– Что горит, где?
– Небо горит... все небо! Сияние! Да скорей же, Георгий Алексеевич, а то
кончится.
Я схватил кухлянку. На пороге услышали голос Журавлева:
– Подумаешь, сияние! Да у нас на Новой Земле...
Голос умолк. Оглянувшись, я увидел, что охотник влезает в свою длиннополую
малицу.
...Небо пылало. Бесконечная прозрачная вуаль покрывала весь небосвод. Какая-то
невидимая сила колебала ее. Вся она горела нежным лиловым светом. Кое-где
показывались яркие вспышки и тут же бледнели, как будто лишь на мгновение
рождались и рассеивались облака, сотканные из одного света. Сквозь вуаль ярко
светились звезды. Вдруг вуаль исчезла. В нескольких местах еще раз вспыхнули
лиловые облака. Какую-то долю секунды казалось, что сияние погасло. Но вот длинные








