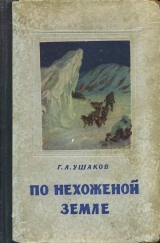
Текст книги "По нехоженной земле"
Автор книги: Георгий Ушаков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
угрожает в темноте полярной ночи – хорошо знали. Если мы не сможем дождаться ее
окончания и будем вынуждены продолжать путь, для собак это может быть хуже, чем
пробежать сейчас последние 40 километров. Поэтому, несмотря на усталость,
отказались от отдыха. Каждый час приближал нас к дому. Следом двигалась и росла в
лунном свете сплошная белая стена.
До дому оставалось уже менее 20 километров, когда усиливающийся ветер начал
соединять отдельные курящиеся ручейки поземки в сплошную несущуюся массу и
поднимать ее над снежными полями.
Некоторые собаки начали отказываться от работы. Особенно плохо дело было у
Гиены. Это была маленькая, трудолюбивая, но малосильная собака. Свою кличку она
получила за постоянно ощетиненную, короткую и жесткую шерсть. Это было у нее
совсем не от злости или трусости, свойственных гиене. Наоборот, она отличалась
прекрасным характером, всегда была веселой, ласковой и добродушной. Ее маленькие
глаза горели умом, а работала она с упоением. Ей всегда казалось, что другие бегут
тихо, и время от времени она подзадоривала их визгом. Во время недолгих остановок в
пути она редко ложилась: крутилась, рвала лямку, повизгивала и нетерпеливо ждала
минуты подъема. Поэтому она и уставала раньше других. А сейчас, при такой работе,
бедняга еще ободрала себе лапы. От усталости она начала падать. Я вытащил ее из
лямки и посадил рядом с собой на сани. Пес прижался ко мне, и когда я гладил его, он
лизал мне руки.
Мороз на ветру стал сильно чувствоваться. Снежная пыль то поднималась, то
прижималась ко льду. Мы влезли в совики. Собаки выдыхались с каждым часом. На
моих санях, рядом с Гиеной, уже сидел Штурман. Луна попрежнему лила свой свет. В
его серебристом потоке мы, наконец, увидели впереди барьер Среднего острова. Бой
был выигран. Отсюда мы могли выйти к нашему домику в любой метели. Это
позволило нам, несмотря на усиливающуюся метель, сделать часовую остановку и
скормить собакам остатки галет. После [138] остановки связали общим ремнем обе
упряжки, чтобы не потерять друг друга в поднявшейся снежной пыли, и, сделав
последнее усилие, в 3 часа 30 минут (7 декабря) подошли к базе.
Этот рейс буквально был вырван у полярной ночи. Всего мы находились в пути 56
часов, спали за это время только 7 часов, а за последние 23 часа прошли 98 километров.
Пока мы распрягали и кормили собак, а потом сами, засыпая за столом, ели яичницу,
метель уже разыгралась по-настоящему. За стенками домика, будто злясь, что упустил
свои жертвы, выл и метался ветер. Нам он был теперь уже не страшен, собакам тоже.
На исходе полярной ночи
Небо было ясным, воздух недвижим. И все же, несмотря на полный штиль, 38-
градусный мороз пробирал до костей. Он обжигал лицо, хватал за руки, едва их вынешь
из рукавиц. Суставы пальцев сначала как бы попадали в раскаленное железо, а через
несколько минут начинали белеть. И после пальцы, даже спрятанные в рукавицы,
некоторое время оставались негибкими и плохо держали предметы. Опушки меховых
капюшонов быстро покрывались изморозью, она оседала на ресницах и бровях.
Поэтому они казались седыми, а мы начинали походить на насупившихся стариков.
Таким было утро 28 января, в которое мы вышли в свой очередной рейс на
Северную Землю. Такой была погода, все время сопровождавшая нас в этой поездке.
Мерзли мы изрядно, но все же это казалось только маленьким неудобством по
сравнению с яркими впечатлениями нескольких дней путешествия.
Перерезав пролив и перевалив через Средний остров, мы вышли на ровный
многолетний лед, ведущий к мысу Серпа и Молота. Дорога благодаря пронесшимся
метелям и сильным морозам была прекрасной. Перемолотый и утрамбованный ветром
снег смерзся в такую плотную массу, что на его поверхности было очень трудно
заметить след тяжело груженных саней. Собаки, тоже поседевшие от инея, бежали
быстро. Не надо было ни помогать им, ни понукать. Сани скользили легко, и у нас не
было нужды соскакивать даже при подъемах на встречавшиеся иногда снежные бугры.
Нам оставалось только сидеть на санях, следить за курсом, посасывать трубки да еще
отогревать пальцы, успевшие закоченеть при раскуривании трубок.
Когда мороз забирался под меха, мы, чтобы согреться, бежали рядом с собаками.
Но они, почувствовав облегчение [139] груза, пускались вскачь, и мы, не выдержав
состязания, вновь прыгали на сани.
Впереди темнел северный сектор неба. На нем горели звезды и плыла полная
луна... Обернувшись назад, мы видели яркую зарю. На северной стороне лившийся
лунный свет освещал льды. Они поблескивали и казались значительно светлее
небосвода, расстилавшегося над ними. На юге льды были окрашены в
густофиолетовый, почти черный цвет, хотя небо там горело яркокрасной зарей. В
прошлый рейс мы ездили при полной темноте, когда нельзя было разглядеть под ногами
белый снег, а теперь перед нами лежал черный снег под относительно светлым небом.
Картина была необычной даже для нас.
Мы нередко оглядывались назад. На фиолетово-черном снежном фоне мы могли
видеть необычный след своего маленького каравана. Тянулся он на несколько
километров в виде сплошной, резко очерченной полосы белесовато-серого тумана,
четко выделявшегося на темном фоне. Температура воздуха в это время приближалась к
– 40°. Капельки влаги, выделяемой при дыхании разгоряченными собаками, тут же
замерзали и превращались в густое облачко, висевшее над упряжками. При нашей
остановке оно не двигалось, но как только мы направлялись вперед, начинало
вытягиваться и образовывать след в виде узкой туманной полосы. В воздухе – ни
малейшего колебания. Туманная линия не рассеивалась, не поднималась и не оседала.
На высоте 2—3 метров за нами тянулся длиннейший непрерывный шлейф. Он
напоминал облако оседающей пыли над большаком, поднятой стадом в знойную
засушливую пору. Только когда позади нас потухла заря и исчезла фиолетово-черная
расцветка снежных полей, когда они вновь заблестели под лунным светом, мы
перестали видеть свой шлейф сколько-нибудь далеко.
Вечером в 43 километрах от базы остановились на отдых. Каждой собаке
вырезали в твердом снегу лунку, и наши помощники, поужинав пеммиканом,
устроились на ночь.
В палатке в этот вечер было холоднее обычного. Намерзнувшись за рабочий день,
мы долго не могли согреться. Стыли ноги; сдвинешь с головы надоевший капюшон,
сейчас же начинают зябнуть уши. Примус яростно шипел, но теплее от него не
становилось.
Разогрели консервы, поели и всячески старались растянуть чаепитие, чтобы
наслаждаться ощущением тепла. В палатке было тесно. Из-за холода мы не снимали
совиков, а эти меховые балахоны делали нас объемистыми. Кристаллизовавшиеся пары
от горячего чая и влаги от нашего дыхания серебристым слоем уже покрывали
внутреннюю сторону палатки. [140]
Свеча сгорала медленно. Температуры ее пламени едва хватало на то, чтобы
растопить охлажденный стеарин только вокруг фитиля. Поэтому, по мере сгорания
фитиля, основание пламени медленно погружалось вниз, а края свечи по-окружности
оставались нерастопившимися и образовывали тускло просвечивающийся цилиндр.
Колеблющийся от наших движений язычок огня лизал верхние края цилиндра,
растапливал их. Стеарин стекал с края цилиндра в сторону пламени и не образовывал,
как обычно, подтеков снаружи свечи. По мере углубления пламени свет постепенно
уменьшался, и внутренность палатки погружалась в сумерки. Тогда мы снимали
нерастаявший стеарин, и свеча загоралась ярче.
Наша беседа, естественно, велась о полярной ночи. Мы вспоминали приключения
минувших лет и сравнивали нашу четырехмесячную ночь с двухмесячной на острове
Врангеля. Мой спутник заявил, что он переживает уже четырнадцатую полярную ночь,
а так до сего времени и не знает, почему она происходит, или, как он выразился, не
понимает «этой механики».
Я ответил ему, что понять механику не трудно, если он не поленится сделать из
снега небольшой шар.
Охотник сейчас же вылез наружу и, повозившись минут пятнадцать, вкатил в
палатку лочти правильный снежный шар, сантиметров 40 в диаметре. Манипулировать
таким шаром в тесной палатке было невозможно. Пришлось «землю» урезать.
Заработал нож охотника, шар уменьшился в диаметре наполовину и мог подойти к
орбите, вырезанной мною на снежном полу палатки. Когда мы тем же ножом нанесли
на «земном шаре» экватор, тропики, полярные круги и соединили полюса
меридианами, я заявил:
– Теперь нехватает только земной оси.
– А какая она?
– Воображаемая, конечно.
– Тогда вообразите, что я вам уже дал ее, – парировал Журавлев.
Я объяснил, что наш опыт будет нагляднее, если мы материализуем земную ось.
Охотник согласился подыскать «что-нибудь покрепче». Через минуту раздумья он
вынул шомпол карабина, проткнул им через полюсы снежный шар, и наша земля
закрутилась на своей оси.
– Хорошо? – спросил охотник.
– Нет!
– А что же еще? Ведь вертится!
– Опущено самое главное, – начал я объяснение, – земная ось стоит у тебя
перпендикулярно, а на самом деле она наклонена к плоскости орбиты под углом 66°33'.
И летом, [141] и зимой, и осенью, и весной, и вообще в любой момент годового бега
земли по ее орбите вокруг солнца этот наклон оси является постоянным и служит
причиной изменения продолжительности дня и ночи. Земля не стеклянный шар – она
не просвечивает. Солнце может освещать только одну половину ее. Другая половина
остается в это время в тени, то-есть там тянется ночь. Если бы земная ось была
перпендикулярна к плоскости орбиты, как она стоит сейчас, то всегда освещалась бы
последовательно какая-либо половина земли от Северного полюса и до Южного. На
всех широтах земного шара день всегда был бы равен ночи, и нам с тобой не надо было
бы путешествовать в темноте и играть в жмурки среди льдов, так как не было бы
никакой полярной ночи.
– Давай проверять. Вот тебе солнце, – продолжал я, поставив в центр орбиты
выгоревшую цилиндром свечу.—Эта свеча совсем похожа на полярное солнце, когда
оно еле просвечивает сквозь туман. Сейчас мы сделаем наше солнце поярче.
Я смял стеариновый цилиндр. Пламя стало ярким. Далее, отмечая точки на
орбите, я показывал, где находится земля по отношению к солнцу весной, летом,
осенью и зимой, а мой слушатель поочередно втыкал вертикально земную ось в эти
точки и крутил земной шар. Свеча, изображавшая солнце, четко освещала обращенную
к ней половину снежного шара от полюса до полюса. Никаких признаков ни полярной
ночи, ни полярного дня не было.
– Теперь поставим земную ось под нужным углом к плоскости орбиты и
посмотрим, что случится.
Мы установили нашу землю на точку весны. Журавлев, растерев замерзающие
руки, привел землю в движение. Картина не изменилась. Свеча попрежнему освещала
половину шара от полюса до полюса. Мой слушатель подозрительно взглянул на
лектора. Я напомнил ему о дне весеннего равноденствия (21 марта), когда на всей земле
день равен ночи, а он вспомнил о таком же дне осеннего равноденствия (23 сентября) и
переставил земной шар в точку осени. Эффект получился замечательный: свеча опять
освещала половину шара, на другой стороне которого лежала четкая тень.
Пора было продемонстрировать полярную ночь и полярный день. Наш земной
шар стал на точку зимнего солнцестояния (22 декабря). Северный полюс оказался
обращенным в противоположную сторону от солнца. Густая тень легла на все
пространство внутри Полярного круга. О, как она была понятна для нас! Сколько
переживаний и приключений было связано с ней! Я заметил, что рука Журавлева начала
[142] задерживаться. Земля под ней крутилась медленнее. Охотник вновь переживал
свои четырнадцать полярных ночей... Я взял из его рук шар и переставил его в точку
летнего солнцестояния (22 июля). Северный полюс повернулся к солнцу. Свет залил
Полярный круг. Полярная очь передвинулась к Южному полюсу. При вращении шара
приполярные пространства все время оставались освещенными. На севере воцарился
полярный день. Это было наше будущее. К нему мы шли. Полярная ночь еще
господствовала, могла принести нам еще много испытаний, но впереди был день! Да
еще какой: целых четыре месяца солнце не будет прятаться за горизонт!
Мы не спешили убрать свою землю из этого положения, словно в
действительности видели над Арктикой солнце и старались насладиться его светом.
Потом, передвигая шар по орбите против хода часовой стрелки, мы проследили,
как освещенный внутри Полярного круга район все более и более суживался, как в
местах, ранее освещенных круглые сутки, день начал чередоваться с ночью, как они
сравнялись, как вслед за этим Северный полюс перестал освещаться и на нем наступила
полярная ночь, как увеличивалась, равномерно расползаясь от полюса, неосвещенная
зона, а потом после прохождения точки зимнего солнцестояния тень снова начала
сужаться. Мой слушатель наяву увидел, что наступление полярной ночи начинается на
полюсе и что здесь она тянется полгода. Столько же продолжается на полюсе и
полярный день. Чем дальше к югу от полюса расположена точка, тем короче будут и
полярная ночь и полярный день, пока, наконец, полярная ночь и полярный день не
будут равняться только одним суткам. Граница этого района и называется Полярным
кругом. Она проходит на широте 66°33'. На этой широте один день в году солнце не
показывается из-за горизонта и один день в году не заходит. Вблизи Полярного круга
полной полярной ночи фактически не бывает, так как свет скрытого за горизонтом
солнца рассеивается атмосферой и поэтому в середине дня здесь наблюдаются более
или менее слабые сумерки. Да и в высоких широтах благодаря свойству атмосферы
рассеивать свет настоящая ночь наступает не сразу. Почти в течение месяца после
захода солнца, пока оно еще сравнительно недалеко за горизонтом, в полуденные часы
на юге горит заря. Она появляется вновь в последний месяц полярной ночи, когда
солнце начинает приближаться к горизонту, точно так же, как в средних широтах мы
наблюдаем вечернюю и утреннюю зарю.
Наша беседа продолжалась несколько часов. Журавлев еще несколько раз оживлял
«солнце», переставлял снежный шар в различные точки орбиты, рассматривал рисунок,
[143] сделанный мною на листке дневника, и проверял мои объяснения.
Наконец он заявил:
– Теперь все ясно. Механика не столь уж хитрая. Все понимаю и, если
понадобится, сам сумею объяснить даже моржу.
– Конечно, сумеешь, если он успеет задать вопрос, пока ты берешь его на
прицел.
– Ну, уж это будет зависеть от его расторопности.
– В таком случае он никогда не узнает о причине полярной ночи, – заключил я.
Мы выпили еще по кружке почти кипящего чая и полезли в спальные мешки.
На следующий день, в 7 часов, опять в пути. Впереди еле уловимым пятном
виднелся мыс Серпа и Молота. Собаки работали старательно. Дорога, как и накануне,
была хороша. Только при подходе к самой Земле на нашем пути, как я в тот рейс, легла
полоса голого льда; но сейчас она сильно сузилась.
Около полудня дошли до склада. На этот раз, без обхода острова Среднего и почти
не отклонившись от курса, все расстояние от базы до склада мы уложили в 76
километров.
На складе все было попрежнему. Ни одного следа – ни медвежьего, ни песцового.
Сложили груз, вскипятили чай и после двухчасовой передышки направились обратно.
Сначала попытались пустить собак по проложенному следу, но, немного покрутив,
пришли к заключению, что придерживаться его бесполезный труд. На твердом снегу
следа совсем не было видно. Только посмотрев против луны, можно было разглядеть
узкие блестящие полоски отполированного снега – это и был след наших саней.
Против света зари нельзя было обнаружить и этого признака. В южной стороне, как и
накануне, по контрасту с яркокрасной зарей, все тонуло в фиолетово-черном цвете. Он
был настолько густым, что создавалось полное впечатление погружения в ночь. Однако
стоило повернуться назад, и взглянуть против светящей луны, как уже не было и
признаков темноты.
По черно-фиолетовому льду мы шли, точно слепые. Едва передние сани уходили
на расстояние 300—400 метров, как терялись из виду. Один раз, выпустив спутника
вперед, я совершенно потерял его и решил было двигаться самостоятельно. Но
поскольку он был южнее и для него видимость была лучше, он разглядел меня и
повернул навстречу. Потом повторилось явление, наблюдавшееся накануне. Опять над
упряжками появилось облако пара. Оно вытягивалось в шлейф. Однако время от
времени то с одной стороны, то [144] с другой начинал тянуть ветерок. Он рвал наш
шлейф и относил от линии пути.
Термометр показывал 41° ниже нуля. Донимал мороз. Хотелось проглотить чего-
нибудь горячего. Но ставить палатку и терять время нам не хотелось, и мы
ограничились холодной закуской. Еда была у каждого за пазухой. Еще утром каждый из
нас, на всякий случай, взял из саней по банке замерзших мясных консервов и сунул под
меховую рубаху. Теперь мы могли закусить, не оттаивая консервы на примусе и не
теряя времени.
Заря постепенно угасала. Прозрачный, как кристалл, свет луны сгонял со льдов
черно-фиолетовую тень. Темное поле исчезло. Погода попрежнему стояла прекрасная.
В таких случаях обычно говорят: «погода благоприятствовала». Это протокольное
выражение мало что говорит. На этот раз она просто баловала нас. Это не шутка: 40-
градусный мороз в тихую погоду действительно всего лишь баловство по сравнению с
20-градусным при сильном ветре.
На этот раз мы даже забавлялись морозом. Вынешь из рукавицы руку – мороз
обожжет ее точно кипятком. Возмешься за что-либо – мороз, как электрический ток,
пронизает до костей. Утянешь закоченевшие пальцы за пазуху, отогреешь и опять
пробуешь «щупать» леденящий воздух.
Сани были легкими. Собаки отмеривали километр за километром. Впереди шел
Журавлев, я пустил свою упряжку по следу, а сам лег на сани и засмотрелся на небо. С
востока на запад перекинулся фантастический частокол полярного сияния.
Разноцветные лучи вспыхивали, гасли или молнией уносились куда-то в бесконечность.
Иногда они замирали на месте, развертывались в ленты, образовывали гигантские
световые занавесы, потом вновь рассыпались и замирали, чтобы через минуту
вспыхнуть еще ярче. Мне вспомнилось, что старики-эскимосы говорят, будто это

танцуют души усопших. И сейчас мне показалось, что полярное сияние красивее самой
мечты о бессмертии.
Как ни красиво полыхало сияние, все же на этот раз владычицей неба была луна.
Она точно решила залить землю своим светом. Необычайно яркая, она выглядела такой
близкой, что, казалось, можно дотянуться до нее рукой. Беспрерывным, сплошным
потоком лились ее лучи и как тончайшие серебряные струны соединялись с
блестевшими ледяными полями.
На отдых мы остановились только в 34 километрах от мыса Серпа и Молота.
Мороз забирался в спальные мешки и несколько раз будил нас. К утру он превратил в
замерзшие комки отсыревшие рукавицы и капюшоны. Прежде чем надеть [145] их,
надо было оттаять их около примуса и размять. Для нас это было уже обычным
занятием, маленькой бытовой деталью в санном путешествии. День был таким же
ясным. Мороз удерживался. Шли опять против зари. Снова теряли и разыскивали друг
друга. Это заметно удлинило путь. На 46-м километре от ночлега прибыли на базу,
проделав, таким образом, 156 километров за 48 часов.
Запасы нашего склада на Северной Земле увеличились еще на 350 килограммов
пеммикана. А память запечатлела три чудесных перехода, еще более приблизивших нас
к выполнению задач экспедиции. [146]
Февраль был на удивление теплым. Его среднемесячная температура оказалась
значительно выше январской. Почти весь месяц преобладала пасмурная погода.
Сплошная облачность тушила нарастающие полуденные сумерки, и в феврале мы
меньше видели света, чем в январе. Темнота и несколько сильных метелей весь месяц
продержали нас на базе. Только с появлением солнца, которое из-за пасмурной погоды
мы увидели вместо 20-го только 24 февраля, вновь установилась ясная и холодная
погода. Очередной бросок на Северную Землю мы с Журавлевым сделали 24—26
февраля при морозе, достигшем 45°. А 2—4 марта мы завезли на мыс Серпа и Молота
пятую партию продуктов.
С последней поездкой на нашем североземельском складе мы сосредоточили
около 1 700 килограммов продовольственных запасов и топлива. Здесь было полторы
тонны собачьего пеммикана, шестьдесят литров керосина, мясные консервы, галеты,
пеммикан для людей и винтовочные патроны. Это был солидный запас, почти
обеспечивающий план маршрутных работ, намеченных на весну 1931 года.
Теперь надо было перебросить часть продовольствия километров на 100—150 к
северу от мыса Серпа и Молота и оборудовать [147] дополнительное депо на будущем
северном маршруте экспедиции. После этого мы предполагали заложить депо для работ
в центральной части Земли. Чтобы завезти туда продукты, необходимо было найти путь
через Северную Землю ну широте, близкой к широте главной базы экспедиции, и выйти
на восточный берег Земли.
В половине апреля незаходящее солнце должно было подняться достаточно
высоко, что обеспечивало необходимую точность астрономических наблюдений;
морозы к тому времени уменьшатся и не будут затруднять полевых работ.
Таким образом, для окончания оборудования продовольственных депо оставалось
еще пять недель. Но из них не меньше недели надо было сбросить на отдых собак. За
остающееся время предстояло закончить все подготовительные работы.
Четырех недель как будто было вполне достаточно для этого. Однако необходимо
было помнить о метелях, туманах и возможных трудностях неизвестного пути как к
северу, так и к востоку при пересечении Земли. Непогода могла задержать нас и сильно
сократить количество рабочих дней. Поэтому, не считаясь с трудностями, надо было
спешить с окончанием подготовительных работ, от которых зависел успех съемки и
исследования Земли.
7 марта мы с Журавлевым вышли в новый поход с целью пройти к северу от мыса
Серпа и Молота. Отправляясь с базы, мы погрузили в сани 125 трехкилограммовых
банок пеммикана, один ящик мясных консервов и бидон керосина. Включая
снаряжение, расходное продовольствие и топливо на 15 суток, на каждые сани
приходилось по 250 килограммов. На североземельском складе мы должны были
довести загрузку саней до 330—350 килограммов.
Но на этот раз не груз беспокоил меня и не метели, не мороз, не трудности пути.
Наоборот, хотелось, чтобы трудностей встретилось побольше. У меня лежал тяжелый
груз на душе. Его нельзя было ни взвесить, ни измерить. И предстоящие трудности
могли только помочь развеять этот груз в ледяных пространствах.
Наши поездки с охотником, всегда напряженные из-за темноты полярной ночи,
сильных морозов и метелей, из-за опасности потерять друг друга в темноте или
погубить собак, действовали на нас возбуждающе, вызывали спортивное чувство.
Ледяное раздолье веселило нас, опасность обостряла вкус приключений, а борьба
пьянила своим азартом.
Мой товарищ, выросший и закалившийся в такой обстановке, привык
противопоставлять силам природы свои собственные силы, упорство и дерзость. На
промысле, а еще больше [148] в наших поездках, он буквально преображался,
становился еще более сильным и выносливым. Для него это была настоящая работа, в
которой проявлялись лучшие черты его характера. Журавлева как бы покидала
присущая ему внешняя грубоватость, иногда делавшая его тяжеловатым в общежитии.
В дороге он был весь устремлен вперед и напряжен, точно стальная пружина. Это
почему-то пробуждало в нем чувства, не проявлявшиеся в нормальной обстановке. На
базе он, как правило, был совершенно равнодушен к мощным проявлениям полярной
природы. Другое дело в пути. Здесь надо было бороться с разгулом стихии. Здесь она
была настоящим врагом – мощным, жестоким и упорным. И эту силу Журавлев
чувствовал в походах, оценивал и нередко восхищался ею. Иногда, прислушиваясь к
вою ветра, он кричал мне:
– Вот лешой! Ну и свистит! Силища-то какая! – неподдельный восторг
слышался в его голосе.
Или в жгучий мороз он бросал свою упряжку, подбегал ко мне, обнажал руку и,
сжав кулак, говорил:
– Смотри, как белеют суставы. Не успеешь спичку зажечь и прикурить, а они уже
побелели! Вот здорово!
Самым приятным для него ответом на это было следующее: я молча вынимал
трубку, набивал ее табаком, зажигал спичку, и мои суставы тоже успевали побелеть.
Тогда он восхищенно говорил:
– Вот видишь! Это не Крым! Не дома на печке! Смотри в оба!
И ему нравилось смотреть в оба.
Часто его старинные поморские песни – о море, о ветре, о волнах, об одиноком
моряке «и ожидающей морячке – слышались над льдами. Ветер подхватывал их и
уносил в бесконечные просторы.
Чем напряженнее складывалась обстановка, тем собраннее и вместе с тем
оживленнее становились мы. Оба мы умели ценить борьбу и крепко верили друг в
друга. В самые тяжелые минуты были уверены в одном: «Выйдем!» И выходили. Это
придавало нам гордости. Шутка, смех и песня были обычны в такие минуты. И наше
настроение не было искусственным. Просто так проявлялась радость жизни и
убеждение, что человек сильнее слепой стихии.
Совместные поездки были для нас почти праздником. Я невольно любовался
своим спутником, а он, чувствуя это, вкладывал в нашу общую работу все свои силы,
способности и опыт.
Ему давно хотелось, как он говорил, «промахнуть» мимо мыса Серпа и Молота.
Приходилось сдерживать его пыл, пока на североземельском складе не накопилось
достаточно запасов. [149]
Теперь, зная, что начатая нами поездка приведет к новым, неизвестным берегам и
сулит много приключений, он был оживлен, пел и шутил. Я всегда старался находить
ответы на эти шутки и умел поддерживать его боевое настроение. Но теперь вынужден
был для этого делать над собой усилия. Мой товарищ еще не знал о постигшем его
несчастье. И мне предстояло сообщить ему об этом.
...Случилось это еще в январе. Однажды вечером я заметил, что обычно
спокойный Вася Ходов вышел из радиорубки чем-то сильно встревоженный. Он шагнул
было ко мне, но резко повернулся, надел полушубок и вышел из домика. Я вышел на
улицу. Несколько собак, вынырнув из мрака, бросились ко мне ласкаться. Радиста не
было видно. На мой окрик Вася не ответил. Решив, что он хочет побыть один, я
вернулся к работе. Но встревоженное лицо юноши стояло перед глазами. Что-то
случилось. Я снова решил пойти и разыскать Ходова, но в дверях столкнулся с ним.
– Вася! Что случилось? – тихо спросил я.
Вместо ответа он указал на жилую комнату и еще тише осведомился:
– Спит?
Я утвердительно кивнул головой. Ходов провел меня в радиорубку, вытащил из
папки листок бумаги и, подавая его, с тревогой проговорил:
– Что делать?
Я прочитал:
«Северная Земля Журавлеву
Шурик и Валя безнадежно больны.
Мария».
Закружились мысли: «Телеграмма от жены... Маленький Шурик – совсем
ребенок... Пятнадцатилетняя Валя – дочь Сергея, светловолосая, голубоглазая
девочка... Оба больны... Как крепко обнимала девочка отца при прощании. С какой
любовью он смотрел в наполненные слезами глаза дочери... Но что значит безнадежно
больны? Откуда мать знает, что безнадежно? Разве может она терять надежду? Что
заставило ее так написать? Повидимому, смерть, только смерть! Мать не скажет
«безнадежно», не испытав все средства спасения. Значит, уже нет ни маленького
Шурика, ни голубоглазой Вали...»
Но что же делать? Ведь Журавлев так тоскует по детям, так часто вспоминает о
них. Что делать?
Мы недавно вступили в середину полярной ночи. На нашей широте она плотно
окутывала Арктику своим темным покрывалом. Признаков света еще не было. Полдень
не отличался от полуночи. Только луна, при ясном небе, окрашивала [150] в пепельно-
серебристый цвет ледяные просторы. При ее прозрачном свете мы сделали с
Журавлевым первый запомнившийся рейс на Северную Землю, ездили на соседние
острова – то для осмотра капканов, то просто для моциона и тренировки. Потом одна
за другой налетали метели. Непогода и темнота держали нас в домике или около него.
Тогда мы работали дома, много читали, играли в домино или слушали радиопередачи.
В половине января мы ждали появления первых признаков зари, а в двадцатых
числах февраля должны были увидеть солнце. Ждать оставалось недолго. Но пока что
полярная ночь все еще накладывала сильный отпечаток на наше настроение.
Спокойнее всех переносил ночь Ходов со своими еще нетронутыми нервами.
Труднее было Журавлеву. Его деятельная натура тяготилась частым вынужденным
сидением. Все тосковали по свету, по солнцу и еще больше по Большой Земле, по
родным и по привычным бытовым условиям. Мечтали о весне и походах на Северную
Землю. Это было тоже нашим общим, сближало нас, хотя мы и отличались друг от
друга характерами.
Чувство ответственности за товарищей, за дело, которое мы только что начали,
обязывало меня не поддаваться настроениям полярной ночи и следить за
самочувствием товарищей. Надо было во-время развеселить загрустившего, разрядить
почему-либо наступившее тяжелое молчание, предупредить чье-нибудь неуместное
колкое выражение, уметь выслушать каждого – так или иначе ослабить создавшееся за
время полярной ночи нервное напряжение. Я угадывал почти все изгибы и зигзаги в их
настроениях, не упускал из виду подъема и упадка духа.
...Полученная радиотелеграмма, кроме беспокойства за Журавлева, уже ставшего
для нас близким человеком, естественно, наводила и на другие мысли. Надо было
учитывать, как скажется на нем это сообщение. Не могло быть сомнения, что жена
Журавлева словами «безнадежно больны» хотела подготовить мужа к более страшному
– известию о смерти детей. Поступившая телеграмма – еще не сама катастрофа. Отец
не поверит в безнадежность положения, пока не получит рокового, но точного
подтверждения. Когда оно придет? Сколько человеку предстоит мучиться? И найдет ли
он в себе силы пережить вторую печальную телеграмму, если ей суждено поступить?
Сильная, но резкая и своенравная натура Журавлева так же резко проявится и в горе. Во
что превратится тогда наш маленький коллектив, затерянный во льдах Арктики и в
темноте полярной ночи? [151]
Вертелась в голове и еще одна мысль. Может быть, мои рассуждения
неправильны. Может быть, слово «безнадежно» вырвалось у женщины только под
влиянием испуга в силу материнской мнительности! Может быть, уже завтра придет
сообщение, что опасность миновала, что дети поправляются!..
Многое передумалось. Мысли крутились, точно снег в метель. Надо было
принимать решение. Ходов ждал моего слова.
– Такую телеграмму Журавлеву показывать нельзя, – сказал я. – Разговор с
ним возьму на себя. Вероятно, завтра-послезавтра будет еще сообщение. Какое бы оно
ни было – дашь мне. А дальше посмотрим.
– Понятно, – ответил Ходов и пожал мне руку.
Телеграмму я положил в свой стол и запер ящик на замок.








