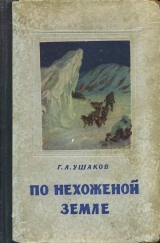
Текст книги "По нехоженной земле"
Автор книги: Георгий Ушаков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
В конце минувшего лета с ним случилось новое происшествие. Однажды
преследуемый нами медведь залез в небольшую промоину. Уйти ему было некуда, а мы,
чтобы потом не вытаскивать из воды тяжелую тушу, старались выманить его на лед и
отгоняли окружавших зверя собак. Но медведь предпочитал оставаться в воде, скалил
клыки, рявкал и точно от мух отмахивался лапой от особенно назойливых
преследователей. Вдруг подлетел Ошкуй, почему-то отставший от своры. Не замедляя
бега, он обвел взглядом поле сражения, как бы говоря остальным собакам: «Эх вы! Не
умеете расправиться с каким-то медведем! Посмотрите, как это делается!» И, сделав
прыжок, вцепился зубами в горло могучего зверя.
В следующее мгновение медведь взмахнул лапой. Ошкуй описал в воздухе крутую
дугу и без движения распластался на льду.
Поврежденный череп и вывихнутая нижняя челюсть были расплатой за отважный,
но безрассудный подвиг. Казалось, что судьба нашего Ошкуя решена. Но в нем еще
теплилась жизнь. Нам удалось вправить ему челюсть и полуживого, с забинтованной
головой, отнести на базу.
Положение пса было очень тяжелым. Мы кормили его с ложечки. Благодаря
нашим заботам он поправился. [377]
Ничто не могло сломить у Ошкуя воли к жизни и преданности человеку. Он
остался работящей, понятливой, ласковой и попрежнему безмерно отважной собакой.
Но пережитые увечья дают себя знать. Ошкуй потерял возможность открывать рот
и высовывать язык; он не только не может разгрызть кусок мерзлого мяса, но даже
схватить его зубами. Пищей его теперь является болтушка из пеммикана или мелко
нарезанные кусочки талого мяса.
Ошкуй, как и раньше, работает в моей упряжке и единственный из всей своры
пользуется правом всегда оставаться на свободе в лагере. При кормежке собак он
обычно смирно сидит в сторонке. Но стоит мне скрыться в палатке и разжечь примус,
как он сквозь парусину принимается тыкаться носом в мою спину, напоминая о себе.
Достаточно сказать: «Подожди, Ошкуй! Сейчас ты получишь свой ужин!», и пес
успокаивается. Он подолгу, точно через соломинку, сосет из банки жидкую
пеммикановую кашицу. Но больше всего пес бывает доволен, когда я нарезаю ему
сантиметровые кусочки свежего мяса, которые он может глотать не разжевывая. Тогда
он выразительно смотрит в глаза, прыгает, трется о мои ноги и всячески старается
показать свою благодарность.
Наевшись, Ошкуй устраивается на ночлег поближе к входу в палатку. Спит он
чутко, и если появляется медведь, первым извещает нас о приближении зверя своим
странным лаем, напоминающим отрывистое мычание, и стремительно бросается в
атаку.
Вероятно, он жалеет лишь об одном – о невозможности участвовать в драках.
Когда начинается всеобщая свалка, Ошкуй только бегает вокруг дерущихся и мычит, а
когда особенно огорчается вынужденным положением болельщика, то садится в
сторонке и, подняв голову, жалобно воет, словно жалуется самому небу на свою участь,
лишившую его возможности принимать участие в излюбленном спорте.
Главным зачинщиком большинства драк, как и раньше, является неисправимый
Бандит. Но теперь у него появился достойный преемник из семейства «марсиан». —
семимесячный пес, неутомимый задира и драчун Петух. Это стройная красивая белая
собака. Только под левым глазом у Петуха большое черное пятно. Журавлев говорит,
что пес получил этот «фонарь» в первой драке, затеянной им еще в утробе матери.
Сильный и отважный Петух, должно быть, считает потерянным в своей жизни всякий
день, обошедшийся без потасовки. Нередко он ухитряется затеять свалку даже на ходу в
упряжке. Его хозяин в таких случаях, усмирив бойцов, долго и терпеливо распутывает
клубок из десяти собак, [378] крепко стянутый перепутавшимися шлейками и
постромками; но он довольно благодушно относится к зачинщику драк, прощая ему
проказы за отличную работу.
Вместе с Ошкуем и Бандитом идут в упряжке уже знакомые нам: коренастый,
немного кривоногий Штурман, колымчанин Юлай, рыжий Лис, всегда ощетинившаяся,
но на удивление беззлобная Гиена, заслуженный медвежатник Тяглый и другие, менее
приметные в нашей стае, но в большинстве своем трудолюбивые ветераны наших
походов. Все они после страшного путешествия в распутицу восстановили свои силы и
попрежнему беззаветно трудятся.
Лишь несколько псов стали инвалидами. Они остались на базе. На смену им
заступило молодое поколение североземельцев – семейство наших «марсиан». Все они
выросли в прекрасных работников и трудятся со всем пылом юности. Быстрый,
сообразительный и сильный Тускуб идет моим передовиком рядом с отяжелевшим для
этой роли белоглазым Юлаем; бок о бок работают Гор и Лось. Ихошка старательно
тянет лямку и, повидимому, тоскует по своей сестре Аэлите, оставшейся на базе в
ожидании своего первого потомства; чудесным работником стал когда-то маленький
забавник и лакомка Перевернись. Беда только в том, что он никак не может избавиться
от условного рефлекса, связанного с его кличкой. Его совершенно нельзя называть по
имени во время работы. Стоит лишь неосторожно крикнуть: «Перевернись!», как пес
кубарем летит через голову, путает свою лямку, останавливает всю упряжку и потом,
помахивая пушистым хвостом, ждет, по его мнению, заслуженного вознаграждения.
Таковы на этот раз наши помощники и друзья, участники самого большого
североземельского похода, помогающие нам передвигаться за сотни километров к
новым неведомым берегам. Благодаря их выносливости мы уже стоим на берегах
пролива Шокальского.
Впереди, на юге четко рисуются берега острова Большевик.
* * *
Утром экспедиция начала пересечение пролива Шокальского. Курс был взят на
восток, на ближайшую точку противоположного берега. Ширина пролива здесь не
превышает 25 километров.
Льды, как мы и предвидели, здесь были менее торошенными и торосы лежали
лишь в непосредственной близости к острову Октябрьской Революции. Преодолев
первую, береговую гряду ледяных нагромождений, дальше мы уже не встречали
трудных препятствий. [379]
На шестом километре пути все торосы остались позади. Но мы вскоре пожалели о
преждевременной радости по поводу нашей удачи.
Мелкие, полузанесенные снегом торосы доставляли нам мало хлопот. Надо было
лишь энергичнее шевелиться, чтобы во-время отвести сани от удара о льдину, не давать
им перевертываться, помогать собакам преодолевать какое-либо препятствие или же
направлять упряжку в обход торчащей льдины. Об особых трудностях, тем более
опасностях пути по таким льдам, не могло быть и речи. Но то, что мы встретили
дальше, заставило нас остановиться и крепко призадуматься, прежде чем продолжать
путь.
Мы опять наткнулись на полосы молодого льда, покрывавшего недавние разводья
и широкие трещины. Он был еще темным и тонким. Полтора месяца назад, несколько
западнее нашего маршрута, мы натолкнулись на такой же лед. Встреченные нами
теперь полосы не могли образоваться в то время. За прошедшие полтора месяца они
должны были «повзрослеть» и окрепнуть. Оставалось предположить, что недавно
произошел новый напор льдов. Торошение в центральную часть пролива не проникло,
но на ледяном поле образовались широкие, теперь затянувшиеся, трещины. Они лежали
поперек нашего пути и уходили за пределы видимости на юг и север. Обходить их не
хотелось, но и переправа отнюдь не сулила удовольствия.
Мы разложили по саням продовольствие и керосин с таким расчетом, чтобы в
случае несчастья с какой-либо упряжкой не остаться без самого необходимого.
Только после тщательной разведки я пустил свою упряжку на первую опасную
полосу. Следующая упряжка, чтобы не увеличивать нагрузку на лед, должна была итти
на почтительной дистанции. На санях этой упряжки лежал приготовленный моток
крепкой бечевы-стоянки на случай несчастья с моими санями и необходимости в любой
момент прийти на помощь.
Лед прогибался, потрескивал, но выдерживал. Все же итти по нему было опасно,
так же как по стеклу, лежащему над бездной. Невольно становилась ощутимой тяжесть
собственного тела, и я был бы рад весить меньше своих 80 килограммов. Оставалось
надеяться на резвость собак, подгонять их всеми способами. Остановка грозила не
только холодной ванной, но и катастрофой.
Пролетев через одну полосу молодого льда, мы благодарили судьбу, но впереди
показывался новый опасный участок. Такие полосы следовали одна за другой. Сначала
они достигали ширины 500—600 метров, потом стали уже и только на последней трети
пути исчезли совершенно. [380]
Дальше шел крепкий ровный лед, повидимому, не вскрывавшийся со дня
замерзания пролива.
Переход закончили спокойно. Около полуночи мы разбили лагерь на берегу
острова Большевик, в устье неизвестного нам фиорда.
Прошло девять суток, как экспедиция оставила свою базу. Место работ было
достигнуто. Точно приветствуя нас, в полночь по небу катилось незаходящее полярное
солнце. Одновременно с выходом на остров Большевик мы вступили в беспрерывный
четырехмесячный день.
Лучшего нельзя было и пожелать.
Вдоль берегов острова Большевик
«23 апреля 1932 г.
Вторые сутки стоим лагерем в точке выхода на остров Большевик. Новостью этих
дней является потеря свободы Ошкуем. Наш ветеран, как и все остальные собаки, сидит
на цепи. Временами он недоуменно мычит, а когда ветер налетает с берега,
безрезультатно пытается снять тугой ошейник и вновь обрести свободу.
Дело в том, что еще при первом посещении острова с Журавлевым мы наткнулись
на берегу на свежие следы оленей. Это было полной неожиданностью. Ни на острове
Октябрьской Революции, ни тем более на острове Комсомолец мы не встречали
никаких следов современного обитания оленя на Северной Земле. Только однажды на
берегу залива Сталина мы нашли старый олений позвонок да на островах Седова были
обнаружены полуистлевшие, обросшие мхом оленьи рога. И то и другое могло быть
занесенным морскими льдами с сибирского побережья и никак не свидетельствовало о
наличии живых оленей. Животные, обнаруженные нами на острове Большевик, были
для нас радостной находкой, а сама Северная Земля с этого момента стала казаться нам
совсем землей обетованной.
Журавлев тогда долго зачарованным взглядом рассматривал на снегу отпечатки
копыт и разминал в руках свежие оленьи орешки. А когда на одной из ближайших
возвышенностей показалась тройка живых оленей, охотник совсем потерял
самообладание – одним движением он перевернул сани, свалил в сугроб весь груз и
пустил свою упряжку в обход животных. Стоявшая тишина и сильный мороз помешали
охоте. Чуткие звери издалека услышали скрип снега. Бык сначала замер на месте.
Потом высоко поднял голову и стелющейся рысью моментально скрылся из виду. За
ним умчались важенка и годовалый теленок. [381]
Олени были так красивы, а встретить их на Северной Земле было так приятно, что
я тогда, кажется, впервые порадовался охотничьей неудаче товарища. Журавлев,
конечно, не разделял моего удовольствия и готов был оставаться на острове до тех пор,
пока ему не удастся попробовать свежей оленины. Пришлось проявить настойчивость
и, рискуя нашей дружбой, уже на следующий день увезти охотника с острова.
Вчера, разбив лагерь, мы полезли вверх по обрывистому склону берега и
оказались на первой ярко выраженной террасе.
Местами она совсем узкая, а местами достигает нескольких сот метров, но всюду
лежит ровным поясом. А выше за ней находится вторая, менее ярко выраженная и более
древняя терраса, заваленная щебнем, принесенным сюда ледниками. Обе террасы
выглядят гигантскими ступенями перед блестящим амфитеатром ледника,
виднеющегося в глубине острова.
С первого взгляда, как и всюду на Северной Земле, страна казалась совершенно
мертвой, – камень, снег и лед, и ничего живого. Но и здесь, уже на первой террасе, мы
наткнулись на следы оленей. Крупные отпечатки копыт быков чередовались с более
мелкими следами важенок и совсем игрушечными следами телят. По всем признакам,
олени кормились здесь лишайниками и мхами совсем недавно и исчезли
незамеченными лишь в момент нашего приближения к острову. Недаром собаки при
подходе к берегу поражали нас своей прытью.
Следы животных показывают, что тройка оленей, встреченная в первом рейсе на
остров, не случайное явление и что остров Большевик богаче жизнью, чем все
остальные, более северные острова архипелага.
Наряду с оленьими мы нашли и следы песцов, обычно сопровождающих оленей и
лакомящихся их орешками. А ночью жизнь проявлялась в еще более привычных нам
объектах. К лагерю подошла медведица с двумя малышами. Все время настороженные
собаки издали заметили гостей, подняли лай и заставили броситься наутек все
семейство. У нас не было нужды в мясе, и мы, отказавшись от верной добычи, легко
смогли показать свое великодушие.
* * *
Перед утром налетела метель. Она скоро ослабела, но сильная поземка не
располагала к выходу, и мы решили осмотреть и заснять лежавший рядом фиорд.
Потратили весь день, но отнюдь не жалеем об этом. [382]
Фиорд, получивший с сегодняшнего дня имя Тельмана, почти на 15 километров
врезается в глубь острова. На выходе в пролив Шокальского он достигает ширины трех
километров, а к вершине сужается до одного километра. Здесь в него впадает
небольшой ледник. Он еще живет, продолжает двигаться, ломать морские льды и давать
небольшие айсберги, но все же является только жалким остатком былого величия эпохи
сплошного оледенения, когда льды огромной мощности доходили до открытого моря и
в своем неудержимом течении пропахали глубокое ущелье в горных породах.
Теперь о минувшей силе ледника молча свидетельствуют берега фиорда,
достигающие в некоторых местах значительной высоты. Скалы почти отвесно падают к
воде и даже в ясный, солнечный день производят необычайно сильное впечатление
своей мрачностью... Вечером ветер вновь усилился, и сейчас за палаткой гудит метель.
27 апреля 1932 г.
Лагерь экспедиции на мысе Неупокоева. Это самая южная точка Северной Земли.
По одну сторону лагеря Карское море, по другую пролив Вилькицкого. Сейчас
выглядят они совершенно одинаково. Как к западу от мыса, так и к юго-востоку лежат
сильно торопленные льды, с той лишь разницей, что в проливе торосы значительно
мощнее и более свежей ломки. Высота их здесь достигает 8—9 метров. Огромные
многометровые льдины часто стоят ребром, а пространства между ними засыпаны
свежим пушистым снегом. Час назад мы попытались гнаться по ним за подошедшим
медведем, но скоро бросили безнадежную затею. Даже собаки скоро охладели к охоте в
таких условиях и тут же вернулись в лагерь. Торосы совершенно непроходимы.
Хорошо, что берега самого мыса представляют плоскую равнину, опоясанную
многочисленными намывными косами и небольшими лагунами, создающими сейчас
идеальные условия для санного передвижения.
Расстояние между фиордом Тельмана и мысом Неупокоева мы покрыли в четыре
сравнительно легких перехода. Только на первом переходе за нами беспрерывно гналась
сильная поземка, иногда усиливающаяся до метели. Однако ветер, дувший нам в спину,
не мог помешать вести съемку четко выраженных берегов пролива Шокальского,
идущих к юго-западу почти по прямой линии.
В конце второго перехода миновали наш продовольственный склад. Тащить
содержимое его вокруг мыса Неупокоева не было никакого смысла. Взяли с собой
только немного пеммикана. За остальным решили вернуться налегке с южного берега с
расчетом пересечь юго-западную часть острова чуть [383] севернее горы Герасимова.
Это облегчило последние переходы и дало нам возможность подробнее познакомиться с
этой частью Земли.
Погода пасмурная. Будем ждать появления солнца для астрономических
наблюдений.
3 мая 1932 г.
Определение астрономического пункта на мысе Неупокоева закончили 28 апреля.
Через два перехода вдоль южного берега Земли мы оказались на расстоянии 47
километров к северо-востоку от мыса и 115 километров от нашего продовольственного
склада. Отсюда, по нашим расчетам, было всего ближе до склада при движении по
прямой линии через Землю.
Утром 1 мая, сложив в одной из маленьких бухточек весь груз, кроме палатки,
спальных мешков, примуса и четырехдневного запаса продовольствия, двинулись через
Землю. Погода стояла пасмурная, иногда порошил снег. Прибрежная равнина сливалась
с белесоватым небом. Отдельные обнаженные из-под снега вершины редких холмов,
казалось, висели в воздухе. Единственным ярким пятном был наш флаг, развевавшийся
над санями по случаю праздника. Только перед подъемом на возвышенность погода
несколько улучшилась, и мы без особого труда нашли доступный склон. На высоте 240
метров достигли наивысшей точки перевала. Гора Герасимова, представляющая собой
скалистый юго-западный обрыв возвышенности, осталась слева от нашего пути. На
северо-востоке смутно виднелся ледниковый щит.
Спуститься с возвышенности оказалось труднее: северозападные склоны ее очень
крутые, местами обрывистые. Преодолев их, мы вновь вышли на высокую террасу, уже
виденную нами ранее со стороны пролива Шокальского.
Казалось, что теперь мы уже не встретим серьезных препятствий. Однако на 15-м
километре пути от возвышенности мы неожиданно уперлись в узкий каньон с
отвесными берегами, глубиной около 40 метров. Невольно пришлось изменить
вычисленный курс, повернуть на юго-запад и пройти вдоль ущелья почти до моря. Это
сильно удлинило наш путь, и только на 46-м километре пути мы добрались до
продовольственного склада.
Обратный путь прошли в сплошном снегопаде, гору Герасимова обогнули с юга.
Сегодня утром вернулись на южный берег. Весь оставленный здесь груз нашли в
целости. После отдыха двинемся дальше – на восток. Теперь мы вновь богаты
продовольствием и топливом. Вес каждых саней опять достигает 400 килограммов.
[384]
8 мая 1932 г.
4 мая весь день удерживалась чудесная ясная погода. Однако переход оказался
очень тяжелым. Рыхлый снег часто доходил до колен и очень затруднял продвижение.
За 15 часов едва пробились на 38 километров. К концу перехода настолько вымотали
себя и собак, что казалось уже невозможным сделать хотя бы один шаг. Лагерем
остановились в первом попавшемся месте. Наша стоянка оказалась на морском льду, в
километре от ближайшей точки земли.
Через час после остановки разразилась метель. Она началась очень бурно и
благодаря обилию свежего рыхлого снега сразу подняла такой вихрь, что мы
постарались поскорее накормить собак и убраться в палатку.
Сначала мы даже радовались неожиданной гостье – метели, надеясь, что она
часть рыхлого снега унесет, часть утрамбует и таким образом исправит дорогу,
облегчит дальнейшее наше передвижение. Кроме того, неплохо было воспользоваться
случаем, чтобы денек поваляться в спальных мешках. Последнюю неделю мы спали не
более 6 часов в сутки. При изнурительной работе во время переходов этого было явно
недостаточно – нарастало утомление. Хотелось как следует отдохнуть и выспаться.
Метель встретили без всякой неприязни.
Первые сутки мы действительно много спали; рев, свист, улюлюканье бурана
воспринимали как колыбельную песню. На второй день спать уже не хотелось. Да и
дорога улучшилась. От убродного снега не осталось никаких следов. Можно было бы
итти вперед. Но метель бушевала с еще большей силой. Мы уже начали роптать на
задержку. Это, как и всегда, не помогло. Вьюга продолжала бесноваться. Поднятый
снежный вихрь скрывал и солнце и весь белый свет. Хотя барометр лез вверх и уже
показывал полный штиль, шторм не унимался. Снежный вихрь несся со скоростью 19
–20 метров в секунду.
На вторые сутки шторм открыл трещину между лагерем и берегом. Это заставило
нас при ветре, дувшем со скоростью 20 метров в секунду, перенести лагерь на берег.
Три часа ушло на то, чтобы снять палатку, поднять собак и пробиться к суше.
На третьи сутки нам надоело спать, ворчать на непогоду и заглядывать на
барометр. Оторвать нас от берега шторм не мог, и новой переноски лагеря не
предвиделось. Кроме кормежки собак, дела как будто не было. А конца метели не было
видно. К счастью, на этот раз мы захватили с собой несколько книг. Я довольно скоро
прочитал имевшийся [385] роман. Можно было пожалеть, что роман не написан
клинописью, тогда чтения хватило бы на все метели Северной Земли.
Но сейчас у меня нет причин сожалеть об этом. Есть еще одна книга, которую
можно читать бесконечно. И картины в ней близкие, понятные:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...
Разве это не про нас? Разве можно лучше описать то, что творится за парусиновой
палаткой?
Проще говоря, со мной томик Пушкина. Родная, заветная книга! В ней каждый
стих «течет водой живою»...
В момент, когда зачем-то была приоткрыта пола палатки, ворвавшийся ветер
перелистал страницы книги. А когда полы в палатке были завязаны, я увидел, что томик
открыт на заглавном листе «Руслана и Людмилы».
С детства родные сердцу образы возникли в воображении. Шум метели как бы
затих. В памяти встало далекое прошлое.
...Глухая таежная дальневосточная деревушка. Восемнадцать изб, срубленных из
посеревшей от времени, когда-то розовой даурской лиственницы.
Рядом, к востоку, хребет Чурки, а к западу, за узкой полоской увалов с пашнями,
на десятки километров, точно зеленое море, раскинулись зыбкие болота.
В одной избе, ничем не отличающейся от других семнадцати, живет еще не
старый казак. В его бороде и усах только пробивается серебро. Но жизнь, про которую
тогда говорили «слава казачья, да житье собачье», уже надломила его силы. Слишком
тяжело было поднимать семью. «Изробился», – говорят про казака соседи.
Теперь он часто отлеживается в постели. Вся семья печалится в таких случаях,
только его сынишка – шестилетний казачонок – не видит в этом плохого. Если отцу
занедужилось, значит, он не пойдет ни на пашню, ни на покос; опять будет читать про
Руслана и Людмилу.
«Руслан и Людмила» – единственная книжка во всей деревушке. Правда, есть
еще несколько книг, но те не в счет. Они хранятся в маленькой деревянной часовне,
закрытой на большой железный замок. В них что-то малопонятное читает поп, два-три
раза в году приезжающий в деревню.
Книжка старая, растрепанная, в ней нехватает нескольких страниц, но это не
мешает чтению – отец наизусть помнит [386] потерянные листы. В книжку он смотрит
только для порядка – всю поэму держит в памяти. Еще он знает сказки про царя
Салтана и про золотую рыбку, хотя таких книжек в доме нет.
Казачонку больше всего нравятся «Руслан» и «Салтан». Он слушает сказки, затаив
дыхание. И нередко в мыслях, уцепившись за пояс Руслана, мальчик вместе с ним и с
Черномором уносится за облака. Мертвая голова в воображении казачонка разрастается
до размеров горы Чурки, вершину которой, словно шлем, покрывают гольцы. Иногда
мальчик пристраивается к 33 богатырям, выходящим из моря, и начинает протестовать,
когда отец продолжает рассказывать только о тридцати трех.
– Неправильно! Было тридцать три, а теперь стало тридцать четыре! —
Начинается спор, обычно кончающийся мирным разговором:
– Вот соберусь, съезжу в станицу, может, найду книжку про царя Салтана. Тогда
сам и читай, – говорит отец.
– Да я же еще не умею, – разочарованно отвечает казачонок.
– Тогда учись? Тут стоит потрудиться.
И сейчас же начинаются «занятия».
– Ну, сделай мне букву «А».
Мальчик расставляет ноги, а рукой делает перекладину.
– Правильно! Теперь найди мне эту букву в книжке.
Это значительно труднее. На страницах много букв! Не меньше, чем мошкары на
улице перед заходом солнца, и куда больше, чем тараканов за печкой. Хорошо еще, что
буквы не кружатся и не бегают. Все же «А» отыскивается.
Таким же образом сначала изображаются, а потом разыскиваются в книжке и
другие буквы.
Наблюдающая за уроком бабушка говорит:
– Учись, учись, Егорушка! Может, техником станешь – железную дорогу
построишь. Как увижу твою дорогу, поезжу по ней да посмотрю белый свет – и
умирать будет не страшно.
Но тут же бабушка, как бы спохватившись, строго поджимает губы, скрещивает на
груди руки и обращается к отцу:
– Ты бы, Алексей, лучше его церковному учил. Сам знаешь, как псаломщик-то
нужен. Прямо всей деревне срам! Поп приезжает, а ему и помочь некому. Сам он и
жнец, и швец, и на дуде игрец. Читает и за себя, и за псаломщика, и кадило разжигает.
Никакого благолепия! Да и учить церковному легче – на дому все пройдет. А на
техника-то в город посылать надо. А на что пошлешь? Коровенку продашь, и то
нехватит. [387]
– Да как же я буду учить церковному, если сам не знаю, – отговаривается отец.
– А ты, Алексей, постарайся. Вспомни, как поп читает, расскажи Егорке, вот он и
поймет. Еруслана читаешь, а божественное забыл. Грех мне с тобой!
Повидимому, все же плохо веря в свою мечту видеть внука псаломщиком, бабушка
не без сожаления, но примиряюще говорит:
– Ну, уж ладно, хоть на техника его выучи, если на псаломщика у тебя смекалки
нехватает. .
Так по вечерам идет учеба. Скоро Егорка начинает изображать целые слова, а
потом и фразы. Иногда его рук и ног нехватает. Тогда он прихватывает на помощь
сестренку и бабушку.
Но попробуйте «напечатать» так всего «Руслана»! Успеешь вырасти, а до конца
так и не дойдешь. Казачонку не терпится. Но что же поделать, – школы в деревне нет.
Хорошо, что Егорка находит в книжке все буквы алфавита и уже умеет складывать из
них целые слова.
Казак вручает сыну книжку в полную собственность. «Руслан» попрежнему
остается Егоркиным учителем. Егорка скоро начинает бегло читать, сначала матери и
бабушке, потом забегающим соседкам и товарищам и, наконец, то в одной, то в другой
избе, усатым казакам и седым старикам.
Золотой рекой льются пушкинские стихи по затерянной в тайге и болотах глухой
деревушке...
...Казак Алексей, знавший наизусть «Руслана», «Салтана» и «Золотую рыбку», —
мой отец, Егорка – я, а когда-то глухая таежная деревушка, находящаяся в нынешнем
Биробиджане, – моя родина. «Руслан» – первая книжка, пробудившая во мне интерес
к учению, жажду знаний, любовь к путешествиям. Сказка о Руслане учила меня
гордиться русской богатырской силой.
Через многие годы память без затруднения оживляет далекие воспоминания
детства. Заветные стихи великого Пушкина пришли и сюда, «за край земной», в
«жилища ветров, бурь гремучих». Как и в былые годы, стихи вызывают гордость за
русских людей, зовут еще сильнее любить нашу родину.
Вот уже четвертью сутки над нашей палаткой, словно бесконечная седая борода
Черномора, вьется снежный вихрь, и не видно ему ни конца, ни края. Я то закрываю
томик Пушкина, то вновь открываю его. В ушах, сквозь гул бури, звучат строчки:
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя... [388]
Решающие дни
«15 мая 1932 г.
Одолевает усталость. Тело болит, точно изломанное. Хочется вытянуться на
снежной постели, лежать неподвижно, не шевелить ни одним пальцем. Но нервы все
еще напряжены. Это помогает бороться с усталостью и сохранять способность
осмыслить все происшедшее за последние дни.
Сегодня мы продвинулись всего лишь на 13 километров. Это и были те
«несколько» случайных, особо трудных километров, которых нельзя предусмотреть
никаким планом санного похода по льдам. Их-то я и опасался перед нашим
отправлением в путь больше, чем бурь и метелей. Они могли разрушить все наши
расчеты. Каждый метр из этих немногих километров мог сломать намеченный маршрут.
Мы пошли на большой, осознанный риск, дрались за каждый шаг пути, за каждую
минуту времени и... выиграли сражение. Надо думать, что это определит успех нашего
похода, а в конечном счете – и всей экспедиции.
Отчаянная борьба началась еще вчера. К концу 32-километрового перехода мы
падали от усталости и на ночлеге не были в состоянии даже записать впечатлений дня.
И все из-за дороги. Низкий и отлогий берег, вдоль которого мы пробирались
последние две недели, преодолевая обычные трудности санного похода, кончился. На
смену пришли скалистые обрывы восточных берегов острова Большевик. Сначала
обрезанный морем край террасы не превышал пяти метров, но скоро достиг десяти, а
потом пятнадцати. Дело было даже не в высоте. Поверхность обрывающейся утесом
террасы оказалась сплошь заваленной грудами крупного щебня и почти совершенно
лишенной снега. Пройти по ней с санями не было никакой возможности.
Еще менее проходимыми на этом участке оказались морские льды. Шторм,
пережитый нами 4—8 мая у южных берегов Земли, искрошил здесь весь лед. Свежие
торосы плотно сомкнутыми, непроходимыми рядами, точно осаждающая армия,
обложили береговые бастионы скал. Путь был отрезан и здесь. И только под самыми
утесами уцелела узенькая полоска снежного забоя. Лишь местами ширина ее достигала
пяти метров, большею же частью она не превышала двух и даже одного метра. А уклон
уцелевшего забоя колебался от 30 до 50 и даже 60°. Это и был единственный доступный
для нас проход. Нечего и говорить, что путь здесь оказался мучительным.
Собаки давили друг друга в узкой расселине. Сани, раскатываясь на крутом
склоне, то и дело прижимались к ощетинившейся [389] кромке торосов, застревали
между огромными зубьями бесконечного ледяного гребня или валились набок. И в том
и другом случае надо было напрячь все силы, чтобы поставить их на полозья. Часто сил
одного человека на это нехватало, и воз приходилось вытаскивать общими силами. На
особенно крутом уклоне, прежде чем пускать упряжку, надо было выкопать борозду и
направить по ней полоз саней, иначе сани перевертывались. Прыгая с одной стороны
саней на другую, мы старались предупредить очередной крен, но в большинстве
случаев ничего не добивались. Так, работая с 400-килограммовыми возами, свыше 12
километров мы протискивались между отвесной скалой и вздыбившимися льдами, пока
совершенно не выбились из сил сами и окончательно не измучили собак.
Остановились на виду мыса Морозова. Накормили собак и, не ставя палатки,
распластались на снегу, прямо под голубым небосводом. Пригревало полуночное
солнце. Где-то, совсем близко, среди камней весенней песней заливались пуночки. Со
свистом проносились чистики. Доносилось тявканье песца. На берегу, на виду лагеря,
паслись восемь оленей, а в море, среди хаоса торосов, куда-то с озабоченным видом
пробирался медведь. Обычно такие картины волновали. На этот раз мы были так
вымотаны трудностями пути, так изнурены, что интересное зрелище не вызывало у нас
никаких переживаний. Мы все видели и слышали, но наши глаза и уши только
механически фиксировали окружающее.
Впечатления мучительного пути не давали покоя даже ночью. Мне приснилось,
что я застрял между стенами камня и льда и не могу вырваться из их сжимающих
клещей. Проснулся в холодном поту.
Но ведь мы не впервые тренировались в преодолении таких трудностей, да и сон
на свежем воздухе оказал свое благотворное действие. Когда незаходящее солнце








