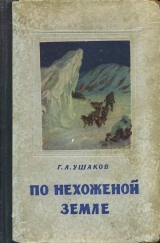
Текст книги "По нехоженной земле"
Автор книги: Георгий Ушаков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
лодочке. Необдуманно, вместо привычного трехлинейного карабина, я взял маузер и, не
зная боя ружья, промахнулся. Морские зайцы не имеют привычки ждать второй пули.
Зверь оперся на передние ласты и, по-змеиному изогнув тело, нырнул в воду. Другой
заяц, лежавший метров на тридцать дальше, моментально последовал туда же.
Казалось, что вместе с ним скрылась в морской глубине и наша надежда на поживу. Но
возвращаться домой с пустыми руками не хотелось. Оставалось быть терпеливыми и
ждать новой добычи.
Мы вылезли на припай, разожгли трубки и сделали вид, что ничего дурного не
случилось. За такое примерное поведение скоро была получена награда. В 50 метрах от
нас над водой показалась голова нерпы. После выстрела Журавлева зверь приподнялся
и, склонившись набок, застыл. Вскоре нерпа уже лежала у наших ног на льду. Утопив
после этого двух убитых нерп, мы решили разделиться. Я должен был стрелять, а
товарищ – дежурить в лодке на воде, чтобы не терять считанные мгновения, пока
подстреленный зверь погружается в воду. После каждого моего удачного выстрела
Журавлев устремлялся к добыче и успевал взять ее на гарпун. Одного зайца он
ухитрился загарпунить, когда туша уже скрылась метра на полтора под воду. Это
раззадорило охотника, и он еще быстрее носился на маленькой лодочке, рискуя каждую
минуту перевернуться. Мне оставалось только не зевать и вернее брать прицел. Через
два часа, не сходя с места, мы добыли семь нерп и двух зайцев, почти тонну мяса и
жира. Это уже кое-что значило, и можно было съездить домой пообедать.
После обеда выехали на моторной шлюпке забрать добычу. К вечеру нам удалось
добыть еще пять нерп и одного зайца, которого мы рассмотрели в бинокль на одной из
редких льдин далеко в море. Вероятно, мы оставили бы его в покое, если бы перед
этим, возясь с неповоротливой шлюпкой, не потопили трех зайцев. Чтобы наверстать
потерю, мы направились в открытое море. Стоял штиль. На море образовалось сало,
через которое с трудом продиралась наша шлюпка. Около льдины шла полоса чистой
воды, и мне удалось разогнать шлюпку и, заглушив мотор, подвести ее на полсотни
метров к зверю. Поздно вечером мы вернулись домой почти с полным грузом в шлюпке.
В ней лежало три морских зайца и двенадцать нерп – полторы тонны мяса. [72]
Но этим день не завершился. Заканчивая авральную работу по разгрузке мяса, мы
в каких-нибудь трехстах метрах от дома увидели двух медведей. Через минуту
загремели выстрелы, и оба зверя распластались на льду, увеличив наши запасы.
«Вот это денек!» – думал я, свежуя одного из медведей, в то время как радист и
охотник возились около второй туши. Мой нож затупился. Решив сходить за другим, я
выпрямился над зверем и... застыл в изумлении. Руки потянулись протереть глаза. Но
нет, зрение не обманывало – на расстоянии выстрела стояли еще три медведя – самка
с двумя пестунами. «Это уже слишком», – подумал я. Медведи заметили нас и,
рассматривая, поднялись на задние лапы. Я схватил карабин, но – увы! – в нем не
оказалось ни одного патрона. Наконец, мне удалось привлечь внимание товарищей,
увлекшихся своей работой.
Медведи повернули назад и через несколько минут скрылись за бугром острова,
хотя в последний момент Журавлев успел ранить медведицу. Послав Ходова на
моторную шлюпку, мы с Журавлевым, захватив патроны, бросились вдогонку за
беглецами. Раненую медведицу настигли на берегу, а пестуны были уже далеко в море и
вплавь уходили вдоль берега. Пули их не доставали. Наконец, вывернувшись из-за
мыска, полным ходом подошла моторка. На ней мы без труда настигли беглецов и через
час привезли их туши на базу. В этот день наши запасы мяса выросли почти на три
тонны.
Но такие дни были исключением. Часто по два-три дня мы вообще лишены были
возможности охотиться. Мешала непогода. Мой дневник пестрит такими записями:
«Сегодня сидели дома. Дует свежий юго-восточный ветер. Небо покрыто
облаками. Идет снег. На охоту выезжать бесполезно – на море волнение».
«Опять свежий ветер с востока. Пасмурно. Снег. На охоту снова не
выезжали».
«Снова ветер. На этот раз с северо-востока. Снова нет охоты. Скверно, мяса
все еще мало».
«Меня все больше и больше беспокоит мясная проблема. Сегодня снова на
море появился зверь, но для нас в этом мало радости. Дует сильный юго-
западный ветер со снегом, начинается настоящая метель. На море волнение,
если и подстрелишь зверя, все равно не возьмешь. Журавлев не утерпел, с
берега убил двух морских зайцев, но оба они пошли ко дну. Он питает
надежды найти их после того, как они всплывут обратно. Но ни одного зверя
из ранее потонувших мы еще не находили. Очевидно, их уносит течением».
[73]
Нередко удачно начавшуюся охоту прерывал ветер, неожиданно налетавший на
смену полному штилю. Вот одна из записей:
«...Полный штиль. Небо пасмурно. Порошит снег. В проливе тонкий слой
сала. Охота началась неудачей. Первый убитый заяц пошел ко дну; второй
ушел раненым. У моего товарища, взбешенного неудачей, сыплются
ругательства и проклятия. Наконец, ему удается загарпунить огромного
зайца, которого не легко нам было вытащить на лед. Настроение у охотника
сразу стало благодушным.
Скоро мы добыли еще одного зайца и пять нерп... Но здесь охоту прервал
налетевший с севера штормовой ветер».
И снова в дневнике: «Ветер, ветер», «Метель», «Ветер свистит и завывает». И еще
раз: «Заготовить мяса во что бы то ни стало. От этого зависит будущий успех».
Немудрено, что иногда в погоне за добычей, особенно при виде медведя,
шагавшего у нас на виду в своей золотистой шубе, мы теряли голову и осторожность.
Так было 16 сентября:
«После обеда на северо-восточной стороне пролива заметили медведя.
Мишка шел на северо-запад, уходя от нас. Запрягли 10 собак и пустились в
погоню. Наш отряд увеличил еще десяток свободных собак. Быстро миновав
остров и выехав в пролив, мы неожиданно попали на сильно размытый
течениями лед. Думая, что это небольшой участок, мы сначала не обратили
внимания. До медведя не так уж далеко. Не упускать же его из-за какого-то
гнилого льда? Катай дальше! Но дальше стало совсем нехорошо.
Лед еле держался, весь был усеян дырами и напоминал тонкий ломтик
швейцарского сыра. То одна, то другая собака проваливалась в промоину. Лед
под тяжестью саней изгибался и трещал. На поверхность выступала вода. Но
поворачивать теперь было уже поздно. По старому опыту мы с Журавлевым
знали, что замедлять движение нельзя, а остановка на таком льду может
кончиться катастрофой. Надо как можно быстрее гнать собак. Только бы не
остановились! «Ну, родимые, вытягивай!» Родимые тянули, а мы, готовые ко
всему, стояли на санях, поближе к собакам, чтобы моментально обрезать
постромки, если собаки провалятся, – а самим как можно дальше прыгнуть
от подломившегося куска льда. Каким-то чудом мы миновали гиблое место, и
на душе сразу стало легче.
Медведь, о котором мы уже начали забывать, бросился наутек. Свободные
собаки заметили его, быстро настигли, выгнали на береговой обрыв и
остановили. Они дружно взялись за дело. Поднявшись на берег, мы увидели,
как медведь, защищаясь от наседавших преследователей, лежал на снегу [74]
и отбивался зубами. Зад его висел над обрывом, а на передних лапах он
держался. В таком недостойном виде владыка льдов все же успел достать
одну особенно ретивую собаку и распороть ей кожу на лапе. После выстрела
зверь мертвым свалился с десяти метрового обрыва. За ним ринулись и
собаки, разгоряченные охотничьим азартом. На счастье, внизу был рыхлый
сугроб и поэтому их головокружительные прыжки оказались удачными.
Пока Журавлев свежевал добычу, я поднялся на возвышенность острова и
километрах в трех к западу увидел второго медведя. Еще час погони – и
новая добыча. Это был огромный старый самец. Он изрядно увеличил наши
запасы мяса».
Хорошая погода не всегда означала хорошую охоту. Были дни, когда зверь исчезал.
Особенно резко это было заметно при появлении на горизонте льдов. Повидимому,
морской зверь отходил к кромке льдов, где он особенно любит держаться.
В отношении льдов наши пожелания были противоречивыми. Находясь под
страхом быть смытыми с нашей косы штормом, мы мечтали о льдах, которые
заполнили бы море и не давали бы разгуливаться волне. В то же время мы знали, что,
если море покроется льдом, охоте на морского зверя придет конец. Наши желания
раздвоились. Мы думали о настоящих морских льдах, но... с большими разводьями,
чтобы и шторма не бояться и успешно охотиться.
Суровая Арктика не пожелала считаться с нашими требованиями. Она как-то
сразу покрыла все видимое пространство моря сплоченным льдом, сковала отдельные
льдины в сплошной непроницаемый панцырь. Жизнь замерла. Птицы исчезли. Нерпы
держались подо льдом. Морские зайцы, повидимому, откочевали к югу. Оставалась
надежда только на бродяг-медведей, хотя и они обычно ищут открытую воду.
Но все это теперь не так уж было страшно для нас. В общем мы заготовили около
7 тонн корма для собак. Мясо сложили в тесовый склад, пристроенный к северной
стороне домика. Запасов должно было хватить до наступления полярного дня. В
будущее можно было смотреть спокойно.
Собачья упряжка
Из стаи собак, полученной с Дальнего Востока, одну упряжку мы уступили для
полярной станции на Земле Франца-Иосифа, а 43 собаки привезли сюда, на острова
Седова. Здесь мы и начали вплотную знакомиться с нашими четвероногими [75]
помощниками и устанавливать с ними отношения. Были выделены отдельные упряжки,
и каждая из них получила хозяина. Первым требованием к собакам было абсолютное
послушание и уважение к своему хозяину. За это они получали от него мясо и иногда
ласку. Ласка хозяина, если не считать кормежки, единственная награда ездовой собаки
за ее невероятно тяжелый труд и за многочисленные лишения. И собака любит ласку,
тянется к ней и даже ревнует к хозяину своих товарок. Многие из собак, если
представляется возможность, стараются перехватить ласку, получить ее первыми и,
если нужно, даже подраться ради этого.
Вот, например, два прекрасных пса из моей упряжки – Варнак и Полюс. Первый
– белый, с большими черными пятнами, с мощно развитой грудью и стройными,
крепкими ногами. Он, повидимому, самый сильный пес во всей стае. Второй бел, как
выпавший снег, сложен словно лебедь, с густой низкой шерстью, всегда
настороженный, живой и проворный. Оба они быстро признали во мне хозяина, с
первых же дней показали себя хорошими работниками и оба одинаково энергично
добивались ласки. Они не обращали внимания даже на Журавлева, хотя последний
нередко в мое отсутствие кормил их и еще чаще «школил», когда завязывались драки.
Стоило показаться мне утром, как каждый из псов со всех ног бросался ко мне.
Подоспевший первым чуть не сбивал с ног, становился на задние лапы, передние клал
мне на плечи и старался лизнуть лицо. Когда это удавалось, пес был несказанно
счастлив и в бешеных прыжках выявлял свой восторг. Нередко по дороге Варнак и
Полюс сталкивались, точно летящие мячи, и тут же начиналась драка. Тогда я спешил
разнять ревнивцев. Ласкать нужно было обоих сразу. В этом случае они быстро
успокаивались и мирно ложились рядом. Стоило же только отдать предпочтение
одному, как у второго, словно от электрической искры, торчком становилась шерсть,
поднималась дрожащая верхняя губа, оскаливались клыки и раздавалось грозное
рычание. Опоздай ласково потрепать его, и он вихрем бросится на своего соперника.
Если собаки сидели на цепи, нужно было всех их обойти – одной почесать за
ухом, другую погладить, третьей потрепать загривок – и каждой сказать несколько
слов. Пока эта церемония не заканчивалась, нечего было ждать и успокоения. Не
получившие своей доли внимания от хозяина лаяли, визжали, рвались на цепях и
огрызались на соседей.
Правда, первое время ласки уделялось немного. Больше перепадало наказаний.
Привычки собак, характер каждой из них, способности к работе и степень обученности
нам были неизвестны. Выдрессированных передовиков, которые могли бы [76]
руководить в упряжке и тянуть ее по команде человека в нужную сторону, среди наших
собак не было. Пришлось выделить наиболее сильных, понятливых и заняться их
обучением. А корень учения всегда горек. Первое время я пользовался
восточносибирским способом запряжки. Собаки, привыкшие к ней раньше, дружно
тянули сани, но везли их, куда хотелось им самим, а не мне. Только иногда, и то
случайно, наши желания совпадали, и сани направлялись в нужную мне сторону.
Ни одна собака не понимала команды. Я перепробовал всех, но безрезультатно.
После долгих перестановок, бесконечных криков и острастки кнутом я, наконец,
остановился на Мишке. Он как будто оказался наиболее пригодным. Кстати, нужно
сказать, что Мишка был если не лучшей собакой во всей нашей стае, то самой
популярной. Свою известность он приобрел еще на «Седове». Как-то в плавании, в
сырую погоду, которую собаки ненавидят, их выпустили из насквозь промокших
загородок. Мишка обежал весь корабль. Даже сунулся было в машинное отделение, но
был выставлен оттуда механиками. Он старательно обнюхал все закоулки, но нигде
долго не задерживался. Только вкусные запахи, ударившие ему в нос из дверей камбуза,
заставили Мишку застыть на месте. За всю свою собачью жизнь, проведенную у
охотничьих чумов, Мишка, должно быть, не встречал таких приятных дверей. Сделав
самую благонравную физиономию, чуть склонив голову набок, он, точно зачарованный,
сидел против камбуза и упивался ароматами. Его глаза потускнели. Иногда он их
закрывал совершенно и, вероятно, думал, что видит сладкий сон. Тонкие струйки
слюны тянулись из углов его пасти. Мишка так был погружен в переживания, что даже
не заметил кучки людей, молча наблюдавших за ним. На Мишкино счастье, кок был в
хорошем настроении. Увидев собаку, он заговорил:
«Ну что, пес? Как живешь?»
Мишка, словно под гипнозом, подвинулся ближе. Его глаза вспыхнули, хвост
забил по железной палубе. Пес поднял морду и завыл. Не резким, вызывающим у
человека неприязнь, волчьим воем, а на каких-то теплых, полных восторга нотах. Кок
сначала даже растерялся. Потом его лицо засияло от удовольствия.
«Э! Ты что же, петь умеешь? А ну еще! Ну, смелее!»
И собака снова подала голос. Она уже наполовину протиснулась в камбуз, и
умиленные кок и его помощники склонились над ней. Еще одно тремоло и... жирный
кусок говядины исчез со стола.
С этого дня Мишка стал фаворитом камбуза, развлекал его обитателей и получал в
награду вкусные куски и кости. Он настолько освоился со своей ролью, что когда видел
камбуз [77] закрытым, становился на задние лапы, а передними скреб железные двери и
выл до тех пор, пока заветная дверь не приоткрывалась и из нее не высовывалась рука с
куском мяса. Так Мишка выделился среди других собак и завоевал популярность у
экипажа. На корабле только и было слышно: «Мишка Мишенька! Мишуня!» Один
Журавлев не разделял восторгов команды. Охотник считал, что каждая собака должна
содержаться, по его выражению, «в страхе божьем» и уважать своего владыку —
человека. Он презрительно звал собаку не Мишкой, а подхалимом. Однако симпатии к
собаке всех обитателей корабля были настолько велики, а кок так разрекламировал ее
ум, что презрительная кличка Журавлева не имела успеха, и Мишка остался Мишкой —
общим баловнем.
Для упряжки мне нужны были два передовика. Особенно мне хотелось сделать
передовиками Варнака и Полюса. Они были самыми сильными, да и выглядели очень
представительно. Буквально красавцы! Но увы! Варнак не мог понять, чего я от него
хочу. Он с истинно собачьей доверчивостью смотрел мне в глаза, съеживался от крика
или бросался в совсем ненужную сторону. Бить я его не мог – тянул он честно. Силой
он выделялся, и всю ее вкладывал в работу. Но передовиком он быть не мог. Полюс
оказался способнее. Скоро он начал понимать мои требования, но мечущийся рядом
Варнак мешал ему. Наконец рядом с Полюсом я поставил Мишку. Через час новичок
уже понимал, что нужно делать при той или иной команде, и ученье стало
налаживаться. Правда, иногда Мишка начинал капризничать и пытался казаться
совершенно глухим. Тогда приходил на помощь кнут и моментально возвращал Мишке
и слух и понятливость. Работал Мишка с прохладцей, из лямки не лез, постромку
натягивал бережно, точно боялся порвать ее. Но пока мне от него нужно было другое —
понимание команды, что он скоро усвоил. Так Мишка и Полюс стали моими
передовиками. После нескольких дней тренировки кнут опускался уже только на
лодырей, моя ругань и визг собак раздавались реже. Я был уже уверен, что могу ехать в
любом направлении и вести за собой упряжки товарищей.
Но иногда за кнут приходилось браться и во внеучебное время. Это – когда надо
было прервать любимый собачий спорт – драку. Дерутся они отчаянно, с азартом.
Причин для драки бесконечное количество: и неподеленный кусок, и ревность к
хозяину, и неосторожное движение соседа, и занятое место, и спутавшаяся цепь, и
просто избыток сил и энергии. Мы бы не возражали против этого развлечения наших
помощников, если бы у них не было привычки, унаследованной, повидимому, от своих
предков волков – нападать всей стаей на [78] одного. Как правило, бой начинают двое.
Но стоит одному из них оказаться сбитым на землю, как на него обрушивается вся стая.
Тогда только энергичная работа кнута может спасти несчастного от гибели. После такой
свалки всегда несколько собак оказывались с окровавленными ушами, а другие по
нескольку дней прыгали на трех лапах.
Встречаются среди собак настоящие задиры, хулиганы и провокаторы. Вот серый
пес, с горящими умными глазами, с плотной волчьей шерстью, отличающийся от волка
только покорностью человеку да задорно загнутым вверх хвостом. Зовут его Бандит.
Имя оскорбительное даже для собаки. Но оно пристало к псу не случайно. Эта собака
доставляла нам немало хлопот. Она не терпела спокойствия в собачьем обществе и
была по-настоящему довольна, если ей удавалось затеять свару.
Делалось это так: уставшие за рабочий день собаки распрягались и до кормежки
получали час-полтора полной свободы. В эту пору отдыха они не хотели принять свою
обычную позу для сна – не свертывались клубком, собрав все четыре лапы вместе,
прижав к ним нос и прикрыв их хвостом. Как правило, в этот час все они ложились на
бок, вытягивали в стороны лапы, как бы старались расслабить мышцы своего тела для
полного отдыха. Бандит работал не хуже других, но уставал меньше. Он был силен и
отменно здоров. Через 20—30 минут после распряжки он уже забывал об усталости.
Вставал, потягивался и будто говорил: «ну, довольно валяться, пора приниматься за
дело». Критически осмотрев стаю, он намечал жертву. Подойдя и наклонив голову над
самым ухом спокойно лежащей собаки, он оскаливал ослепительно, белые клыки и
начинал потихоньку рычать. Постепенно рычание переходило на все более и более
высокие ноты. Угроза и вызов так и клокотали в нем. Если собака попадалась
спокойная или очень уставшая – она не отвечала хулигану, и он, постояв над ней,
разочарованно отходил. Через несколько минут Бандит выбирал новую жертву и
начинал все снова. Ему нужен был только предлог для драки. Стоило какой-нибудь
собаке огрызнуться, как он молниеносно пускал в ход клыки.
Драка начата. Вся стая, как бы она ни устала, поднималась, и через минуту
начиналась общая потасовка. А Бандит?
О, это был врожденный хулиган, провокатор! Заварив склоку, он каким-то
таинственным образом ухитрялся выскочить из свалки, отбегал в сторону, садился и с
восхищением наблюдал. Он сидел и как бы улыбался. Иногда нам казалось, что пес
смеется не только над собаками, но и над нами. Кнут нередко гулял по бокам Бандита,
но отвадить его от драк не мог. [79]
В упряжке он работал прекрасно. Бандит отнюдь не был злым по характеру.
Требовал ласки, как и все; при хорошем настроении заигрывал с соседями. Мы
любовались его работой и с огорчением думали о его позорном имени. Были случаи,
когда, восхитившись старательностью пса, мы даже решали дать ему другую кличку. Но
стоило только снять с него лямку и оставить на свободе, как он тут же полностью
оправдывал свое прозвище.
Он попал в упряжку Журавлева, но нрава своего не изменил, хотя, как уже
говорилось, правилом охотника было: «собака должна содержаться в страхе божием».
С первого же дня Журавлев начал приучать собак к новоземельской веерной
упряжке, которую они совсем не знали, и, пока поняли, что от них требуется, доставили
немало хлопот хозяину, да и себе причинили достаточное количество неприятностей.
Мы долго обсуждали и много спорили о том, какую упряжку предпочесть. Я три
года пользовался восточносибирской цуговой упряжкой, умел хорошо ею управлять,
привык к ней и ни о чем другом не мечтал. Новоземельской веерной упряжки я совсем
не знал. Журавлев много лет применял на Новой Земле веерную упряжку и впервые
увидел восточносибирскую. Быстро подметив отрицательные стороны последней и
забывая о недостатках веерной, он с сектантским упорством защищал свою упряжку. А
Вася Ходов слушал, молча улыбался и готов был прокатиться как на цуговой, так и на
веерной.
Разница в упряжках следующая. В восточносибирской собаки пристегиваются
попарно к одному ремню, проходящему от саней посредине всего цуга, и бегут пара за
парой. Лямка в этой упряжке имеет форму шлейки, при которой нагрузка ложится на
грудь и спину собак. Управление собаками производится только подачей команды. На
Чукотке, Камчатке, в Анадырском крае и на острове Врангеля можно наблюдать, как
мчащаяся во весь опор упряжка собак по возгласу погонщика «подь, подь!»
моментально, не сбавляя хода, поворачивает вправо. Через какую-нибудь минуту
погонщик крикнет «кхрх!», и собаки повернут влево. Достаточно хозяину скомандовать
«тай!», и сани сейчас же остановятся, а по возгласу «хэк!» они вновь понесутся вперед.
Слова команды изменяются в зависимости от языка народа, но метод управления всюду
остается один.
Тормозом для саней служит «остол». Это – крепкий кол до полутора метров
длиной. Нижний конец его снабжен стальной или железной спицей. К верхнему концу
прикреплен длинный ремень, заменяющий кнут. [80]
Погонщик, как правило, сидит боком с правой стороны саней между первым и
вторым копыльями, поставив ноги на полоз. Для того чтобы затормозить, седок ставит
остол под сани, впереди второго копыла, упирает его в снег и нажимает всей тяжестью
своего тела.
Особенно хороша восточносибирская упряжка для районов, где часто встречается
рыхлый, «убродный» снег, как, например, на Камчатке или. в Анадырском районе. Здесь
человеку нередко приходится итти впереди упряжки на лыжах и приминать глубокий
снег. Собаки идут по лыжне и не тонут в снегу.
Если рыхлый снег не глубок, то дорогу пробивают две передовые собаки. Они
делают самую тяжелую работу. Остальные идут за ними, стараясь попадать лапами в
след передовиков. Поэтому передовиками в такой упряжке должны быть не только
самые понятливые, наученные воспринимать команду, но и наиболее сильные собаки.
От них зависит успех продвижения.
Хороша такая упряжка и в сильно торошенных морских льдах. Здесь приходится
итти среди хаотических нагромождений и часто пользоваться очень узкими проходами,
в которые с трудом могут протиснуться сани. Собаки, бегущие попарно, не только легко
проходят в эти щели, но и не перестают тянуть сани.
Недостатком этой упряжки является то, что в непосредственной близости к
погонщику находится только ближайшая к саням пара собак, остальные достаточно
далеко, и появившийся среди них лодырь может безнаказанно ослабить лямку. Только
погонщик-виртуоз может безошибочно стегнуть длинным кнутом такого лодыря, в
какой бы паре он ни шел. Но надо заметить, что хорошо подобранная и
натренированная упряжка почти не требует кнута. Эскимосы часто вместо кнута
держат под рукой полуметровую палочку, к концу которой прикреплено несколько
металлических колец. Достаточно ездоку тряхнуть этой погремушкой, как собаки, даже
сильно уставшие, моментально отзовутся на призыв, повеселеют и ускорят бег.
Независимо от способа упряжки, собаки очень восприимчивы к настроению
своего хозяина. Песня или оживленный разговор делают их веселыми, ускоряют бег. И
нередко ездок громко поет или, сидя на санях, разговаривает, хотя на десятки, а иногда
на сотни километров вокруг не найдешь ни одного слушателя. Это погонщик веселит
своих собак. И небезуспешно. Бодр и весел хозяин – бодры и веселы его собаки. [81]
В новоземельской веерной упряжке все собаки ставятся в один ряд. Лямки каждой
пары через особое кольцо прикрепляются к общему ремню, который в свою очередь
свободно пропущен через кольца у передка саней. Если одна собака перестает тянуть,
вторая неминуемо должна выдвинуться вперед и таким образом показать, что ее
напарник лодырничает. На всех собак, кроме лямок, надевают ошейники,
прикрепленные к общему ремню или цепи. Это не дает собакам возможности
разбегаться в стороны. Передовиком в этой упряжке считается собака, идущая крайней
в шеренге, обычно слева. К ошейнику передовика прикрепляется вожжа. Здесь зовут ее
«пилеиной». Если натянуть пилеину, передовик остановится или замедлит ход, а
остальные собаки, продолжая бег, обойдут его, и вся упряжка повернет в сторону
передовика.
Для поворота в противоположную сторону пиленной легко похлестывают
передовика по боку, и он начинает давить на соседей до тех пор, пока не собьет их на
нужное направление. Торможение производится так же, как и при восточносибирском
способе упряжки, только тормозом служит не короткий остол, а заимствованный из
оленьей упряжки «хорей» – шест не менее трех метров длины. На нижнем толстом
конце он имеет, как и остол, металлическую спицу, а на верхнем тонком – небольшой
костяной шарик. Для торможения хореем пользуются точно так же, как и остолом.
Кроме того, им же понукают собак, ударяя их тонким концом хорея с костяным
шариком. Этим же шариком можно на ходу распутать ремни упряжки.
Преимущества такой упряжки были налицо. Во-первых, легкость управления:
повернуть или остановить собак можно в полной тишине, не подавая команды. Это
часто очень важно при охоте на зверя. Все капризы или охотничий азарт передовика при
погоне за зверем исключаются. Он – на вожже и полностью в руках хозяина, а вместе с
ним и вся упряжка. Еще большим достоинством этого способа является близость всех
собак к человеку. Любая собака, задумавшая полентяйничать, тут же получает щелчок.
Но по рыхлому снегу ездить на такой упряжке труднее. Каждая собака должна
самостоятельно пробивать себе дорогу. Все они одинаково утомляются, особенно
тяжело это для слабосильных. Еще хуже в сильно торошенных льдах. Где проскользнет
пара идущих рядом собак, там не пройдет десяток. Собаки будут давить друг друга и
мешать работать.
Я видел ясно эти изъяны, но в то же время знал, что в высоких широтах при
путешествии по земле и вдоль береговой линии, а не в торошенных льдах, недостатки
веерной упряжки будут несущественными. Глубокий рыхлый снег [82] здесь с
половины зимы и весной, когда будут проводиться наши работы, встретится очень
редко, лишь в руслах рек да в закрытых от ветров местах.
Новоземельская веерная упряжка мне нравилась. Но, несмотря на это, я все же
пока тренировал собак в восточносибирской. К ней они были уже приучены. В конце
сентября я на своей упряжке уже мог ехать, куда хотел. А Журавлев пока мучился. Его
старания переучить собак все еще оставались безуспешными. Часами он возился с
ними. Иногда, проехав километров пятнадцать-двадцать, я возвращался домой и
заставал Журавлева за сменой рубашки, взмокнувшей от пота. «Не идут, проклятые!»
– заявлял охотник. На следующий день он снова, с упорством полярника, брался за
собак. Но собачий веер попрежнему старался перестроиться в привычный цуг.
Поэтому я решил пользоваться восточносибирской цуговой упряжкой до тех пор,
пока Журавлев не добьется удовлетворительных результатов. Переучивание всех собак
сразу могло затянуться надолго. А времени мы терять не могли. Дорога
устанавливалась. Приближалась темная пора. Надо было успеть разведать путь на
Северную Землю. Пришло время проверить наши силы и возможности. Способ
упряжки не должен задерживать осуществления наших планов. Следом за моими
санями можно было итти при любой упряжке собак. Это могло затруднить поход, но не
вынуждало нас отложить его выполнение.
Берега, давно манившие людей
Страницы моего дневника за первые десять дней октября 1930 года не отличаются
завидной внешностью. Некоторые листы смяты. Почерк местами неразборчив. Часто
попадаются сокращения слов. Кое-где видны жирные пятна. Это потому, что записи
делались в обстановке, очень далекой от всяких удобств. Все писалось в походных
условиях – многое около примуса, в тесной, полузанесенной снегом палатке; другое —
в лежачем положении, в спальном мешке; третье – просто на санях, под ветром.
Эти страницы едва ли не самое дорогое в двухлетнем дневнике. Они
рассказывают о первом нашем успехе, о том, как сбылась наша мечта (да и только ли
наша?) попасть на нехоженые берега Северной Земли.
Если выбросить из записей теперь уже ненужные многочисленные цифры,
показывающие часы и минуты, магнитные азимуты курсов, отметки о пройденном
расстоянии на том [83] или ином направлении и о расходе продуктов, то записи в
дневнике будут выглядеть так:
«1 октября 1930 г.
Минул месяц после прощального гудка «Седова».
Наше настроение приподнятое, почти праздничное, но в то же время и серьезное,
точно перед экзаменом на аттестат зрелости. Первый санный поход обещает нам
осуществление нашей мечты о выходе на нехоженую землю. Он должен показать, на
что мы способны в поле. Достижение Северной Земли покажет обоснованность и
осуществимость наших планов, расчетов и надежд...
Еще вчера вечером мы загрузили и увязали сани, а собак посадили на цепи, чтобы
утром не тратить время на поимку непокорных. Несмотря на это, сегодня только к
полудню закончили все сборы. Облачаемся в походную одежду. Сажусь к столу и пишу
радиограмму в Москву:
«Нарты увязаны. Собаки рвутся в упряжках. Выходим на Северную Землю.
Впереди манящая неизвестность и красный флаг на Северной».
Взгляд пробегает написанные строчки. Где-то в сознании рождается мысль —
серенькая и осторожная, как скребущая мышь: «Даешь обещание! А вдруг почему-либо
не дойдешь. Может быть, лучше не посылать телеграммы?» Но воля протестует: «Надо
дойти. Должны дойти. Поэтому дойдем!» Ставлю подпись, передаю радиограмму
остающемуся на базе Ходову, даю ему последние советы, жму руку и выхожу к
упряжке.
Засидевшиеся собаки с лаем и визгом берут с места. Поход начался.








