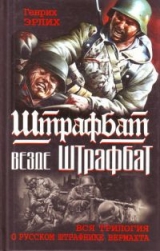
Текст книги "Штрафбат везде штрафбат. Вся трилогия о русском штрафнике Вермахта"
Автор книги: Генрих Эрлих
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 47 страниц)
Юрген впервые увидел их, когда его с Куртом и Зальмом отправили на двух подводах на железнодорожную станцию в десяти километрах от их деревни. Они должны были забрать прибывшее новое оборудование для связистов – телефоны, катушки с проводами, электрогенератор. Юрген с Куртом исполняли роли возниц, Зальма им придали как человека, способного принять груз по описи. Лошадь Зальму не доверили.
– Посмотрите на этих недочеловеков, – воскликнул Курт, – для них нашли единственное достойное их занятие. А взамен покорное стадо получает крышу над головой и тарелку супа.
Юрген отмалчивался. Это был не тот предмет, который хотелось обсуждать с Куртом. Тут он превращался в ходячий цитатник из речей доктора Геббельса. А вот Зальм, по своему обыкновению, ввязался.
– Кто–то, если мне не изменяет память, не далее как вчера вот так же махал целый день киркой, а вечером получил за это крышу над головой и тарелку супа, – сказал он.
– Для нас это лишь элемент испытания, пройдя которое мы вновь станем полноправными членами нации господ. А для них, – Курт показал кнутовищем на пленных, – это естественное состояние. Славяне – рабы по природе, они пропитаны рабской психологией, они безропотно подчинились тирании евреев–большевиков…
Ну и так далее. Юрген отключил слух. Ему было о чем подумать.
Вдруг его резко качнуло вперед – лошадь остановилась, уткнувшись мордой в задок телеги Курта. Справа от них, чуть поодаль, на плацу в окружении блокгаузов и палаток стояли, выстроившись в четыре шеренги, около сотни иванов. Они были одеты в немецкие форменные кители и пилотки, были чисты и сыты, но это были именно иваны, это и Юрген, и его товарищи определили мгновенно и безошибочно. И дело было не в белых нарукавных повязках и не в отсутствии эмблем на пилотках, возможно – в едва уловимой вольности фигур, немцы в строю так не стоят.
Перед строем, лицом к нему, стояли два офицера СС, затянутые в черные мундиры, в фуражках с уходящей вертикально вверх тульей. Справа от них стоял раскладной столик, за которым сидел писарь, разложив перед собой бумаги. Слева молодой иван в кителе с расстегнутым воротничком держал речь громким, хорошо поставленным голосом.
– Солдаты! Вы сделали единственно правильный выбор, самый важный выбор в вашей жизни! Отринув ужасы жидо–большевистской тирании и азиатского варварства, вы перешли на сторону сил прогресса, истинной свободы и европейской культуры. Сегодня вы вступаете в ряды доблестных немецких вооруженных сил, чтобы вместе с ними нести народам многострадальной России порядок, мир и процветание!
– Так! Добре! Подписываемся! – раздались разрозненные крики из строя.
Офицер недовольно поднял руку, призывая к порядку. Переводчик подскочил к нему, что–то сказал. Офицер махнул рукой: продолжайте.
– Присягу приносят, – сказал Курт. – Вот, есть и в этой стране люди, способные проникнуться идеями нацизма, его светлыми идеалами. Из них мы создадим новый класс надсмотрщиков, которые помогут нам освоить эти необъятные просторы и держать в узде варварское население.
– Юрген, ты присягу приносил? – спросил Зальм, поворачиваясь спиной к Курту.
– Нет, я недостойный, – ответил Юрген.
– Вот и я тоже не сподобился, – сказал Зальм.
– Я присягал! – влез в разговор Курт.
– А что толку? Ты изгой, пушечное мясо, паршивая овца в здоровом немецком стаде, ты имеешь лишь одно право – доблестно погибнуть на поле брани, так заслужив посмертное прощение. Это они, – он махнул рукой в сторону иванов, один за другим подходивших к столу и ставивших свои подписи под текстом присяги, – это они теперь полноправные военнослужащие Вермахта, это они теперь достойные члены народного сообщества.
Курт мрачно замолчал, мучительно думая и кидая исподлобья ревнивые взгляды на иванов. Потом он хлестнул лошадь вожжами. Они двинулись дальше.
Через несколько часов они, нагрузив телеги, проезжали мимо строящихся позиций. Немецких охранников сменили парни в кителях с белыми нарукавными повязками. Они разгуливали вдоль траншей, закинув винтовки за спину, поигрывая хвостатыми плетками и покрикивая на работавших: «Давай, давай, копай шибче!»
Зальм, шагавший рядом с телегой, поднял в рот–фронтовском жесте правую руку со сжатым кулаком и завопил:
– Приветствую вас, светочей свободы, оплотов порядка, новых господ старой страны!
Закричал нарочно для Курта, он всю дорогу не переставал подначивать его.
Иваны ничего не поняли, но дружно загоготали, скаля зубы, принялись перекрикиваться, показывая на Зальма пальцами:
– Який кумедний хриц! Полный мудило! Обозник! Дывись – интеллихент! Всех бы поубивав!
Юрген уловил смысл только последнего возгласа, да и то неправильно. Он отнес его к немцам и оскорбился: почему это вдруг всех? да даже если и некоторых? зачем кого–то надо непременно убивать? никого не надо убивать, ни немцев, ни ненемцев. На самом деле возглас относился к интеллигентам. Их, впрочем, тоже убивать не стоило.
– Да какие они, эти самые свободы и порядки! – прорвало, наконец, Курта. Долго думал, надумал: – Шкурники они, вот что я скажу. Какие они новые господа?! Все те же рабы, только чуть изворотливее, хитрее, подлее. Типично рабская психология – игла попала на нужную бороздку крутящейся в голове пластинки – предать хозяина, переметнуться на сторону более сильного, лизать сапоги нового господина. Только мы, немцы, способны хранить непоколебимую верность. А эти предадут нас при первой опасности, так же как они предали прежнего хозяина. Всех расстрелял бы!
«И этот туда же!» – с тоской подумал Юрген и сказал вслух:
– А может, лучше туда, – он показал рукой на траншею, – все польза нам будет.
– Нет, от этих не будет никакой пользы! Один вред! Они только развратят тех, работающих. Смотрите, какие они покорные, послушные, идеальные работники! Будь моя воля, я бы давал им за их хорошую работу две тарелки супа и женщину по воскресеньям, – разошелся Курт. Впрочем, слова о женщине по воскресеньям были не оригинальными, он лишь вторил фюреру.
– Так ты что, даже не допускаешь мысли, что среди этих людей есть идейные борцы с жидо–большевистской тиранией? Что кто–то из них искренне проникся идеями нашего любимого фюрера, его светлыми идеалами? – спросил Зальм.
– Где ты видел идейных борцов с такими ряхами? – опешил Курт.
– Ну, положим, видел, – усмехнулся Зальм, – неоднократно. Тут все дело в идее. Какова идея, такова и ряха.
Что имел в виду Зальм, не нуждалось в уточнениях. Юрген неоднократно ловил себя на том, что физиономии членов НСДАП его чрезвычайно раздражают, еще до всех речей. Они были из того ряда, что кирпича просят. Но самым удивительным была трансформация лиц некоторых его знакомых, которые проникались нацистскими идеями. Был парень как парень, а тут вдруг глаза выкатывались и наливались свинцом, челюсти сжимались, а губы, наоборот, расходились, обнажая оскал зубов, и от этого лицо как–то округлялось, превращаясь именно что в ряху, злобную, наглую, жадную. И тут вдруг память коварно подбросила похожие лица из далекого прошлого. Их было немного, но это ни о чем не говорило, в их краях редко появлялись чужаки. А таких, как майор Яхвин и сержант Гехман, он вообще не встречал, ну и что? Его предупреждали, что они повсеместно, он не верил, но стоило попасть к иванам, так сразу же и встретил. Так может быть… Он подавил эту мысль, отскочил к предыдущей. «Люди везде одинаковы», – подумал он. Оказалось, что сказал вслух. Зальм окинул его каким–то новым, заинтересованным взглядом.
– Не знаю, что привело вас к этой мысли, Вольф, но полностью солидаризуюсь с ней, – сказал он.
В мыслях у Юргена был полный раздрай. Он был уже рад согласиться даже с Куртом, с его последним выводом, но рассказ фрау Клаудии занозой сидел в сердце. Ох, не все так просто! Люди–то, возможно, везде одинаковы, да ситуации разные.
Теперь он сам искал возможности поговорить со старухой. Удалось лишь на следующий день, поздним вечером. Фрау Клаудия после ужина и нескольких чашек чаю расслабленно сидела на лавке у бани, привалившись спиной к стене, лелея уставшие руки в гамаке из полотняной юбки, чуть провисшей между широко расставленными ногами. Юрген опустился рядом.
– Мы вчера на станцию ездили, – сказал он, – я там ваших пленных видел.
– Да, берут людей в полон, гонят, как скот. Война, – сказала фрау Клаудия.
– Я и других там видел, те в немецкой форме были, сытые. Много.
– Есть и такие. Сколько их по окрестным деревням полицаями служит. Много, – повторила она за Юргеном.
– Вы говорили, что многие советской властью были обижены, пострадали от нее. Это они? – задал, наконец, свой вопрос Юрген.
– Те, кто от советской власти пострадал, в земле лежат, или под землей в колымских рудниках работают, или лес в тайге валят. А те, которых ты видал, те обиженные, но не властью. Богом обиженные.
– Это как? – не понял Юрген.
На дорожке, ведущей к бане, откуда–то возник Лаковски, окинул сидевших удивленным взглядом и быстро прошел мимо, что–то напевая под нос.
– Характера им бог не дал, – ответила фрау Клаудия, когда спина Лаковски скрылась за дальними кустами, – настоящего мужского характера. При советской власти жили не тужили, юлили, речи всякие правильные говорили, в колхозе или конторах работали, голосовали – в общем, все, что заставляли, то и делали. А иных и заставлять не надо было, сами делали и других заставляли. Теперь вот у вас точно так же холуйствуют. Все для того, чтобы сытно жрать, без меры пить и над людьми безнаказанно изгаляться. Это все от слабости. Кремня в них внутреннего нет. Силы. Сила – от бога.
– Те говорили, что они против советской власти борются, – сказал Юрген.
– Вот и боролись бы, пока эта власть была, – усмехнулась старуха. – Советская власть – это наша власть была, какая бы она ни была. Мы бы ее сами пережили. Без помощников. Без вас, то бишь. У себя свои порядки устанавливайте, а здесь, на нашей земле, мы как–нибудь сами разберемся, своим умом да с божьей помощью. Вот вы все – неплохие люди, я же вижу, и ты, и певун этот, – она махнула в сторону кустов, где скрылся Лаковски, – и Ганс, и этот, который надутый, со стеклышком в глазу, он тоже по–своему неплохой человек. Вы, если взять каждого, поодиночке, может быть, даже лучше, чем те, кто был. Но все вместе вы, – она чуть замялась, подбирая слово, – чужие.
– Мы – враги, – уточнил Юрген.
Фрау Клаудия нехотя кивнула и тут же поспешила опрокинуть опасное слово на других.
– Вот и те, которых ты вчера видал… Ведь они, мы так судим, к врагу в услужение пошли. Хуже врага стали. Потому как вы – люди подневольные, я же вижу, и все видят. А эти сами вызвались. Не любим мы на Руси предателей. Не по–божески это – родную землю врагу предавать.
В сгустившихся сумерках промелькнула еще одна тень. «По росту вроде как Кинцель, – подумал Юрген. – Вот ведь, поговорить спокойно не дадут. Спокойно! – усмехнулся он про себя. – Какое уж тут спокойствие? Пора, однако, сматывать удочки. И вообще, завязывать с этими разговорами».
– Большое спасибо, фрау Клаудия, вы мне очень помогли, – сказал он, поднялся и быстро пошел к дому.
Это был не конец истории. Она имела продолжение. Через два дня в батальоне случилось чрезвычайное происшествие: дезертировал Герберт Вернер, рядовой третьего взвода первой роты. Об этом на утреннем построении объявил майор Фрике. Обер–лейтенант Гиллебранд произнес приличествующую случаю речь. О малодушных трусах, о мягкотелых бабах, о подлых выродках, о вонючих тряпках и заячьих лапках. [15]15
Немецкое слово Hasenfuß имеет два значения: трус и заячья лапка.
[Закрыть]Майор Фрике нетерпеливо посматривал на часы – уходило время для организации погони и облавы. Хорошо, что успели предупредить военную полицию, которая перекрыла все окрестные дороги.
В погоню отрядили третью роту во главе с Гиллебрандом. Бегом, в назидание обер–лейтенанту – нечего было так долго болтать. Но Гиллебранду бег – только в радость. Да и они все не возражали: и погода хорошая, и куда лучше, чем в земле копаться. Да и не спешили они особо, все равно Вернера не поймать. А то они не знают, куда он смылся – к иванам. Его там шиш достанешь. Наконец это и до начальства дошло. На вечернем построении о переходе на сторону врага Герберта Вернера, бывшего рядового третьего взвода первой роты, объявил майор Фрике, добавил пару крепких слов и немедленно распустил строй.
Они спокойно перекуривали в сторонке, когда к ним подошел Гиллебранд. Поинтересовался, как им сегодняшняя пробежка, не натер ли кто–нибудь ноги или промежность, потом вдруг резко повернулся к Юргену и гаркнул, впившись глазами в его лицо:
– О чем вы разговаривали с этой русской?
– Я? Разговаривал? – вопрос застал Юргена врасплох, и он, по выработанной еще в детдоме привычке, тянул время.
– Да!
– Ах, да, – с показным облегчением повторил Юрген, – я перекинулся с ней несколькими словами по–польски. Языки оказались очень похожи. Я провел…
– Я внимательно изучил ваше личное дело! – оборвал его Гиллебранд. – Но вы разговаривали долго! О чем?!
– Она рассказывала мне о зверствах большевиков, – ответил Юрген.
– И что?!
– Я не узнал ничего нового, герр оберст, – Юрген совсем успокоился и думал лишь о том, чтобы на его лице не появилась предательская ухмылка, знал он за собой этот грешок, – все в точности соответствовало вашим беседам, герр оберст.
Гиллебранд был не прост, но и его тон Юргена ввел в заблуждение.
– Хорошо, – сказал он, – вы прошли это испытание, Вольф. – Он надел самую открытую из своих улыбок. – Вы, надеюсь, понимаете, что я ни секунды не сомневался в вас. Но, – он сделал многозначительную паузу, – бдительность – превыше всего! Не забывайте о Герберте Вернере, об этом волке в овечьей шкуре, этом двуличном ублюдке, который воровски вкрался в наше доверие, об этом предателе, презревшем законы военного товарищества… – ну и все такое прочее. Не пропадать же зря заготовкам для несостоявшейся речи. – Итак, бдительность – превыше всего! – повторил он напоследок полюбившийся лозунг.
– Так точно, герр оберст! – Юрген выкатил грудь и глаза – образец ревностного солдата.
– Вольно! – с поощрительной улыбкой сказал Гиллебранд и, наконец, оставил их одних.
Юрген попытался припомнить, кто маячил поблизости, когда он разговаривал с фрау Клаудией.
– Прекрасный ответ, Юрген, – тихо сказал подошедший Зальм, – я неоднократно оказывался в похожих ситуациях, но мне никогда не удавалось выпутаться так убедительно, быстро и, не побоюсь этого слова, изящно. Я возьму это на вооружение.
Зальма сменил Лаковски.
– Это был не польский, – проговорил он еще тише, чем Зальм, – будь осторожнее.
«Если не Лаковски, тогда…» – Юрген нацелил взгляд на Кинцеля,
– Это не я! – воскликнул тот.
– Ты был не прав, дорогой, – мягко сказал Вайнхольд.
– Это был мой долг, – сказал Кинцель.
– Ты должен был предупредить Юргена, что намереваешься доложить начальству об услышанном разговоре. А так вышло не по–товарищески, – с легкой укоризной сказал Вайнхольд.
– Это был мой долг! – упрямо повторил Кинцель.
– Бывают ситуации, когда человеческие чувства выше служебного долга.
Фраза не встретила понимания, лишь возмущенный ропот. Если кто–то и был согласен с ней, то никак не выразил этого.
– Одна эта мысль нанесла боеспособности подразделения больший урон, чем все ваши инвективы, – сказал фон Клеффель, обращаясь к Зальму.
– Согласен, – ответил тот. – Каков ваш вердикт? Расстрелять перед строем?
– Как минимум! Как вы думаете, Зальм, должны ли мы предупредить об этом подсудимого заранее? А то выйдет не по–товарищески, вы не находите?
Все поняли, что это шутка. Дружный смех разрядил ситуацию.
– Все, Эрих, забыли, – сказал Юрген, обращаясь к Кинцелю.
– Забыли, – эхом отозвался Лаковски.
Das war eine Hauptkampflinie
Это был передний край. Между ними и иванами была лишь полоса ничейной земли, которую иваны упорно продолжали считать своей. Об этом они намеревались в ближайшее время поспорить, по–мужски, всеми наличными огневыми средствами.
Они сидели на взгорке и обозревали окрестности. Отсюда, сверху, их собственные позиции были как на ладони. Они были даже по–своему красивы строгой расчерченностью линий, симметрией, выверенностью пропорций, равномерностью наполнения, живописностью маскировки. Две зигзагообразные линии траншей, ходы сообщения между ними и другие ходы, как протуберанцы устремляющиеся к выдвинутым далеко вперед гнездам наблюдателей и сторожевым пунктам. Полусферы пулеметных гнезд, кубики дотов, приземистые выступы мощных перекрытий блиндажей, утопленных на девяносто процентов в земле, как айсберги в океане. Неужели это они сделали все за какой–то месяц?
Справа от них, у южной подошвы холма, раскинулась их деревня, глаза легко находят их дом. Мимо деревни проходит дорога, как стрела пронзающая позиции иванов и их позиции и направленная острием то ли из Берлина в Москву, то ли наоборот, это скрыто за дымкой времени, этого они не знают, этого пока никто не знает.
На обратном склоне холма расположилась батарея гаубиц, но это уже не их территория. Их глубокий тыл – в пятистах метрах от позиций, в лощине у северного склона холма. В ней, под сенью деревьев, скрывается ум и брюхо их батальона, штаб и кухня. Там им тоже пришлось поработать. Построили на радость писарям штабной барак, склады для интендантов, вырыли землянки для всей этой тыловой братии, тем лишь бы поглубже в землю зарыться. А вот майор Фрике и многие другие офицеры предпочли до начала активных боевых действий жить в палатках, но на то они и звери. Перед палатками расчищена большая площадка, какой же немецкий лагерь без плаца? Есть где полюбоваться выправкой подчиненных, устроить всеобщую порку или призвать к мужеству. Раздача наград – это не про них.
Взгляды устремились вдаль, к позициям противника. Не так уж они далеки, метрах в четырехстах от их.
– Все роют и роют, как кроты, – сказал Курт Кнауф, – начинали вон от той высотки, а смотри, как приблизились. Эдак через пару недель в нас упрутся.
– Жалко, что они не от Москвы копать начали, – сказал Ули Шпигель, – мы бы тут все лето прозагорали, а осенью картошки бы гансовской накопали…
– Они как раз от Москвы и начали, – заметил Зальм.
– И урыли!
– Как бы всех нас не зарыли.
Так привязались к одному слову, что никак отвязать не могли. Рыли и так, и эдак.
– Мы, господа, должны неустанно благодарить господа и командование за то, что нам досталась эта деревня, – разорвал заколдованный круг фон Клеффель, – прожили месяц, как у Христа за пазухой. Тепло, сухо. А вот иванам не позавидуешь. Хоть и привычные они к морозам, и весна на дворе, а все же холодно. Носки мокрые, кальсоны мокрые, и не высушить. Кошмар! Наши победоносные войска при отступлении с истинно немецкой обстоятельностью сожгли все деревни, а стоять на пепелище – увольте! Лучше в чистом поле. Это я вам по собственному опыту говорю. Вот они и греются всеми доступными способами. Днем – роют, по ночам костры разводят. Сколько их горит! У иного слабонервного солдата от их вида душа в пятки уйти может, ведь все по нашу душу пришли. Но я, глядя на них, думаю о том, какие это прекрасные ориентиры для наших доблестных артиллеристов. И недоумеваю, почему они недостаточно используют их. Ведь стойбища иванов можно накрыть не только из пушек, но и из гаубиц. А если еще вызвать воздушного корректировщика… Не все же этим верхоглядам прохлаждаться на земле! Вот бы и летали над позициями иванов да направляли огонь, уж костры–то и вспышки разрывов они в темноте как–нибудь разглядят.
– Помню, как–то раз в Сомали, – начал свой рассказ Ули Шпигель, – подрядился я с товарищами помочь одному племени уладить спорный вопрос с соседями. Соплеменники взяли свои копья, мы – свои винчестеры и пошли. Улаживать. Сошлись вечером на большой, как Африка, поляне. А там ночь быстро наваливается. Только они появились, тут хлоп – и тьма. Заметили мы только, что много их было, много больше, чем нас. Так мы костры разожгли, много костров, очень много костров, а как утром проснулись, противников уже не было, испугались.
– Надеюсь, вы не собираетесь перебежать к противнику? – спросил фон Клеффель. – Своими познаниями и опытом вы можете сильно навредить нам.
– Как я успел заметить, – ответил Ули Шпигель, – варварские народы намного изощреннее в такого рода хитростях, чем мы. Так что мой опыт им не пригодится.
– Так, стоп, – воскликнул фон Клеффель, – а это что такое? Этой ночью установили? – он указал на непонятные объекты, похожие на щиты, стоящие перед передним краем вражеских окопов. – Эх, жаль, бинокля нет, отсюда не разглядеть. Но мы должны обязательно выяснить, что это такое. На войне мелочей не бывает. Кто со мной, товарищи?
Он поднялся, надел каску, подхватил автомат, у него единственного из них был «шмайссер», тоже, вероятно, дань «фону», и пошел вниз по склону, к траншеям. За ним увязались Ули Шпигель, Юрген, Красавчик, Курт Кнауф и Зальм, который так привык подтрунивать над Куртом, что уже не мог без него обходиться. Куда Курт, туда и Зальм, ниточка с иголочкой.
Вскоре они стояли в первой траншее и, осторожно приподнявшись над бруствером, всматривались в заинтересовавшие их объекты. Это были действительно щиты, сбитые из крепких ровных досок, размалеванные черной краской. В глаза в первую очередь бросались черный квадрат почти в центре и спадающий от верхнего края черный косой клин.
– Образцы подобной живописи я наблюдал на стенах пещеры в окрестностях озера Танганьика, – сказал Ули Шпигель.
– Не похож, – сказал Курт.
– Как живой, – одновременно с ним произнес Юрген.
– Старо, господа, – сказал фон Клеффель, – с этим трюком я сталкивался еще в прошлом году. Иваны выставили портреты нашего обожаемого фюрера в надежде, что мы не посмеем стрелять и не испортим им их первомайской обедни.
– Иудо–большевистского шабаша, – подхватил Курт. – Но вы, надеюсь, устроили им нашу добрую немецкую Вальпургиеву ночь?
– Мы кавалеристы, а не козлы, мы по ночам не скачем, – сказал фон Клеффель.
– Как живой, говорите? Не посмеем, говорят? Еще как посмею! Пусть не надеются! – воскликнул Зальм и стал удобнее устраивать винтовку в просвете бруствера.
– Потренируйтесь, Зальм, потренируйтесь, – одобрительно сказал фон Клеффель, – вы, как я успел заметить, во время атаки исключительно по воробьям стреляете, забывая о противнике.
– Двойное рвение нашего молодого друга Курта вполне компенсирует это, – ответил Зальм.
– Не спорю. Вы у нас не один такой, но и рядовой Кнауф, слава богу, не одинок. Так что огневая мощь нашего подразделения в атаке находится на приемлемом уровне. Да и то сказать, стрельба на бегу в атаке имеет больше психологическое значение, исход боя в любом случае решает рукопашная схватка. Поэтому куда вы стреляете, дорогой Зальм, не имеет ни малейшего значения, хотя бы и по воробьям, лишь бы стреляли, создавая необходимый шумовой эффект, тем самым вы вносите свой посильный вклад в нашу общую победу, хотите вы этого или не хотите.
– Что же они круги–то не нарисовали! – досадливо сказал Зальм, который все никак не мог приступить к стрельбе. – Я без мишени не умею. Я всегда под яблочко стрелял. А тут куда стрелять?
– Вы так и не переставили прицел с учебных стрельб в лагере, – понимающе протянул фон Клеффель. – Поразительно! Что ж, цельте в усы, попадете в лоб.
– Есть! – радостно завопил Зальм, когда его пуля выбила щепку на черном клине, и, войдя в раж, выпустил по щиту всю обойму.
– Можно не смотреть, – сказал фон Клеффель, отворачиваясь, – все уйдут в молоко. Везет только новичкам и дуракам.
Фон Клеффель угадал. Зальм и вправду исчерпал свою долю везения первым выстрелом. Единственное, чего он добился, так это ответного огня русских.
– Не буди лихо, пока спит тихо, – заметил Ули Шпигель, опускаясь вместе со всеми на дно траншеи.
– В этой глупой затее иванов, господа, скрыт глубокий подтекст, – сказал фон Клеффель, – они как бы говорят нам: у нас строительных материалов выше крыши, девать некуда, мы такие редуты возвели, что вам их ни за что не взять. Тем самым они хотят подорвать наш боевой дух.
– Не на тех напали! – закричал Курт Кнауф.
– Никто не подорвет наш дух! – присоединился к нему Красавчик, но тут же отыграл назад: – Кроме нас самих!
– Нельзя уничтожить то, что не существует, – тихо сказал Зальм.
– Это цитата? – тут же уточнил фон Клеффель.
– Нет, это оригинальная, долго вынашиваемая мысль, – ответил Зальм.
– Два года!
– Всего?! – с обидой в голосе сказал Зальм.
– Вам не угодишь!
Вдруг на фоне ружейного и пулеметного треска прозвучал какой–то необычно глухой артиллерийский выстрел.
– Никак листомет, – сказал Ули Шпигель.
– Точно, – сказал фон Клеффель, – а вот и он! – Он протянул руку, поймал планировавший листок бумаги, протянул Зальму. – Ознакомьтесь, доложите!
– Есть! – Зальм взял листовку, кинул на нее быстрый взгляд. – Загадка, товарищи: слово английское, форма немецкая, сделано русскими. Тому, кто отгадает, – моя вечерняя порция шнапса. Все задумались.
– Автомобиль, – сказал фон Клеффель, – я как–то видел трофейную русскую машину, вылитый «Мерседес–Бенц».
– Какой же это «Мерседес–Бенц», подполковник?! Где ваш острый взгляд?! – немедленно вскинулся Красавчик. – Видел я эту машину, у русских она идет под названием «эмка». Вылитый «Форд», модель Б, вот только передние крылья чуть другие. А двигатель на нем – шестицилиндровый, Додж Д5, семьдесят шесть лошадей, три с половиной литра. Жрет только много – четырнадцать с половиной литров. Выжимает за сотню. Не «Альфа–Ромео», конечно. Вот «Альфа–Ромео» 8С2900 – это, я вам скажу, машина! Помню…
– Ответ неверный, – закричал Зальм и одновременно зажал Красавчику рот, иначе его, оседлавшего любимую тему, было не остановить.
– Ну, тогда не знаю, – развел руки фон Клеффель.
Остальные тоже пасанули. Довольный Зальм показал им листовку, на которой был нарисован кроссворд в форме свастики.
– Das ist ein Kreuzworträtsel! [16]16
Это кроссворд! (нем.)
[Закрыть]– возмущенно закричал фон Клеффель.
– Кто бы спорил, – ответил Зальм. – Но придумали англичане или американцы, так что слово – английское.
– Какое же оно английское?! – продолжал возмущаться фон Клеффель. – Разве же англичане могут такое слово выдумать? Да они его даже произнести правильно не смогут!
– Разгадывать будем? – просто спросил Зальм. Все дружно согласились.
– Летающая свинья, – зачитал Зальм.
– Это элементарно, – пренебрежительно отмахнулся фон Клеффель, – вот только почему летающая? Рейхсмаршал так растолстел в последнее время, что ни в какой самолет не влезет.
– Умный солдат.
– Сколько букв?
– Восемь.
– Тогда – дезертир, – сказал Ули Шпигель.
– Проверим! И развеселит, и приголубит, и погубит. Шесть букв. Если дезертир, то третья – т.
Юрген рассказывал Красавчику с Куртом, как именно иваны называют свои ужасные реактивные минометы, поэтому они не затруднились с ответом, завопили дружно:
– Катьюша!
На это Ули Шпигель укоризненно покачал головой и негромко повторил:
– Не буди лихо, пока спит тихо. Разбудили. Или само проснулось.
Das war ein Deutscher
Это был немец. Первый человек, которого он убил, был – немец. Возможно, его пуля убивала кого–то и раньше. Даже если стреляешь в воздух, как Зальм, никогда не можешь быть уверенным, что пуля не найдет тело. Находит – пуля, его намерения, воля и желания тут ни при чем. Он не хотел этого, он не видел этого, он не знал и никогда не видел людей, в которых, возможно, попала пуля, выпущенная из его винтовки.
Тут было другое. Он убил не в запале и не в схватке, убил по своей воле, осознанно и преднамеренно, глядя в глаза своей жертве и вдыхая запах хлещущей из смертельной раны крови. И он не чувствовал раскаяния от содеянного.
Дело было так. Юрген с Красавчиком сидели в секрете, в окопе, выдвинутом далеко за переднюю линию траншей. За последнюю неделю иваны предприняли три ночные вылазки, поэтому дозоры вдвое усилили. А еще их перевели из деревенских домов в блиндажи, но ведь так было задумано с самого начала, для того их и сооружали, это не вызвало беспокойства. «Бдительность, бдительность, бдительность», – талдычили командиры, но они всегда это говорят. Иногда на них вдруг накатывала какая–то странная внутренняя дрожь, что–то стесняло грудь, они начинали нервно оглядываться и незаметно для себя подтягивались ближе к блиндажам. Но вот раздавались раскаты грома, сверкала молния, с неба обрушивались потоки воды, и напряжение сразу спадало, и сразу становилось легче дышать, и они с громкими криками скатывались под крышу блиндажа – гроза! Грозы той весной были сильными.
Была ночь. Они таращили глаза в темноту, а больше слушали, слух ночью надежнее.
– Немецкие солдаты! Товарищи! – донеслось до них.
– Ну, началось! – шепнул Красавчик в ухо Юргену.
Что ни день, иваны обрабатывали их пропагандистскими речами. У них для этого специальная машина была с установленным на ней огромным рупором. Этот патефон на колесах передвигался позади русских позиций, без устали прокручивая пластинку агитки. Запилят одну, поставят другую. Слышно было плохо. День, суета, топот, командиры покрикивают, котелки стучат, перестрелки вспыхивают. Вслушиваться приходилось. Но и тогда слух выхватывал лишь отдельные куски фраз. Произношение было не ахти, поэтому слова скорее угадывались. Угадывание облегчалось тем, что некоторые обороты были точь–в–точь как в речах фюрера или доктора Геббельса. При свете дня да в кругу товарищей это не действовало, скорее вызывало смех, для того, собственно, и вслушивались. Фон Клеффель, к примеру, всегда начинает рычать и скалить зубы, заслышав выражение «кровожадные псы», а Зальм обожал быть «одурманенным фашистской пропагандой». Иваны, наверно, и сами это понимали, поэтому переключились на ночные вещания. Это только кажется, что солдат ночью спит и ему ни до чего нет дела. Вот Юрген с Красавчиком, к слову сказать, не спали и вместе с ними десятки других дозорных. А иной солдат и рад бы был поспать, да не спится, мысли о доме мучают, о судьбе. А тут ему в темноте и тишине – кап–кап–кап. Вода камень точит.
– Внимание! Специально для первой роты пятьсот семидесятого испытательного батальона. Это говорит…
– Герберт Вернер! – продолжил Красавчик.
В полный голос сказал, чего там шептать, если и так на всю округу гремит. Машину иваны так близко подогнать не могли, наверно, какую–нибудь переносную установку приволокли, а с ней и этого…
– Вот ведь сука, – сказал Юрген.
Спокойно сказал, без возмущения. Констатация факта. О том, что Герберт Вернер – сука, Юрген узнал не сейчас и не несколько дней назад, когда им объявили о его дезертирстве, он это знал всегда, с момента их знакомства в лагере Хойберг. Противный был тип, все выгадывал, как бы получше устроиться. И стучал на всех подряд, в первую очередь на своих дружков социал–демократов. Я, говорил, за нацистскую власть воевать не собираюсь, как только на фронт попаду, сразу американцам сдамся, американская демократия соответствует моим идеалам. Убедительно говорил, потому что искренне. А потом так же искренне рассказывал шарфюреру, кто как на его слова отреагировал. Когда стало понятно, что их отправляют на Восточный фронт, Вернер вдруг товарища Сталина полюбил и стал тереться возле коммунистов, чтоб поднабраться их словечек. И к Юргену уже здесь подкатывался: может быть, того, туда, ты как? Юрген только молча сплюнул, повернулся к нему спиной и прочь пошел. Не к командиру докладывать, как положено, без него докладчики найдутся, а к товарищам.








