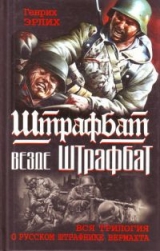
Текст книги "Штрафбат везде штрафбат. Вся трилогия о русском штрафнике Вермахта"
Автор книги: Генрих Эрлих
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 47 страниц)
Их было много, этих комбатантов, как они себя теперь именовали. Бело–красные родники били из подвалов домов и люков канализации, сливались в ручейки в переулках, в реки на улицах и широким потоком неслись все дальше от Вислы. Их было чрезвычайно много, больше семнадцати тысяч, тех, кто дошел до фильтрационного лагеря в Пруткове. Их было даже больше, чем немцев, смотревших им вслед и скрежетавших зубами от ярости.
Но мирных граждан было еще больше. Они тоже потянулись из Варшавы. Сто, двести, триста тысяч – это невозможно было сосчитать. Они видели только тех, кому помогали выбираться из подвалов, и тех, кто проходил в колоннах мимо них, толкая перед собой набитые разным добром детские коляски и таща узлы.
Варшава обезлюдела. По улицам бродили специальные команды саперов. Но им нечего было взрывать. Другие специальные команды собирали оставшиеся в Варшаве материальные ценности, мародерствуя на законных основаниях. Они не обращали на них внимания. Каждому свое.
Они наслаждались передышкой, отъедались и отсыпались после многодневных боев. Они сидели вечерами у костров, которые разжигали во дворах домов, делились воспоминаниями, обсуждали перспективы войны. Они ощущали себя победителями, поэтому вспоминали доброе, а надеялись на лучшее.
Юрген ходил от костра к костру, он больше слушал, чем говорил, он слышал много интересного для него и подчас неожиданного. Вот Фридрих делился воспоминаниями о гитлерюгенде:
– Знаете, а мне нравилось в «гитлерюгенде»! Товарищеские отношения, которые там царили. Родители у меня люди замкнутые, а я единственный сын, они не отпускали меня от себя, так что до десяти лет у меня не было товарищей. Когда я вступил в юнгфолк, меня переполнял энтузиазм. Да и какого мальчишку не воодушевят такие идеалы, как товарищество, верность и честь? Я все еще помню, как тронул меня девиз «Члены юнгфолк сильны и преданны; члены юнгфолк – настоящие товарищи; честь – высочайшая ценность для члена юнгфолк». Эти слова казались мне священными! Что может быть лучше, чем наслаждаться красотами родного края в компании товарищей? А вечерний сбор у костра, когда мы пели песни и рассказывали разные истории…
Там бок о бок сидели подмастерья и школьники, сыновья рабочих и служащих, мы все знакомились и учились ценить друг друга. И сейчас я испытываю те же самые чувства. Не поверите, но я счастлив, что попал именно в ваш батальон!
– В наш батальон!
– В наш батальон! – с радостью исправился Фридрих. – Спасибо вам! Ура товарищам!
– Хох–хох–хох! – закричали все.
– Я вырос в рабочей семье, – вступил в разговор один из солдат, – мои родители были коммунистами, но даже у нас не было никаких противоречий и стычек с гитлерюгендом. Нам нравилась их форма, их парады и походы. Мой младший братишка вступил в гитлерюгенд. Да и сам я, когда подрос, осознал, что фюрер и партия достигли таких важных социалистических целей, как расширение возможностей для получения образования для бедных и для получения хорошей работы, социальная справедливость. Я все это испытал на себе.
Ему вторил у соседнего костра обер–лейтенант Вортенберг, сидевший в кругу других офицеров и унтер–офицеров.
– Помните, что говорил фюрер? Если посмотреть на повышение в чинах наших молодых офицеров, то можно увидеть, что здесь в полной мере действует идея национал–социалистического «народного единства». Отсутствуют какие–либо привилегии по рождению или прежнему положению в жизни, отсутствует понятие богатства или так называемого «происхождения». Есть только одна оценка: оценка храброго, отважного, верного человека, способного отдавать всего себя служению Отчизне. Так и есть, товарищи!
Так и есть, кивали головами все сидевшие за костром.
Юрген даже остановился и послушал Рудольфа Бельке, их офицера по национал–социалистическому руководству. Раньше он его за версту обходил или демонстративно спал на его лекциях. А тут вдруг вслушался.
– То, что удалось уже на протяжении нескольких месяцев удерживать большевистские армии на восточном берегу Вислы и одновременно подавить крупнейшее в польской истории восстание в Варшаве, является важнейшим военным достижением. Спустя длительное время, после многочисленных военных неудач, снова достигнута бесспорная победа германского оружия. Причем лавры победителей достались как войскам, которые остановили большевистские орды на Висле, так и нам, германским соединениям, которые подавили восстание и одновременно предотвратили переправу русских через Вислу, – вещал Бельке как по писаному. – Хотя враг время от времени имел подавляющее превосходство, все наши войска героически следовали лозунгу, который был выдвинут командующим 9–й армией генералом танковых войск фон Форманом. – Бельке сделал паузу.
– Мы стоим на Висле, и мы держим Вислу! – дружно закричали солдаты.
Юрген присоединился к их скандированию. Ему нравился этот лозунг. Вельке ему по–прежнему не нравился, пусть и говорил он все правильно, а вот лозунг нравился. Не грех и повторить.
– Мы стоим на Висле, и мы держим Вислу! – закричал он.
– Да! – ответил ему рев сотни глоток, всех, кто сидел во дворе, вспоминая доброе и надеясь на лучшее.
Юрген поднялся в квартиру, которую подполковник Фрике приспособил под штаб батальона. Они немного поговорили о том о сем, Юрген пересказал Фрике слышанные у костров разговоры, ему было интересно, что скажет на это Фрике.
– Фюрер продвигает идею единства, которая не сулит большого богатства и которую лично мне, как человеку старого воспитания, нелегко переварить. Но подавляющее большинство немецкого народа принимает и придерживается ее, выковывая и формируя ее, прилагая для ее воплощения достойные восхищения совместные усилия. Я счастлив быть частью этого великого народа, моего народа. Всегда и во всем надо быть со своим народом, – вот что сказал подполковник Фрике. – Мы пытаемся изменить облик мира, – добавил он напоследок, – это великая задача. Ради этого стоит жить и бороться.
* * *
Юрген сидел один в гнезде наблюдателей, сложенном из гранитных плит над самой водой. В нем было уютно – у них не было проблем со строительными материалами, и в то же время просторно, ведь гнездо было рассчитано на двух наблюдателей. Но у них не хватало людей на все смены, на все многочисленные посты и караулы. Да в этом и не было сейчас большой нужды, на фронте царило затишье, обе стороны копили силы для новой схватки. Русские изредка постреливали, больше для того, чтобы напомнить о своем присутствии, да засылали лазутчиков на маленьких лодчонках, похожих на байдарки или каноэ. Но это случалось обычно выше или ниже по течению, сюда, в центр Варшавы, русские не совались.
Он сам вызывался в эти ночные караулы. Ему нравилось сидеть над водой, над широкой мирной гладью, где глаз не застили развалины и укрепления, где не мелькали фигурки людей с оружием в руках, где пахло речной свежестью, а не гарью пожарищ и разлагающимися под слоем камней трупами, где было тихо, где не звякало оружие, не цокали по камням металлические набойки на сапогах, где не гоготали и не храпели солдаты.
Здесь хорошо думалось. Ему было о чем подумать.
Юргена переполняла гордость или какое–то другое, родственное чувство. Бывало, они наступали и выбивали русских с позиций. Бывало, что наступали русские и выбивали их. В том не было их вины, они попадали под железную лавину, многократно более сильную. И вот – ничья. Они остановили русских. Выстояли. Через не могу. Это было сродни победе.
Но главная схватка впереди. И схватка будет здесь, в Варшаве. Это будет их крепость, Варшавская крепость. И хорошо, что поляки ушли отсюда. Они им здесь не нужны. Это будет честная мужская схватка немцев и русских, в ней они будут решать, кто кого. Юрген не сомневался, что победа будет за ними. Кто выстоял раз, выстоит и второй, и третий. Отсюда начнется новый поход на Восток. Здесь возродится и окрепнет непобедимый немецкий дух.
И еще здесь родится новая немецкая нация. В ведьмином котле Варшавы произошла великая переплавка. Все лишнее, случайное, вся грязь и мерзость ушли в шлаки, остался чистый металл, сверхтвердый сплав.
И после войны они, победители, построят новую Германию, счастливое народное сообщество, новый порядок, который изменит облик мира. Так переплавилось в душе Юргена все, что он видел, слышал и пережил за последние три месяца.
Цок–цок–цок. В проходе стояла Эльза.
– Я была в госпитале, – сказала она.
– Как он? – спросил Юрген.
– Он выкарабкался. Завтра его перевозят куда–то в Саксонию, в армейский госпиталь.
У Юргена отлегло от сердца. Красавчик пролежал три дня в полевом госпитале в Варшаве. Он так и не пришел в сознание. Потом его перевезли в госпиталь под Варшавой, оттуда не доходили вести. Сегодня утром Эльза, отпросившись у Фрике, отправилась туда сама.
– Он что–нибудь просил передать?
– Вот черт, сказал он, никогда не думал, что там так плохо, а здесь так хорошо.
– Узнаю Красавчика! Он не меняется.
– Еще как изменился! Шутит напропалую с санитарками и хлопает их здоровой рукой по всему, до чего дотянется. А они так и шныряют мимо его койки, норовя пройти как можно ближе, – рассмеялась Эльза.
– Ты совсем не расстроена этим, – сказал Юрген.
– Почему я должна быть этим расстроена?
– Ну, мне казалось, что ты неровно дышишь к Красавчику.
– Дурачок, – рассмеялась Эльза, – я в тебя с первого мгновения втюрилась, это все знают.
Вот так просто. Юрген посмотрел на Эльзу. Она вся дрожала.
– Ты чего дрожишь? – спросил он.
– Холодно, – ответила она.
– Садись ко мне, погреемся.
Он расстегнул шинель, откинул полу. Эльза прижалась к нему. Он обнял ее одной рукой.
– Как ты думаешь, война когда–нибудь кончится? – спросила Эльза после долгого молчания.
– Кончится, – ответил Юрген, – все когда–нибудь заканчивается.
– Не все, – убежденно сказала Эльза и еще теснее прижалась к нему.
Юрген усмехнулся про себя. Ох, уж эти девчонки! Верят в вечную любовь. Добродушно, впрочем, усмехнулся.
Раздался легкий шорох Юрген поднял глаза. В проходе, привалившись плечом к стене, стояла темная фигура, она смотрела на них, блестя белками глаз. Фигура сказала голосом Брейтгаупта:
– Нет худа без добра.
«Nichts ist so schlecht, es ist zu etwas gut.»
Это сказал Брейтгаупт.
Неизвестно, что хотел сказать этим Брейтгаупт, возможно, всего лишь то, что в самой поганой ночной смене есть светлый момент, когда приходит сменщик. С Брейтгауптом всегда было так: никто не знал, о чем он думал, но высказывания его всегда попадали в точку. С ними нельзя было не согласиться. Вот и Юрген согласился. Он поднялся и, не выпуская Эльзу из объятий, подошел к Брейтгаупту, похлопал его дружески по груди и пошел в темноту варшавской ночи.
Он был счастлив. Он был в мире с самим собой. Даже посреди войны можно быть в мире с самим собой.
Последний штрафбат Гитлера
Это была великанская зима. По крайней мере, так утверждал рядовой Йозеф Граматке, глиста в очках. Он ходил за спинами солдат, сидевших вокруг праздничного стола, ходил, переваливаясь со стоптанного каблука с отвалившимися набойками на разбитый носок, – пять шагов вперед, поворот, пять шагов назад, – и вещал скрипучим голосом. Казалось, что его мерно двигавшаяся нижняя челюсть – это дверца, трепыхавшаяся на несмазанных петлях.
Юрген Вольф, вольготно развалившийся на хозяйском диване, с плохо скрываемой неприязнью следил за Граматке, поводя глазами в такт его движениям. Это был самый никудышный солдат его отделения. Юрген как навесил на него этот ярлык еще полгода назад в Брестской крепости, так и не снял до сих пор, несмотря на то что они прошли вместе уже много боев, – и в Бресте, и под Варшавой, и в самой Варшаве, а в поступившем после тех боев пополнении было много кандидатов на это звание, достойных его куда более Граматке.
Но этот Граматке был слишком высокого мнения о себе и по–прежнему кичился перед ними своим университетским образованием. Человек, который слишком много о себе думает и который вообще слишком много думает, не может быть хорошим солдатом. Юрген пару раз пытался сплавить его в другие отделения. Но после очередного кровопролитного боя, когда сильно прореженные отделения объединяли, Граматке неизменно возвращался под его команду. Возвращался без единой царапины, – черт бы его подрал, как будто нарочно для того, чтобы действовать на нервы ему, Юргену Вольфу.
– Граматке! Вы что в школе преподавали? – прервал Юрген излияния подчиненного.
– Немецкую литературу, герр фельдфебель, – ответил Граматке.
– Так какого черта вы рассуждали о действиях Вермахта на Восточном фронте и высказывали сомнение в военном гении фюрера?! – рявкнул Юрген.
Именно за это Граматке попал сначала в концентрационный лагерь, а оттуда в их 570–й ударно–испытательный, или, попросту говоря, штрафной батальон.
– Именно знание классической литературы и истории позволяет мне верно оценивать происходящие события, – несколько высокомерно ответил Граматке. – Если бы вы, герр фельдфебель, получили такое же гуманитарное университетское образование, как я, у вас бы тоже возникли сомнения…
Тут Граматке благоразумно замолчал, чтобы не нарваться на обвинение в антигосударственных высказываниях и подрыве боеспособности военного подразделения. В регулярных частях Вермахта это был верный трибунал, приговор – расстрел или концлагерь – зависел от состояния печени судьи в момент вынесения приговора. В штрафном батальоне за это чистили нужники. Тоже неприятно. И богатый опыт со сноровкой, которые приобрел Граматке в чистке нужников, не делали это занятие для него менее неприятным.
– Вам, яйцеголовым, образование только мешает видеть очевидные вещи, понятные любому солдату и унтер–офицеру, – сказал Юрген. – Что вы за люди?!
Никогда не скажете твердое «да» или столь же твердое «нет». Вы все время сомневаетесь, во всем. А мы люди простые и потому прямые. У нас нет сомнений! У нас не возникает сомнений!
– Да! – дружно закричали солдаты за столом.
Юрген поймал веселый взгляд Фридриха Хитцльшпергера, Счастливчика. Это был его любимчик. Это был всеобщий любимчик. Таким же был когда–то Руди Хюбшман, Красавчик, лучший товарищ Юргена. Но Красавчик после тяжелого ранения в Варшаве затерялся где–то в госпиталях, от него не было вестей. И опустевшее место в сердце Юргена занял Счастливчик. Ему не было девятнадцати. Он был из интеллигентной семьи, хорошо воспитан и образован. Возможно, поэтому почти сразу после призыва в армию он пытался дезертировать, его поймали и отправили к ним в сборный лагерь испытательных батальонов в Скерневице, под Варшавой. Поначалу с ним пришлось помучиться, но в конце концов из него вышел хороший солдат и отличный товарищ. В боях в Варшаве в тот же день, когда Красавчику прострелили грудь, – Фридриха задело осколком, левое предплечье, но он остался в строю, в батальоне. Юргену было с ним легко, они хорошо понимали друг друга.
Вот и сейчас Фридрих правильно понял его. У Юргена не могло возникнуть сомнений в военном гении фюрера, потому что он никогда в этот гений не верил. Его так воспитали родители. Фридриха, похоже, тоже. Именно поэтому его глаза искрились смехом. Юрген слегка подмигнул ему, сдерживая улыбку.
– Что можно поведать о Гибели богов? Мне не довелось прежде слышать об этом, [66]66
Строчка из «Старшей Эдды», основного произведения германо–скандинавской мифологии.
[Закрыть]– сказал Фридрих, обращаясь к Граматке.
Так он разряжал легкое напряжение, возникшее в комнате из–за столкновения командира с рядовым. Возможно, он уловил, что Юрген собирается объявить Граматке положенные и заслуженные два наряда вне очереди. Но зачем портить взысканиями добрый сочельник? Незачем, молчаливо согласился с ним Юрген и благодарно кивнул головой. Граматке тоже благосклонно посмотрел на Фридриха, как учитель на любимого ученика, и надулся от всеобщего внимания.
– Много важного можно о том поведать, – напыщенно процитировал он. – И вот первое: наступает лютая зима, что зовется Фимбульвинтер. Снег валит со всех сторон, жестоки морозы, и свирепы ветры, и совсем нет солнца. – Тут все поежились и посмотрели за окно, где все в точности соответствовало древнему тексту. – Три такие зимы идут кряду, без лета. А еще раньше приходят три зимы другие, с великими войнами по всему свету.
Граматке уже никто не слушал. Все принялись считать зимы, чтобы понять, когда исполнится пророчество. Молодые солдаты, тон среди которых задавал Фридрих, считали, что «великанская зима» – это война с Советами. Они были уверены, что в России не бывает лета, сплошная зима: под Москвой, на Волге, под Петербургом, на Кавказе и на Украине.
– Еще как бывает! – воскликнул Франц Целлер. – Африканская жара! Вам, парни, такого и не снилось!
– Ну уж и африканская! – прервал его Георг Киссель. – Много вы в африканской жаре понимаете! Вот помню…
– Заткни пасть, Африканец! – коротко приказал Юрген.
Киссель заслужил свое прозвище тем, что воевал в Ливии в составе отдельного батальона 999–й испытательной бригады. Он был «политическим», социал–демократом, эту публику Юрген терпеть не мог еще с его первого лагеря в Хойберге. Они были болтунами и предателями. Вот и Киссель попытался в Ливии перебежать к американцам, да кишка оказалась тонка, вернулся с полдороги, испугавшись пустыни. А там идти–то было всего десять километров, тьфу! Самое противное было в том, что он, не таясь, рассказывал о своем неудавшемся дезертирстве и восхищался теми, кто дошел до конца. Их было много, тех, кто дошел до конца, так что Киссель толком и не повоевал в Африке – остатки их батальона уже через месяц перебросили в Грецию. Там дезертировать было накладно, запросто можно было угодить к партизанам, а те резали немцев, невзирая на их убеждения. Прибытие Кисселя в их батальон Юрген рассматривал как наказание – для него, фельдфебеля Вольфа. Двойное наказание ведь этот Киссель так и не научился воевать и был вдобавок дезертиром в душе. За ним нужен был глаз да глаз.
– Идешь пятьдесят километров по степи с полной выкладкой, – продолжал между тем свой рассказ Целлер, – а вокруг ничего, ни деревень, ни деревьев, ни рек, ни дорог, одно солнце над головой, палящее солнце! Так ведь, Юрген? – запросто, на правах «старика» и бывшего лейтенанта, обратился он к командиру.
– Так, – сказал Юрген. Всколыхнулось воспоминание о детских годах, проведенных в деревне под Саратовом. Безоблачное небо, жаркое солнце, Волга, веселые крики пацанов. Он задушил воспоминание в зародыше, втоптал в глубины памяти, настелил сверху другие. – Я южнее Орловской дуги не бывал, – сказал он, – но летом 43–го там было жарко, очень жарко.
Юрген обвел взглядом сидевших за столом солдат. Все они попали в батальон позже лета 43–го, много позже. С Целлером они воевали вместе чуть более полугода. Целлер был стариком, глубоким стариком. В штрафбате так долго не живут.
Всем им за различные преступления, действительные или мнимые, присудили пройти испытание, доказать с оружием в руках, что они достойны быть членами народного сообщества. Все они отбывали здесь срок, короткий, пожизненный. Кого–нибудь из них, возможно, признают прошедшим испытание, реабилитируют, восстановят в правах. Посмертно.
Сам Юрген не в счет. Он – исключение из общего правила, едва ли не единственное. Он не стремился пройти испытание и не совершал геройских поступков. А если и совершал, то не для того, чтобы пройти испытание. Чтобы выжить самому, чтобы спасти жизнь товарищей, из ухарства, наконец. Такой у него был характер, воспитанный в портовых районах Гданьска и Гамбурга.
Начальству из пропагандистских соображений потребовался живой реабилитированный штрафник. Их было немного, выживших в мясорубке битвы на Орловской дуге. Выбор пал на Юргена. Ему это было безразлично. Он не считал, что ему повезло. Он резко обрывал всех, кто говорил: как же тебе повезло! Он верил, что каждому человеку отпущен свой, ограниченный запас удачи. И нечего его использовать на всякие реабилитации, награждения и чины. Больше на бой останется. В бою без удачи не выжить.
Он остался в батальоне, вместе со своими товарищами, с Красавчиком и Гансом Брейтгауптом. Брейтгаупт стоял сейчас в карауле. Юрген посмотрел на наручные часы. До конца смены оставалось полчаса. «Крепись, старина Брейтгаупт, – послал мысленный сигнал Юрген, – ты переживал и не такие морозы». Он стал считать, загибая пальцы. Брейтгаупт был на Восточном фронте с первого дня, выходило – четвертую зиму.
– Сейчас четвертая зима, – сказал Юрген.
– Точно, – откликнулся Целлер, в его голосе звучало удивление. Неужели четвертая? А как будто вчера… Годы пролетели как один день, один бесконечный кошмарный день.
– Это не великанская зима, – сказал Фридрих с каким–то детским разочарованием.
– Осмелюсь заметить, герр фельдфебель, что вы неправильно считаете, даже на пальцах, – язвительно заметил Граматке. – Война началась в 39–м, итого, – он стал демонстративно загибать пальцы на руке, – зима на 40–й, на 41–й, на 42–й, на 43–й, на 44–й, – тут он потряс сжатым кулаком и откинул большой палец, – на 45–й, шесть! Если бы вы внимательно слушали меня, то запомнили бы… Повторяю еще раз! Три такие зимы идут кряду, без лета. А еще раньше приходят три зимы другие, с великими войнами по всему свету. Три плюс три – шесть!
Все примолкли, озадаченные и подавленные. Да, действительно, три плюс три – шесть, тут не поспоришь, конец подкрался незаметно, прямо хоть ложись и помирай.
– Вот как говорится об этих годах в «Прорицании вельвы», – продолжал вещать Граматке:
Братья начнут
Биться друг с другом,
Родичи близкие
В распрях погибнут;
Тягостно в мире,
Великий блуд,
Век мечей и секир,
Треснут щиты,
Век бурь и волков
До гибели мира.
«Господи, чем у человека голова забита, – подумал Юрген, – а с фаустпатроном до сих пор не научился обращаться. Всех–то дел: снять контровую проволоку, поднять целик, поставить предохранительную защелку в боевое положение, прицелиться, нажать спуск. Что тут можно перепутать?! Ребенок справится! А этот – нет, не может!»
– Вы, мужчины, только и знаете, что сражаться и уничтожать друг друга и мир вокруг. А женщины все наперед знают. Вы нас слушайте! – раздался голос рядом с ним.
Это была Эльза, подружка Юргена. Он с товарищами спас ее в Варшаве от изнасилования русскими из бригады СС Каминского. После этого она прибилась к ним санитаркой, ей некуда было идти. Прибилась сначала к батальону, а потом уж к нему, Юргену. Он был не против, а совсем даже наоборот. Хорошая девчонка! У них вроде как любовь. Или не вроде. Он не задумывался. Солдату на войне вообще лучше не задумываться, тем более о любви и будущем. Чуть задумаешься, чпок – и все, ни любви, ни будущего. Живи одним днем, а еще надежнее – одной минутой, смотри зорче по сторонам и чутче слушай. Целее будешь. Но иногда можно и расслабиться, вот как сейчас, у праздничного стола, в кругу товарищей. Юрген обнял сидевшую рядом Эльзу, притянул к себе. Она опустила голову ему на плечо, уютно свернулась калачиком на диване.
– Ну откуда вы можете знать? – спросил Юрген. – Чтобы знать, надо мозги иметь для начала. Разве в такой хорошенькой головке могут быть мозги? – Он постучал средним пальцем по голове Эльзы.
Ласково, впрочем, постучал. Эльза и не обиделась, нисколько. Она не была уверена, что у женщин есть мозги, более того, она вообще сомневалась, что они им нужны. Она так и сказала.
– А зачем нам мозги? И так голова при месячных трещит, а тут еще и мозги от мыслей умных болеть будут. Нам, женщинам, думать не надо, мы и так все знаем. Это вам, мужчинам, думать надо, потому что вы ни хрена не знаете. Но лучше бы и вы не думали, а то придумываете черт–те что!
Тут она выдала такое выраженьице, что все сидевшие за столом дружно заржали. Только Граматке неодобрительно поджал губы. Юрген тоже смеялся. Ох, и бедовая же девчонка! И так–то была остра на язык, а уж как нахваталась в батальоне всяких словечек, такое стала заворачивать, что только держись! Так ведь штрафбат, люди тут были разные, но говорить все быстро начинали почему–то на одном языке тюремном, блатном. А Юргену этому языку и учиться не надо было. Он с ним в штрафбат пришел, он до этого два года в тюрьме с уголовниками сидел.
– Так откуда же вы все знаете? – вновь спросил Юрген.
– Оттуда, – Эльза ткнула рукой вверх, – когда вы, мужчины, истощившись в бесполезной борьбе, обращаетесь к нам за советом и помощью, мы обращаемся к небесам, и к нам оттуда снисходит знание. И мы пророчествуем, как вельвы.
– Сверху, говоришь, снисходит, – усмехнулся Юрген, – а я–то всегда считал, что снизу. – Он скользнул рукой к низу ее живота.
– Юрген Вольф! – с показной строгостью воскликнула Эльза. – Что вы себе позволяете?!
– Вельвы думают вульвой, – выдал Фридрих.
Он, как и все, трепетно относился к Эльзе, он не хотел ее обидеть, но такой уж он был человек, ради красного словца не жалел никого и ничего. Этим Фридрих напоминал Красавчика, он многим напоминал Юргену его лучшего товарища, возможно, Фридрих невольно копировал его.
– Фи! – сказала Эльза. – Какой грубиян! А еще из приличной семьи!
Больше никто не отреагировал на шутку Фридриха, они и слов–то таких не знали, у них в ходу были более простые названия. Только Граматке укоризненно посмотрел на Фридриха. Тот поспешил исправиться.
– Продолжайте, наставник! – завыл он. – Что случится в конце великанской зимы? Что ждет нас впереди? – Тут он завыл совсем уж по–волчьи.
Не просто так завыл, потому что Граматке тотчас подхватил:
– И тогда свершится великое событие: Волк поглотит солнце, и люди почтут это за великую пагубу. Другой же волк похитит месяц, сотворив тем не меньшее зло. Звезды скроются с неба. И вслед за тем свершится вот что: задрожит вся земля и горы так, что деревья повалятся на землю, горы рухнут и все цепи и оковы будут разорваны и разбиты.
– А вот это славно! – воскликнул Юрген.
Но никто не отреагировал. Все, невольно прижавшись плечами, слушали Граматке, его страшную сказку.
«Как дети», – усмехнулся про себя Юрген. Он посмотрел на часы, высвободил плечо из–под головы Эльзы, поднялся. Она вскинула глаза, в них стоял немой вопрос. Она была приучена, что у мужчин свои дела и они не любят, когда женщины суют в них свой нос, даже когда спрашивают о них. «Надо сменить Брейтгаупта», – тихо сказал Юрген. Эльза благодарно кивнула. Он ласково провел рукой по ее лицу.
Но сначала он зашел на кухню, откуда уже просачивались умопомрачительные запахи. Какое же Рождество без гуся! Без двух гусей!
Гусей добыл Отто Гартнер, это было непросто. Если бы их не перевели из центра Варшавы в пригород, не видать им гусей как своих ушей. Да и в пригороде гусей надо было не только найти, но и взять. Специалистов в их батальоне хватало, в отделении Юргена на такие случаи имелся Зепп Клинк, профессиональный домушник, он после наводки Отто рвался на дело, но Юрген строго–настрого приказал ему не высовываться. Слишком велик был риск. Начальство и так–то мародеров не жаловало, а после Варшавского восстания вовсе закрутило гайки. В Вермахте за украденного гуся можно было угодить в штрафбат, в штрафбате – под расстрел. Такая вот несправедливость! Гуся можно было только купить или, точнее, выменять, потому что обнаглевшие поляки уже отказывались брать рейхсмарки.
Это была работа для того же Отто Гартнера, он был в их отделении экспертом по черному рынку. Так у них в батальоне было заведено: экспертом в том или ином вопросе считался тот, кто пострадал за это. Гартнер, комиссованный после нескольких ранений, добывал себе пропитание на черном рынке в Мюнхене, там его и взяли. В тюрьме его признали годным для прохождения службы в штрафбате.
За двух гусей Отто отдал новенькие офицерские сапоги и три кожаных ремня с бляхами, которые очень ценились поляками, вероятно, за надпись «Got mit uns». [67]67
Бог с нами (нем.).
[Закрыть]Все это обеспечил Зепп Клинк, как–то ночью посетивший армейский склад. Еще поляки предлагали поросенка за ящик винтовочных патронов. Но Юрген сказал твердое «нет», пусть достают в соседнем отделении. Так они остались без поросенка. Но зато Отто выменял канистру самогонки на канистру керосина, тут все было по–честному.
Своих гусей Отто «пас» даже сейчас, стоя рядом с печкой.
– Ну что, скоро? – спросил Юрген.
– Еще полчаса, мальчики, – ответил Эберхард Эббингхауз. Он отставил заслонку духовки, выпустив клубы ароматного пара, и заглянул внутрь. – Пальчики оближете!
Эббингхауз был поваром из Дуйсбурга. Но в батальоне он был в первую очередь солдатом, ему редко выпадал случай продемонстрировать свое искусство, так что сейчас он просто лучился от счастья. Еще он занял в отделении давно пустовавшее место эксперта по гомосексуализму. Юрген даже думал, что в тылу их всех повывели или они сами перековались. Прибытие Эббингхауза развеяло эту иллюзию. Впрочем, он был хорошим парнем и отличным поваром, вот только солдатом никаким. Эббингхауз, когда–то разделывавший и жаривший мясо, теперь сам стал мясом, которое вскоре разделают и изжарят другие повара с восточного берега Вислы.
– Не сомневаюсь, Эбби, – сказал Юрген и похлопал его по плечу.
Он вернулся в комнату, остановился на пороге. Граматке продолжал свой рассказ:
– А Волк Фенрир наступает с разверзнутой пастью: верхняя челюсть до неба, нижняя – до земли. Было бы место, он и шире бы разинул пасть. Пламя пышет у него из глаз и ноздрей. Мировой Змей изрыгает столько яду, что напитаны ядом и воздух, и воды. Ужасен Змей, и не отстанет он от Волка. В этом грохоте раскалывается небо, и несутся сверху сыны Муспелля. Сурт скачет первым, а впереди и позади него полыхает пламя. Славный у него меч: ярче свет от того меча, чем от солнца.
– Блачек, Тиллери, ко мне! – громко крикнул Юрген.
– Есть!
Тиллери уже стоял перед ним, руки по швам, грудь колесом, усердие в выкаченных глазах. Сразу был виден обер–фельдфебель, бывший. Это был хороший солдат, опытный, быстрый, инициативный и сообразительный. На этом и погорел. Когда иваны пошли в наступление под Люблином, Тиллери, видя неминуемость окружения, приказал своему отделению отойти на вторую линию укреплений. Вестовой, несший приказ командира батальона об отходе, встретился им на полпути, но высокий суд не принял это во внимание. Тиллери оставил позицию без приказа. Разжалование. Лишение гражданских прав. Испытательный батальон.
А вот и Блачек. Подошел быстро и четко, да встал медленно. С ним всегда так – долго доходит. Блачек из–под Мезерица, это в их глубоком тылу, у Одера, он был крестьянином, возможно, в этом все дело. Точно также до него долго доходил приказ об отступлении, отданный командиром его отделения. Все солдаты рванули в тыл, а Блачек остался один в траншее перед цепью наступающих русских. Товарищи вернулись и вытащили Блачека из траншеи, как оказалось, только для того, чтобы его потом обвинили в намерении сдаться в плен. Его могли расстрелять, так что он еще легко отделался.








