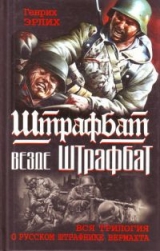
Текст книги "Штрафбат везде штрафбат. Вся трилогия о русском штрафнике Вермахта"
Автор книги: Генрих Эрлих
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 47 страниц)
Тревога, прозвучавшая в голосе фон Клеффеля, подхлестнула и Юргена. Дела обстояли далеко не так хорошо, как казалось, и с каждой минутой становились все хуже. Иваны в некоторых местах подобрались вплотную к траншее и закидывали ее гранатами. Их роте пока удавалось удерживать иванов на расстоянии шагов в пятьдесят, но вот они рванули вперед. Фон Клеффель не стал тратить время на замену опустевшего магазина, отшвырнул автомат в сторону и первым кинул в нападавших гранату. Его примеру немедленно последовал Кнауф. Кидал и Юрген. Как кидают камни, чтобы отогнать стаю собак.
На этот раз иванов удалось остановить. Они залегли все в тех же пятидесяти метрах от траншеи, готовясь к новому броску. Кинцель уже бил из пулемета поверх их тел, как будто отчаялся поразить упорных и думал только о том, как бы не дать им поднять головы и не подпустить подкрепление.
– Гранаты! – ревел фон Клеффель. – Черт побери, кто принесет гранаты?
Если что принести, это к Толстяку Бебе. Он расслышал призыв даже в грохоте боя. Выполз из блиндажа, голый по пояс, повязка на левой руке пропитана кровью, в здоровой руке большой узел из одеяла, как у бабы–беженки. Это он хорошо придумал, одной рукой много не принесешь, да и как захватишь. Быстро разобрали гранаты и взрыватели, Толстяк Бебе – он такой, никогда не приносил голый чай без сахарина.
– Снаряжайте новую порцию, Бехтольсгейм, – сказал фон Клеффель, – подозреваю, что у нас на это не будет времени.
Все шло к тому. Иваны ворвались в траншею и справа, и слева, но это было на участках других рот, их рота пока держалась.
– Противник перегруппировывается, – доложил Кинцель, – отползает в стороны.
– Не расслабляйтесь, Кинцель, – сказал фон Клеффель, – они непременно полезут в лоб. У них приказ.
Иваны действительно предприняли еще одну попытку атаки, но без прежнего напора. Им удалось ее отбить. Главная опасность подступала с флангов, их роту перемалывали по краям, звуки яростного боя в траншее все приближались. Скоро и до них должна была дойти очередь. Они стояли в центре, их сожмут с двух сторон и раздавят.
Из–за колена траншеи слева показался Гиллебранд. Вернее, показалась его спина в истерзанном кителе, на плечах – новенькие обер–лейтенантские погоны, по погонам и узнали. Гиллебранд отпрянул за угол, прижавшись плечом к стенке траншеи, пропуская мимо себя поток автоматных пуль, как тореадор – рог быка. Потом резко развернулся, выставил вперед руки со «шмайссером» и пустил в глубь траншеи ответную очередь. Автомат хрюкнул и заглох. Гиллебранд вновь отпрянул за угол, потянулся рукой за запасным магазином, но потом переменил направление, схватил висевшую на поясе гранату, выдернул чеку, замер на несколько мгновений, как бы соображая, что с ней делать дальше, а потом бросил ее за угол плавным, несуетливым движением.
Раздался взрыв. После него из–за угла доносились только стоны, никакого топота. Гиллебранд направился к ним, меняя магазин на ходу.
– Где унтер–офицер Рупп? – спросил он.
– Убит, – коротко ответил фон Клеффель.
Унтер–офицер Рупп был командиром их отделения. Его назначили уже здесь, он прибыл с пополнением. Он сразу взял неверный тон – считал себя выше их только потому, что был их командиром. В регулярных частях это проходило, но не с ними. Они, конечно, подчинялись его приказам, но без страха и уважения. То и другое надо было заслужить. Рупп даже не попытался. Он так и остался для них чужаком. Немудрено, что Юрген никогда не вспоминал о нем. А когда он смотрел вдоль траншеи, то взгляд выхватывал только фигуры товарищей, а мимо Руппа проскальзывал не задерживаясь.
И только сейчас задержался. Тело Руппа лежало на спине с вытянутыми, раскинутыми чуть в стороны ногами в коротком ответвлении траншеи, ведущем к нужнику. На переносице – аккуратная дырка, лицо залито кровью. Руки сжимали автомат.
«Уж не я ли отволок его сюда?» – подумал Юрген. Он припомнил, что в какой–то момент ему вдруг стало что–то мешать под ногами, он оступался и спотыкался, а во время короткого затишья наклонился и убрал помеху. «Как же я сразу не заметил?» – пожурил он сам себя. Он наклонился и с некоторым усилием вырвал автомат из окостенелых рук Руппа. «Für alte Schuld nimm Bohnenstroh». [17]17
За старый долг бери солому (нем.) – эквивалент русской пословицы «С паршивой овцы хоть шерсти клок».
[Закрыть]
– Противник ценой огромных потерь временно захватил первую траншею, – начал вещать Гиллебранд.
– Короче, – сказал фон Клеффель.
– Будем прорываться. Приготовиться!
– Разумно, – кивнул головой фон Клеффель, – ничего другого нам не остается.
– Иваны в атаке пленных не берут, – с ноткой сожаления сказал Зальм.
– Мы тоже, – заметил Ули Шпигель.
– Немцы не сдаются! – воскликнул Курт Кнауф.
Это не было обсуждением приказа. Все, перебрасываясь словами, тщательно готовились к прорыву, подтягивали ремешки на касках, перезаряжали оружие, разбирали фанаты. Один лишь Карл Лаковски не принимал в этом участия. Он все порывался что–то спросить, то подавался в сторону Гиллебранда, то отступал назад. Наконец решился:
– Что с имуществом, герр оберст?
– С каким имуществом? – не понял тот вначале. – Ах, да, военное имущество! Следовало бы уничтожить, как и блиндажи…
– Такие красивые блиндажи! – протянул, сбивая его с мысли, Вайнхольд.
– Тем больше у нас будет поводов отбить их обратно! – воскликнул Гиллебранд. – Мы вернем их! Если, конечно, иваны перед бегством все здесь не разворуют и не взорвут их сами.
Лаковски совсем сник, но никто не обратил на это внимания. Некогда было задуматься о своих собственных чувствах, не то что о чужих.
– Кнауф, три гранаты, к левому колену! Диц, три гранаты, к правому колену! – раздавал приказы Гиллебранд. – При появлении иванов сдерживаете их гранатами. Затем присоединяетесь к группе. По моей команде бросаемся в прорыв. Направление прорыва – вторая траншея. – Он действительно показал рукой в ту сторону, но она уперлась в стенку их траншеи. Гиллебранда это, похоже, нисколько не смутило. – Наверх – и вперед! Кратчайшим путем! Ползком! При благоприятных обстоятельствах – перебежками. Брейтгаупт! Вы отвечаете за раненого Бехтольсгейма.
«Фанатик хренов! – подумал в который раз Юрген. – Теперь он тянет нас в чистое поле, где нас перещелкают как орехи. В спину!» Он вдруг осознал, что больше всего его задело в собственных мыслях именно последнее – в спину! Уж если ему суждено получить пулю на этой войне, то пусть это будет не в спину. Юношеский романтизм, как сказал бы Зальм.
– Кому прикажете прикрывать отход, герр оберст? – спросил фон Клеффель.
Он был спокоен и деловит и не выказывал ни малейшего сомнения в правильности приказов Гиллебранда. Одно это мгновенно успокоило Юргена. А остальные вроде как даже повеселели. Отход – это вам не прорыв, это небо и земля, это жизнь и смерть. Как много значит правильное слово, произнесенное вовремя! Это и Гиллебранд уловил.
– Отход, – преувеличенно громко сказал он, – на левом фланге будет прикрывать обер–лейтенант Гиллебранд, – отдал он приказ сам себе.
Он был смелым парнем, обер–лейтенант Гиллебранд, и не прятался за спины солдат. Это признавали все, нравился он им или не нравился.
– На правом фланге… – начал Гиллебранд.
– Прикрыть отход – я! – рванулся вперед Кинцель.
Но взгляд Гиллебранда скользнул дальше и остановился на Юргене.
– Рядовой Вольф! У вас автомат? Отлично! Вы прикроете нас с правого фланга!
– Есть! – едва ли не впервые искренне и даже с радостью воскликнул Юрген. Прикрыть спины товарищей – это для него!
– По моей команде выбираетесь наверх, залегаете и бьете над самой траншеей так, чтобы ни одна голова не высунулась, – сказал Гиллебранд.
– Есть! – ответил Юрген спокойно и деловито. Все прошло не так, как они рассчитывали. Так всегда бывает. Всегда проявляются и выпирают на первый план неучтенные обстоятельства, вмешиваются неожиданные силы, которые никому в голову прийти не могли, хоть целый день думай. Действительно, кто мог предположить, что Лаковски вдруг в блиндаже скроется, да так ловко, что никто этого не заметит. И ладно бы просто скрылся, он ведь еще и появился оттуда в самый неподходящий момент. Одним словом, höhere Gewalt, [18]18
Непреодолимая сила, форс–мажор (нем.).
[Закрыть]по выражению Зальма, или völlig Arsch [19]19
Полная жопа (нем.).
[Закрыть]– в интерпретации Красавчика. Дело вышло так. Диц прижался к стенке траншеи у самого ее излома. Метрах в пяти позади него, сразу за входом в блиндаж, стоял на изготовку Юрген, ловя одним ухом приближающиеся звуки в скрытойот него части траншеи, откуда подбирались иваны, и наведя другое на Гиллебранда, чтобы не пропустить приказ. Диц сплоховал, но кто его осудит? Трудно с непривычки сохранять спокойствие, когда к тебе подбираются враги, которых ты не можешь видеть, но уже прекрасно слышишь их хриплое дыхание. Диц кинул одну гранату, сразу за ней вторую, третью. Хрипы резко усилились, это были предсмертные хрипы. Им вторили крики боли. А еще возбужденные крики тех, кто шел позади и теперь рвался вперед отомстить за погибших товарищей.
Диц, сделав свое дело, промчался мимо Юргена. И в этот момент из блиндажа вылез Лаковски. Он тащил в руке чемодан с аккордеоном. Это было его единственное достояние, да что там достояние, это был его единственный друг. Друг, с которым он прошел тысячи километров по разным дорогам, друг, который ни разу не предал, не бросил его, друг, который был всегда готов откликнуться на малейший призыв, развеселить в радости и утешить в печали, друг, с которым можно было разговаривать бесконечно и обо всем. Как он мог его бросить одного? Оставить на поругание грубым, жестоким рукам? И тут в траншею влетел огромный иван, его сапоги были все в крови, а в руках у него была винтовка с ужасным, длинным, четырехгранным русским штыком, варварским оружием, которое уже несколько десятилетий пытались запретить. Штык с хрустом вошел в грудь Лаковски, прошил ее насквозь и вышел обратно, разрывая внутренности. Лаковски упал на чемодан с аккордеоном. Казалось, что он пытается закрыть своим телом единственного друга. Его скрюченные пальцы скребли по обивке, как будто пытались добраться до клавиш, чтобы услышать от друга последнее «прости».
Глаза Юргена с ужасом и скорбью смотрели на эту душераздирающую сцену, а руки сами подняли автомат и разорвали грудь ивана очередью. Следующий иван успел отпрянуть за угол. Тогда руки все так же деловито взяли гранату, выдернули чеку и бросили гранату в зев траншеи. Юрген упал на дно траншеи, защищенный от осколков телом огромного ивана.
Тут его и настиг приказ Гиллебранда. Он вскочил, выбрался из траншеи, перекатился несколько раз и распластался на земле. Увидел краем глаза Гиллебранда. Тот лежал метрах в тридцати от него, ведя короткими очередями огонь по подбегающим к траншее иванам. Тех было на удивление мало. Бой шел в траншее, а это были отставшие. Едва попав под огонь Гиллебранда, они завалились на землю и принялись отвечать еще более редкими, чем они сами, выстрелами. Пули уходили куда–то вверх.
На край траншеи легли нежные руки Толстяка Бебе, и тут же его тело взлетело вверх, как у заправского гимнаста. Это Брейтгаупт наподдал снизу. Он уже давно не был толстяком, Толстяк Бебе.
Все наконец вошло в плановую колею. Пора было и Юргену приступить к своей вахте. В траншее мелькали каски иванов. Они сгрудились у баррикады из тел, воздвигнутой Дицем. Юрген взял последнюю гранату, выдернул чеку, перевалился на бок и положил гранату в траншею, как мяч в корзину, плавным размашистым крюком. И после этого принялся бить короткими очередями над самой траншеей. Из–за спины донесся стук пулемета, это солдаты первой роты поддерживали их огнем из второй траншеи. Юрген и забыл о них, ему казалось, что они были единственными живыми людьми на всем этом пространстве. Иваны не в счет.
– Вольф, отходи! – донесся до него крик Гиллебранда.
«Как отходить–то?» – запоздало подумал Юрген. Ползать ногами вперед он не умел, ползти головой вперед, стреляя при этом назад, тоже было невозможно. И он понесся, как перекати–поле в степи перед грозой. Пролетал несколько метров, едва касаясь ногами земли, кувыркался по траве, метался из стороны в сторону, но методично продвигался к цели, не забывая при этом отстреливаться. Наконец свалился в траншею на руки товарищам. Уф!
– Все на месте? – спросил Гиллебранд.
– Лаковски, – коротко сказал Юрген.
– Да, я знаю. Остальные?
– Зальма нет, – растерянно сказал Кнауф и, рванувшись к краю траншеи, крикнул: – Зальм!
– Я ранен, – слабый голос был едва слышен на фоне криков иванов, уже высыпавших из первой траншеи, чтобы продолжить наступление.
– Быть санитаром – я! – крикнул Кинцель.
– Возьми, дорогой, – Вайнхольд мгновенно скинул ранец, отсоединил скатку шинели, протянул Кинцелю. – Береги себя.
Кинцель сунул в руки Дицу тяжеленный пулемет, который он не бросил, несмотря на приказ, и переволок из траншеи в траншею, перекинулся через бруствер и быстро пополз к Зальму, лежавшему метрах в тридцати и махавшему рукой, вяло и безнадежно.
– Прикройте меня! – донесся крик Кинцеля.
– Прикрываю! – Кнауф вырвал пулемет из рук Дица – твое дело ленту подавать! Раскинул упорные ножки в выемке бруствера, нажал на гашетку. – За старика Зальма я положу гору иванов!
Он все же был отличным парнем, Курт Кнауф, несмотря на тяжелое детство и гитлерюгендскую юность. Поначалу он стрелял неловко, но потом приноровился, бил по иванам и справа, и слева и, не боясь более попасть в товарищей, посылал веер пуль даже над ними, этот веер укрывал их лучше всякого зонта.
Кинцель тем временем развернул на земле шинель Вайнхольда, перекатил на нее Зальма и, передвигаясь ползком, стал тянуть его к траншее. Зальм как мог помогал ему, отталкиваясь и руками, и левой ногой, правая волочилась безжизненным довеском. Вскоре Кинцель был уже у траншеи. Юрген с Красавчиком, высунувшись по пояс, схватили край шинели, быстро втянули Зальма, осторожно опустили его на дно траншеи. Рядом с криком боли свалился Кинцель. Прежде чем нырнуть в траншею, он встал на колени и получил пулю в незащищенное, выпирающее место.
– Вот и он задницу подставил, – сказал Ули Шпигель, – не все ему…
Грустно так сказал. Даже у вечного насмешника Шпигеля язык бы не повернулся шутить при виде извивающегося от боли товарища и расплывающегося на брюках пятна крови. А фон Клеффель с еще большей грустью смотрел на ногу Зальма, где на месте колена было какое–то месиво из раздробленных костей. Не царапина, читалось на его лице. Потом фон Клеффель поднял глаза, прошелся взглядом по товарищам, как бы пересчитывая их, и тихо сказал:
– Легко отделались.
Спустя какое–то время, остыв после боя, Юрген согласился с ним.
Das war ein Ablenkungsangriff
Это был отвлекающий удар. Русские не планировали наступление на их участке фронта. Они хотели лишь сковать силы немцев и не дать им возможности перебросить резервы на другие участки. Их батальону просто не повезло, что удар пришелся именно по нему. На их месте мог оказаться кто угодно. Или все же не мог? Даже отвлекающие удары наносят в ключевых точках, а они как будто нарочно созданы для испытательного батальона. Их туда и направляют, потому что знают, что штрафники будут упорно подниматься в атаку, пока не возьмут позиции противника или не полягут все на подступах к ним, что они будут стоять насмерть при обороне и ни при каких обстоятельствах не побегут назад. У них просто нет выбора, в этом все дело.
Можно даже сказать, что им повезло, что этот удар был всего лишь отвлекающим. В противном случае их добили бы до конца, всех. Но с резервами у иванов на этом участке фронта было негусто, попросту говоря, их вообще не было, они скапливались в других местах, где намечались основные удары. Поэтому иваны остановились на достигнутом в тот день, чтобы передохнуть и зализать раны. И тем самым дали им возможность перевести дух, эвакуировать раненых и подтянуть резервы.
И даже с тем, что иваны начали активные боевые действия в неурочный час, им повезло. Тем, конечно, кто выжил в этой мясорубке. Начинать лучше все же с рассветом, чтобы успеть управиться до ужина. Но лучше – это с какой и с чьей стороны посмотреть.
Эффект неожиданности дал иванам некоторый выигрыш, но на круг в выигрыше остались немцы. Те, конечно, кто выжил. Их спасла темнота.
Было еще довольно светло, когда они решили эвакуировать раненых. Зальм был совсем плох и провалился в глубокое забытье. Кинцель же, наоборот, лежал на животе и громко стонал, за двоих. На его задницу извели все бинты из индивидуальных пакетов, но кровь все равно хлестала, как из поросенка.
– Сам дойти сможешь? – спросил Гиллебранд у Толстяка Бебе, который баюкал свою руку.
– Не дойду, так доползу, – ответил Толстяк Бебе.
Он понимал подтекст вопроса командира и нисколько не обиделся, когда тот облегченно вздохнул, услышав его ответ. Людей было и так мало, а иваны могли предпринять ночную вылазку. Да и не мог допустить Толстяк Бебе, чтобы его кто–то нес, это он всегда все носил для других, сейчас он понесет себя. Напоследок он решил еще раз помочь товарищам.
– Я тут осмотрелся по–быстрому, – сказал он, – вот в том блиндаже есть санитарные носилки.
– Отлично, – сказал Гиллебранд. – Хюбшман! Как рука? Сможете нести носилки?
– Смогу, – ответил Красавчик.
– Отлично. Заодно вам там сделают перевязку.
– Я, – Курт Кнауф сделал шаг вперед, – я понесу старину Зальма.
– Я понесу Эриха, – сказал Вайнхольд, – я его буду осторожно нести, чтобы не растрясти.
Юрген тоже выступил вперед, Вайнхольду нужен был крепкий напарник.
– Хюбшман, Кнауф, Вайнхольд и Вольф, доставить раненых в батальонный медицинский пункт!
Хюбшман, час на перевязку! Остальным немедленно вернуться в расположение роты, – отдал приказ Гиллебранд.
– Есть! – ответили они дружно и отправились в указанный Толстяком Бебе блиндаж за носилками.
Идти пришлось намного дальше, чем они рассчитывали. Один из залпов «катюш» накрыл штабные постройки и часть леса, в котором пытались укрыться писари и солдаты интендантского взвода. Штабной барак сгорел дотла, вспыхнув как спичка. Зато упавший прорезиненный тент столовой медленно тлел, распространяя мерзкое зловоние. Хотя, возможно, этот запах шел от отрытых поблизости неглубоких окопов, в которых скрючились тела солдат в обгоревшей форме. Глаза избегали смотреть туда. На склоне холма, где располагалась их батальонная батарея, вертикально вверх торчало дуло перевернувшейся или искореженной пушки, вокруг копошились фигурки артиллеристов. Вот только большого шатра с нарисованным на нем толстым красным крестом нигде не было видно.
Навстречу им спешил майор Фрике в сопровождении ординарца и унтер–офицера.
«Вот ведь гад, отсиделся в тылу, – подумал Юрген, окидывая неприязненным взглядом чистый мундир майора, его слегка запылившиеся сапоги и пилотку на голове, сидевшую лихо, чуть наискось и в то же время строго в рамках уставных норм, – даже каску не надел».
Ответом ему был не менее неприязненный взгляд. Впрочем, адресовался он всем им, компания эта явно не нравилась майору Фрике. Здесь был один приличный солдат, Курт Кнауф, к нему он и обратился.
– Рядовой Кнауф! Где обер–лейтенант Гиллебранд? Жив?
– Организует оборону второй траншеи, герр майор!
– Превосходно! Следуйте за мной! – приказал он унтер–офицеру и ординарцу и направился в сторону позиций.
– Герр майор! – крикнул Юрген ему в спину. – Где госпиталь?! Наши товарищи истекают кровью!
Майор Фрике остановился, повернулся, посмотрел внимательно на Юргена.
– Пятьсот метров по курсу, – сказал он и добавил с удивившим Юргена надрывом: – Там большая очередь.
Очередь была не большая, а огромная, у Юргена глаза полезли на лоб от потрясения. И она была не из тех очередей, где стоят. Немногие сидели, привалившись спиной к деревьям, но большая часть лежала на земле, кто–то стонал, кто–то метался, кто–то вытянулся, да так и застыл неподвижно. Все смиренно и покорно ждали своей очереди, кто куда.
Среди них, как ангелы жизни или ангелы смерти, ходили с фонарями в руках санитары, некоторые и сами были ранены. Один из них подошел к ним. Мельком глянув на Толстяка Бебе, он молча махнул рукой в сторону сидевших у деревьев.
– Сильное кровотечение, – сказал Вайнхольд, показывая на Кинцеля, – он очень страдает.
– Туда, – санитар показал на дальний из двух шатров.
Вайнхольд потрусил туда, он тянул за собой носилки, как вол телегу. «И откуда только у него силы берутся?» – подумал Юрген, едва поспевая за ним. Плечи разламывались под давлением лямок носилок, а Кинцель, как назло, тяжелел с каждым шагом.
– Свобода выбора есть необходимое условие существования человека думающего, – донесся до Юргена четкий голос Зальма, он бредил.
– Понятно, – сказал санитар, прибавил огня в фонаре, посмотрел на ногу Зальма, повторил: – Понятно, – и направился ко второму шатру.
Красавчик с Кнауфом пошли за ним. Сквозь плотный материал шатра пробивался яркий свет, там горело не меньше трех ламп свечей по шестьдесят каждая. Тарахтел бензиновый электрогенератор. Тонко повизгивала пила. «Зачем им дрова? – подумал Юрген, проходя мимо. – Свет есть, тепло». Посреди шатра, под светильником стоял большой стол, на столе лежал солдат, или ефрейтор, или офицер, не разобрать, боль и страдание уравнивали всех. Из–под хирургической простыни торчала только голова с закатившимися глазами и слипшимися от пота волосами. Он был молод, вот все, что можно сказать о нем. Над его ногами склонились двое мужчин в застиранных белых халатах, шапочках и марлевых масках.
– Что там? – спросил один из врачей, не поворачивая головы.
– То же самое, – ответил санитар.
– Что сегодня за напасть! – сказал второй врач. – Были бы хотя бы ступни!
– Это вы, Ганс? – проговорил между тем первый. – Подойдите, подержите.
Санитар подошел, взялся за ногу солдата. Вновь тонко завизжала пила. Потом санитар отошел от стола, неся в руках, как полено, отрезанную выше колена ногу.
– Вот черт! – сказал Красавчик.
– Освободите корыто, Ганс, – распорядился первый врач, – а то уже все вываливается.
– Есть! – ответил санитар и повернулся к Красавчику с Кнауфом: – Эй, вы, помогите отнести, тут недалеко.
– Сам неси, – ответил Кнауф, санитар ему был не указ, – я останусь с нашим раненым товарищем.
– Тогда ты, – санитар ткнул пальцем в подошедшего Юргена.
Это было обычное корыто из оцинкованной жести, в таком хозяйки стирают белье. Оно было доверху наполнено ампутированными руками и ногами. «И когда только успели?» – отстраненно подумал Юрген. Он уже перешел порог чувствительности, для одного дня чувств и эмоций было более чем достаточно.
– Все, коллега, – донесся голос одного из врачей, – двадцать минут. Быстрее работают только на конвейерах «БМВ».
Юрген с Красавчиком подняли корыто и пошли за санитаром. Тот закурил на ходу сигарету, прижав локтем к телу отрезанную ногу. По дороге они встретили Вайнхольда, поникшего и обессиленного, он едва волочил ноги. Вайнхольд скользнул взглядом по корыту, вздрогнул и, пошатываясь и переламываясь пополам, сделал несколько шагов в сторону, уперся руками в дерево, низко опустив голову. Его рвало.
– Ему сегодня крепко досталось, – извиняющимся голосом сказал Красавчик.
– Гомики вообще слишком чувствительны, – сказал санитар, – не понимаю, зачем их берут в армию.
– Мы тоже не понимаем, – сказал Красавчик.
– Многого не понимаем, – подтвердил Юрген.
Они с Красавчиком друг друга поняли. Вайнхольд с Кинцелем были хорошими товарищами, но речь была не о них.
Они подошли к какой–то яме. В ней лежали окровавленные бинты, какие–то серые лохмотья, бывшие сегодняшним утром военной формой, распоротый сапог, аптекарские пузырьки.
– Вываливайте, – сказал санитар и первым бросил принесенную ногу, – братская могила, – сказал он на обратном пути, – если дело так дальше пойдет, то у нас и такой может не оказаться.
– Если бы ты сказал: у вас, я бы дал тебе в морду, – сказал Красавчик.
– Под одним богом ходим, – ответил санитар. – У тебя что с плечом?
– Царапина.
– Умирают и от царапины. Пошли к фельдшеру, я проведу вне очереди.
– Да идет он!.. Не хочу. Царапина. Первый раз, что ли.
– Я твоего желания не спрашиваю. Идем!
– Иди, – сказал Юрген, – дело говорит.
– А как же корыто? – спросил Красавчик.
– Я отнесу.
Красавчик вернулся минут через пятнадцать со свежей перевязкой. Зальм уже лежал на операционном столе, в отключке после укола морфия. В корыте лежала распоротая брючина. Они ничем не могли помочь старине Зальму. И они побрели к траншее.
Они заняли один из блиндажей, потеснив солдат первой роты. Потеснив – громко сказано, в этой тесноте зияли бреши.
– Командир батальона майор Фрике приказал объявить вам благодарность за стойкость в бою, – торжественно начал Гиллебранд, когда они собрались все вместе.
– Мог бы и лично нам объявить, – сказал Юрген Красавчику, не особо понижая голос, – а заодно Толстяку Бебе, Зальму и Кинцелю.
– Ему западло, – ответил Красавчик.
– Тут только что прозвучали имена наших храбрых товарищей – рядовых Бехтольсгейма, Зальмхофера и Кинцеля, – выхватил Гиллебранд, посчитавший за лучшее пропустить остальное мимо ушей, – командир батальона майор Фрике приказал мне составить представление для внесения дополнений в характеристику военнослужащих в личном деле, что имеет определяющее значение при вынесении решения по вопросу о прохождении военнослужащим испытания в рамках программы… – Он и сам понимал, что несет околесицу, поэтому поспешил закончить речь бодрым возгласом: – Так давайте вместе составим формулировки будущих представлений! – Он достал из кармана кителя маленькую записную книжку в кожаном переплете, вынул из нее тонкий, острозаточенный карандаш, приготовился записывать. – Кинцель… – он вопросительно посмотрел на лежавших на нарах солдат, призывая их высказываться.
– Вызвался быть санитаром, спас жизнь раненого товарища, получил тяжелое ранение, – сказал Вайнхольд.
– Прекрасная формулировка! – воодушевленно воскликнул Гиллебранд, быстро заполняя страничку записной книжки какими–то непонятными письменами, как древними рунами. – Почти столь же прекрасная, как сам рядовой Кинцель. Я думаю, что после такого подвига майор Фрике будет ходатайствовать перед верховным командованием о признании рядового Кинцеля прошедшим испытание, с возвращением ему звания фельдфебеля и переводом в регулярную часть Вермахта.
– О–ля–ля, – тихо сказал фон Клеффель, – aller Anfang ist schwer. [20]20
Всякое начало трудно (нем.) – эквивалент русской пословицы «Лиха беда начало».
[Закрыть]
– Зальмхофер, – с некоторым сомнением сказал Гиллебранд.
– Зальм – герой! – провозгласил фон Клеффель. – Он стрелял, я сам видел.
– Стрелял… – с еще большим сомнением сказал Гиллебранд.
– Прицельным огнем уничтожил двадцать солдат противника, в числе первых бросился в прорыв, – предложил свой вариант Ули Шпигель.
– Отличная формулировка! – воскликнул Гиллебранд, строча в записной книжке. – Как вы сказали? Прорыв?
– Так точно, герр оберст, прорыв! – твердо ответил Ули Шпигель.
– Отлично. Так и запишем. Бехтольсгейм…
– Остался в строю, невзирая на ранение и большую потерю крови, под убийственным огнем противника подносил товарищам боеприпасы, – сказал Ули Шпигель, он вошел во вкус.
– Превосходно! У нас есть еще один герой, оставшийся в строю после ранения, – Гиллебранд посмотрел на Красавчика.
– Царапина, – ответил тот, – и я не герой.
– Кто еще отличился?
Все молча пожали плечами.
– Кто принял командование после гибели унтер–офицера Руппа? – спросил Гиллебранд, он не оставлял попыток найти еще хоть одного героя.
– Никто, – ответил фон Клеффель, – чтобы стоять, где стоял, не нужны командиры.
– Без них даже лучше, – сказал Юрген, ни к кому не обращаясь, – не лезут с дурацкими командами: внимание, противник перед вами.
– Вот–вот, – повернулся к нему Красавчик, – и не достают столь же дурацкими расспросами после боя: вы выжили? как вам это удалось?
– Ошибаетесь, молодые люди, – сказал фон Клеффель, – без командира никак нельзя. Кто отдаст приказ на отбой? А без приказа вы, безмозглые, до утра будете глаза таращить да разговоры разговаривать.
Тут и до Гиллебранда дошло.
– В охранении первая рота, – сказал он, – всем спать. Отбой!
Долго поспать им не дали. Перед рассветом их сменил пехотный полк. Уходили они через деревню. Их дом был разворочен артиллерийским снарядом. Где–то заунывно, на одной ноте, выла женщина. Зеленели кудрявые кустики редиски, посаженной Швабом. В них застряла рождественская открытка, подаренная Лаковски фрау Клаудии. «Gott sei dank!» – было напечатано на ней. Спасибо тебе, господи!
Das war Hinterland
Это был тыл. Настоящий тыл. Здесь не свистели пули, здесь не рвались снаряды и здесь были женщины. И многое другое, что есть в любом мирном городе, но чего они были лишены на протяжении девяти месяцев, проведенных в лагерях и на фронте. Этот рай назывался Витебском.
Три дня у них ушло на то, чтобы выделить себе в этом раю маленький кусочек и обнести его колючей проволокой, построить контрольно–пропускной пункт и смотровые башни, поставить палатки и убедить святого Петра в том, что ключи ключами, а пароль паролем. С каждым днем они все больше мрачнели, еще неделя – и они стали бы тихо роптать. Кому приятно взирать на рай из–за колючей проволоки, близок локоть, да не укусишь. Но на четвертый день майор Фрике приказал построить на плацу сильно поредевший батальон.
– Солдаты! – обратился он к ним. – Вы храбро сражались и заслужили отдых. Командование дало нам месяц на доукомплектование и боевую подготовку пополнения. Первая маршевая рота прибывает сегодня в четырнадцать ноль шесть. Приказываю явить новобранцам пример дисциплины, аккуратности и высокого боевого духа.
– Солдаты! – приступил майор Фрике ко второй части речи. – Вы прошли часть дороги испытания, кто больше, кто меньше, но все вы заслужили поощрение. С сегодняшнего дня и до конца срока пребывания в месте дислокации вам всем в порядке очередности будет предоставлено право убывать в увольнительную на срок от утренней переклички до вечерней по нормам регулярных частей Вермахта – пять раз в месяц.
Майор Фрике сделал паузу специально для того, чтобы солдаты могли выразить свое ликование энергичным «Хох! Хох! Хох!» по команде дежурного офицера. Что и было исполнено, к глубокому удовлетворению майора Фрике.
– Указанное право, – продолжил майор Фрике, – не будет распространяться на вновь прибывающих военнослужащих, которым еще предстоит завоевать это право в бою. Поэтому приказываю не обсуждать с новобранцами никаких деталей вашего пребывания в увольнительной и вообще исключить из ваших разговоров всяческие упоминания о пиве, водке, женщинах и сексе.
Разумность приказа не вызывала сомнений. Стоило майору произнести магические слова, как все помыслы стоящих в строе солдат устремились к пиву, водке, женщинам и сексу. Это было столь явственно написано на их лицах, что майор Фрике счел необходимым огласить еще один пункт приказа:








