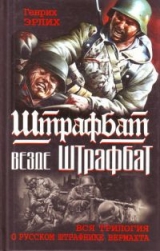
Текст книги "Штрафбат везде штрафбат. Вся трилогия о русском штрафнике Вермахта"
Автор книги: Генрих Эрлих
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 47 страниц)
Это был результат вчерашней бомбардировки Дрездена. В городе не было военных предприятий, вероятно, поэтому он был слабо защищен зенитными батареями. А плохая погода помешала взлететь истребителям. Английские и американские бомбардировщики накатывались тучами на беззащитный город и безнаказанно крушили «жемчужину Саксонии», ее дворцы, памятники, соборы, театры, музеи, исторические здания. Дрезден был переполнен беженцами с Восточного фронта, они устремились в этот город именно потому, что он представлялся им безопасным. Они верили, что древние стены защитят их, что ни у кого, даже у русских, рука не поднимется разрушить эту красоту. И вот на их головы посыпались бомбы. От них не было спасения. Здания еще можно восстановить. Людей – нет.
Все это Фрике сказал солдатам. Те глухо роптали. Если бы командир приказал им сейчас броситься в атаку, они бы бросились. Пусть перед ними были не англичане с американцами, а русские, они и русских бы смяли, выплеснули бы на них свою ярость, – к русским у них тоже был длинный счет. Но Фрике отдал другой приказ:
– Батальон! Разойдись! Господ офицеров и унтер–офицеров прошу задержаться.
– В соответствии с приказом фюрера, – сказал он несколькими минутами позже, – всем военнослужащим, имеющим родственников в Дрездене, должен быть предоставлен кратковременный отпуск для посещения Дрездена и выяснения судьбы родственников. Я не стал объявлять этот приказ перед строем, потому что солдатам, проходящим испытание, отпуск не полагается. В приказе фюрера не содержится никаких указаний, отменяющих эту норму. Но в нашем батальоне есть около ста пятидесяти, сто сорок семь, если быть совсем точным, полноправных военнослужащих Вермахта, о которых мы не можем забывать. Итак, вопрос первый: кто из вас, господа, имеет родственников в Дрездене?
– Я, – выступил вперед лейтенант Ферстер. – Я из Дрездена. – Он был бледен и слегка пошатывался.
– Два часа на сборы и передачу дел. Предписание и отпускное свидетельство получите в канцелярии. Обер–фельдфебель Вольф! – Фрике перевел взгляд на Юргена.
– Фельдфебель Вольф! – ненавязчиво поправил он командира, делая шаг вперед и отдавая честь.
– Приказ подписан! Принимайте взвод, обер–фельдфебель, на время отсутствия лейтенанта Ферстера.
– Есть! – ответил Юрген.
Он постарался сказать это максимально бодро, чтобы притушить тоскливую мысль: мне это надо? Получилось, судя по всему, плохо, потому что Фрике строго посмотрел на Юргена и укоризненно покачал головой.
– Еще кто–нибудь, господа? Нет? Отлично. Вашим родственникам повезло. Вопрос второй: кто из рядовых имеет родственников в Дрездене? Мы, конечно, поднимем личные дела, но там указаны только место рождения и место призыва на военную службу.
Юрген напряг память. Рядовых – «вольняшек» было немного, один–два на отделение, они должны были контролировать штрафников изнутри. В отделении Юргена таких не было, он сам все контролировал, и снаружи, и изнутри. Кроме того, у него был Брейтгаупт, на которого он мог всегда и во всем положиться.
– Рядовой Бер из второго взвода, – доложил Юрген, – помнится, он рассказывал, что у него замужняя сестра в Дрездене или где–то совсем рядом.
– Хорошо. Рядового Бера – ко мне.
Юрген никак не отреагировал. Пусть командир второго взвода пошевеливается. Он о другом подумал. Десять минут назад он сказал бы: из третьего отделения второго взвода. Ведь его уровнем было отделение. Сейчас он, не задумываясь, сказал: из второго взвода. «Входишь в роль, бродяга!» – подколол сам себя Юрген.
* * *
– Посмотри вот это, – сказал подполковник Фрике Юргену и выложил на стол сложенную вчетверо газету.
Она была чуть сероватой, почти свежей, но уже с сильно затертыми сгибами. В верхнем левом углу пузатыми буквами было набрано: «ПРАВДА ». На месте даты расплылось жирное пятно, но месяц проступал четко, это был февраль, он еще стоял на дворе.
– Откуда? – спросил Юрген.
– Разведчики ночью принесли. Они скрутили там одного, думали офицер, а оказался – этот. – Фрике пренебрежительно махнул рукой в сторону газеты.
– Разведчики… – с легкой обидой в голосе протянул Юрген. Он считал себя лучшим разведчиком в батальоне и всегда вызывался идти добровольцем, ему нравилась эта работа. А тут даже не вызвали!
– Да, разведчики, – усмехнулся Фрике, – у нас их, между прочим, целое отделение, «вольняшек», как вы их называете. А у тебя сейчас других дел невпроворот.
«Да, дел с получением взвода прибавилось, но как же он проворонил, что кто–то в разведку ходил», – подумал Юрген, теперь уже с досадой.
– Зачем мне это? – он показал на газету. – Я читать по–русски не умею.
Юрген уже не скрывал, что он знает русский. В первые месяцы его пребывания на фронте, в первые годы войны в России знание русского могло вызвать подозрения. Но здесь, в Германии, это никого не удивляло. Почти все немецкие солдаты, проведшие достаточно много времени в России и общавшиеся по самым разным вопросам с местным населением, научились худо–бедно объясняться на русском. На улицах городов можно было встретить солдат и офицеров в немецкой форме, говоривших между собой по–русски, они и были русскими. В деревнях и тех же городах было полно остарбайтеров, добровольно или по принуждению приехавших в Германию и работавших на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.
– А по–польски умеешь? – спросил Фрике.
– По–польски умею, – ответил Юрген.
– Значит, разберешься. Буковки–то те же.
– А зачем? – повторил свой вопрос Юрген.
– Да ты посмотри, посмотри. Сам поймешь.
Юрген наконец взял газету, развернул, прочитал огромную шапку на первой странице: «Конференция руководителей трех союзных держав – Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Крыму».
– Посмотри, посмотри, что эти стервятники нам уготовили, – повторил Фрике.
– Стервятники на падаль слетаются, – сказал Юрген, – а мы не падаль, мы еще поборемся.
– Отлично сказано, обер–фельдфебель Вольф! Так кто же они? Соколы, что ли?
Юрген перевел взгляд на большую фотографию, на трех весело беседовавших и улыбавшихся пожилых мужчин. Слева, в шапке пирожком и серой шинели, сидел Черчилль. Он был не так уродлив и толст, каким его изображали на карикатурах, узнать его можно было только по неизменной сигаре во рту. У среднего на плечах была какая–то накидка или плед, он казался изможденным, череп просвечивал сквозь редкие седые волосы. Это был, конечно, Рузвельт, потому что правого Юрген узнал сразу, это был Сталин. На нем была серая шинель, как на Черчилле, и военная фуражка с кокардой. Сталин хитро улыбался в усы и, казалось, довольно потирал руки.
– Обрати внимание на явные следы вырождения на их лицах, – продолжал между тем Фрике. – Рузвельт, этот ставленник масонов и евреев!.. Парализованный, в чем душа–то держится, а продолжает судорожно цепляться за власть, отдавать преступные приказы, как будто хочет напиться напоследок как можно больше крови. Нет, на самом деле им движет ненависть, ненависть к немецкому народу и немецкой культуре, извечная ненависть масонов и евреев к Германии и немецкому порядку Он неспособен прислушаться к голосу разума, ради удовлетворения своей ненависти он готов погубить нас – единственный оплот борьбы с большевизмом. Этот немощный старик – главное препятствие для заключения сепаратного… – Фрике поперхнулся. Ему показалось, что он сказал лишнее.
Юрген, шевеля с непривычки губами, прочитал подзаголовок под римской цифрой «I»: «Разгром Германии ». Читать об этом не хотелось, по крайней мере сейчас.
– Я могу взять это с собой? – спросил он.
– Конечно. Дело–то не быстрое и тяжелое. Ты, наверно, за весь прошедший год столько не прочитал, даже по–немецки.
– Нам это без надобности, – ответил Юрген. – А что–нибудь еще кроме газеты было?
– Рисунки какие–то, низкопробная мазня. Посмотри, если хочешь. – Фрике вынул из кожаного планшета несколько разрисованных вдоль и поперек листов бумаги и протянул Юргену.
Это были эскизы плакатов. На одном солдат с лицом деревянного истукана и в шапке с большой звездой пронзал штыком кусок карты с надписью: «Германия». Этот кусок напоминал испуганную, сжавшуюся в комок и прикрывшую голову руками женщину. Поверх рисунка шла надпись крупными буквами, возможно, это была заготовка для другого плаката: «Ты еще не убил немца? Тогда убей его!». Юрген повторил это вслух, по–немецки.
– Там так написано? – спросил Фрике. – Какой ужас! Это то, о чем я недавно говорил, только в большевистском варианте. Какая человеконенавистническая пропаганда! Можно ли представить что–нибудь подобное в немецкой армии?! Ты это своим солдатам покажи, обязательно покажи. А что в газете вычитаешь, то сначала мне расскажи, а потом опять же им, солдатам. Больше ничего говорить не надо. Правду, одну только правду.
* * *
Через пару дней вечером Юрген собрал свой взвод. Все расселись на скамьях, с наслаждением вдыхая запах оттаявшей земли, еще не начиненной осколками и не пропитавшейся тротиловой гарью. Его бывшее отделение заняло первый ряд. Они и раньше–то верховодили во взводе, а теперь солдаты других отделений и вовсе без их разрешения пикнуть не смели.
– Вот, товарищи, как все было, – так начал свою первую пропагандистскую речь Юрген, – собрались три пахана, Сталин, Черчилль и Рузвельт, на хате у теплого моря и стали перетирать, как им Германию раздраконить. – Он остановился, почесал в затылке. – Я вам лучше зачитаю, все равно я лучше, чем у них тут написано, не скажу. – Юрген достал листочки, на которые он заранее написал перевод. – Вот! Мы, то есть они, договорились о планах принудительного осуществления условий безоговорочной капитуляции, которые мы, то есть они, совместно предпишем нацистской Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено.
– Когда рак на горе свистнет, – сказал Фридрих и несколько делано рассмеялся. Товарищи его не поддержали, они смотрели на Юргена с напряженным ожиданием.
– В соответствии с согласованным планом вооруженные силы трех держав будут занимать в Германии особые зоны, – продолжил Юрген.
– Это ты что–то недопонял, – прервал его Клинк, – это мы будем в зонах, а они на вышках.
– Тут так и сказано, – согласился Юрген, – просто у них такой язык прокурорский. Да! Еще будет четвертая зона, в ней французы будут заправлять, если захотят.
– Захотят, еще как захотят! – воскликнул Тиллери. – Опять Рур оттяпают! Я их помню, не приведи Господь!
– Точно, дикие люди, никакой галантности, – сказал Эббингхауз, он тоже был из Рурской области.
– Мы разоружим и распустим все германские вооруженные силы, изымем и уничтожим все германское военное оборудование, ликвидируем или возьмем под контроль всю германскую промышленность, взыщем в натуре в максимально возможной мере возмещение убытков за разрушения, причиненные немцами, – читал по диагонали Юрген.
– Конец Германии, – сокрушенно сказал Целлер.
– Это еще бабушка надвое сказала! – бодро воскликнул Фридрих. Но у него в тот вечер все выходило как–то натужно.
– После такой декларации нам не остается ничего другого, кроме как сражаться, – сказал Граматке, – сражаться и победить или погибнуть, сражаясь. Все равно нам всем в такой Германии не будет места.
Юрген с удивлением посмотрел на Граматке: во дает! Проняло наконец.
– Осмелюсь спросить, герр обер–фельдфебель, а что там еще написано? – тихо спросил Цойфер.
– Дальше неинтересно, делят Европу, Польшу, Балканы, – ответил Юрген.
– Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, [82]82
«Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben» (нем.) – вот что сказал Брейтгаупт.
[Закрыть]– сказал Брейтгаупт.
– Точно! – сказали все дружно. С Брейтгауптом всегда соглашались все и дружно, с ним невозможно было не согласиться.
– Забыл! – сказал Юрген. – Тут есть еще одна подлянка. Они считают, что Польше надо отрезать от Германии куски на севере и на востоке.
– Что?! – взревел обычно спокойный Блачек. – Мой родной Мезериц? Не бывать такому!
За разговором никто не заметил, как к площадке, на которой они расположились, приблизилась тонкая фигура в офицерской шинели с небольшим кожаным чемоданом в руке. Офицер поставил чемодан на землю и замер на месте, то ли вслушиваясь в возмущенные крики солдат, то ли чего–то выжидая. Первым на него обратил внимание Юрген.
– Лейтенант Ферстер, – удивленно протянул он и тут же, спохватившись, быстро подобрался, отпечатал три шага навстречу командиру, вскинул руку к каске, четко доложил: – Герр лейтенант, за время вашего отсутствия во вверенном мне взводе ничего не случилось!
– Случилось. За время моего отсутствия погибла моя семья, – сказал Ферстер.
Он говорил тихо, но не так тихо, как раньше. Тогда его голос слабел от неуверенности в себе, чем дольше он говорил, тем тише становился голос. Сейчас звуки речи сдерживались крепко сжатыми челюстями, они напоминали тихий, но грозный рокот моря перед штормом. Юрген окинул Ферстера внимательным взглядом. Да, лейтенант сильно изменился, это был какой–то другой, незнакомый ему человек. Плох он или хорош – в этом им еще предстояло разобраться.
У Ферстера заходили желваки на скулах. В глазах разгорался какой–то нехороший огонь. Ни желваков, ни огня, даже хорошего, раньше никогда не наблюдалось. «Что–то будет», – подумал Юрген. И точно – заштормило. Ферстер разомкнул челюсти и закричал, без визга, чуть хрипловато:
– Разболтались! Никакой дисциплины! Сидят в присутствии офицера! Встать! Смирно!
Солдаты, впрочем, вскочили еще до команды и даже выстроились поотделенно в две шеренги, выстроились бы и в одну, да площадка не позволяла. Они вытянулись в струнку, вскинули подбородки и зафиксировали взгляд на кончике собственного носа. Ферстер быстро шагал вдоль строя, туда–обратно, и щедро раздавал взыскания, нечетным в первой шеренге – при проходе туда, четным в первой шеренге – при проходе обратно, нечетным во второй шеренге – при проходе туда, четным во второй шеренге – при проходе обратно.
«Все по делу, все путем», – меланхолично думал Юрген, стоявший на левом фланге своего, вновь своего отделения. У него был богатый опыт взысканий, сначала он их получал, потом раздавал. Ему ли не знать, как это делается! Был бы солдат, нарушение найдется. Опыт нарушений у него тоже был богатый.
– Есть трехчасовой кросс с полной выкладкой до завтрака! – сказал он Ферстеру, перешедшему к групповым наказаниям.
«Интересно, насколько его хватит? – Юрген продолжил свои размышления, все такие же меланхоличные. – Хорошо бы, чтоб к началу боев немного успокоился. А то ведь с такими–то бешеными глазами рванет грудью на танки и нас за собой потянет. Или погонит. Ему–то, быть может, жизнь и немила, но нам зазря погибать безынтересно. А успокоится, глядишь – и толк какой–то будет».
Юрген чуть повернул голову и скосил глаза на удалявшуюся спину Ферстера. Как командир этот новый Ферстер был, конечно, лучше старого. Но тот, прежний, нравился Юргену больше нового, он был мягким и добрым парнем, Клаус Ферстер. Юрген только сейчас осознал, как ему будет его не хватать.
Кто–то тихо прыснул смешком. Юрген скосил глаза в другую сторону. Эльза! Ей лишь бы посмеяться! Впрочем, он на ее месте тоже бы веселился, со стороны этот разнос выглядит наверняка очень смешным. Так! А это что за насмешник?! Из какой щели вылез? Юрген осекся. Он принялся пристально вглядываться в фигуру, смутно видневшуюся на противоположном фланге, метрах в десяти от строя. Фигура постоянно меняла очертания, как будто человек то сгибался пополам, хватаясь за живот, то вдруг разгибался и принимался бить себя руками по груди. Так, от души, смеялся только один человек. Черт побери, он узнает этот задорный, заводной смех. Не может быть!
Юрген едва не сорвался с места. Он был готов вызваться пробежать завтра еще один кросс с полной выкладкой, лишь бы Ферстер наконец утолил свою ярость и дал команду взводу разойтись. Он бы…
– Так их, каналий! – раздался громкий крик. – По ним по всем веревка плачет!
– Кто такой?! Как смеете?! Как стоите?! – Ферстер отлепился от взвода и подскочил к стоявшему поодаль мужчине.
Тот немедленно встал по стойке «смирно», с лихой молодцеватостью вскинул руку к кепи.
– Рядовой 570–го ударно–испытательного батальона Руди Хюбшман, по прозвищу Красавчик. Прибыл из госпиталя после излечения. Имел честь ехать с вашей грозностью в одном поезде, – отрапортовал солдат.
Любой другой после такого рапорта вычистил бы все нужники в батальоне. Но Красавчику всегда все сходило с рук, на него невозможно было обижаться, его широкая белозубая улыбка обезоруживала самых строгих унтер–офицеров. Как оказалось, и лейтенантов тоже. Ферстер как–то сразу успокоился и обмяк.
– Я помню вас, солдат, – сказал он, – вы на вокзале в Радебойле помогли сесть в поезд женщине с двумя детьми. Она еще все время плакала, эта женщина.
– Женщины, – сказал Красавчик, пожимая плечами, – они все время плачут.
Ферстер хотел что–то сказать ему в ответ, но так и не собрался. Он повернулся, дал команду взводу разойтись, подхватил свой чемодан и пошел прочь.
Юрген поспешил навстречу другу, крепко пожал протянутую руку, другой рукой обхватил его за плечи, захлопал по спине.
– Привет, бродяга, – сказал Красавчик и ойкнул. – Здоров же ты стучать по спине! Стучи уж по другой половине, а то назад в госпиталь отправишь, – рассмеялся он.
Юрген не находил слов, а если бы и нашел, то не смог бы вымолвить, что–то непривычное или давно забытое было с горлом, как будто там ком стоял. Брейтгаупт от волнения, наоборот, необычно разговорился.
– Красавчик! – сказал он, обнимая друга. – Как ты?
– Нормально, – ответил Красавчик, – готов к приему в грудь следующей порции свинца. Это по первому разу трудно, а во второй все легче выходит.
«Он нисколько не изменился, – подумал Юрген. – Все шутит!»
– Не так ли, сестренка? – обратился Красавчик к подошедшей Эльзе.
Эльза только рассмеялась в ответ и подмигнула Красавчику.
– Ты, смотрю, здесь прижилась, – улыбнулся он и вдруг стал пристально всматриваться в ее лицо. – Не только прижилась, но и прижила! – воскликнул он.
– Какой глазастый!
– Я ж из госпиталя, насмотрелся там на сестричек. Такие оторвы!
– Только насмотрелся?
– Нет, еще слюни пускал.
Солдаты обступили Красавчика. «Старики» пожимали ему руку, новобранцы стояли молча, почтительно разглядывая. Они были наслышаны о Руди Хюбшмане: легендарный человек, с 42–го года в штрафбате и – живой!
После отбоя они долго сидели вместе, Юрген, Красавчик и Брейтгаупт. Говорили о том о сем, перескакивая с одного на другое, вспоминая, что произошло за пять месяцев, что они не виделись, с того злополучного дня в Варшаве, когда Красавчик получил пулю в грудь.
– Радебойль – это ведь где–то под Дрезденом? – спросил в какой–то момент Юрген.
– Да, полчаса по трассе.
– А в Дрездене был?
– А то! Сколько раз! Там меня и повязали в последний раз. Я, помнится, рассказывал. Или не рассказывал? Дело было в январе сорок первого. Я прихватил «красотку» в Амстердаме и помчался в Дрезден, ее там уже ждали. Тридцать часов без остановок!
Красавчик был профессиональным угонщиком автомобилей. О них он мог говорить часами, у него был неисчерпаемый запас разных историй.
– Ты рассказывал, – поспешил остановить его Юрген. – Я имел в виду: ты сейчас в Дрездене был? Ну, после…
– Был, – сказал Красавчик, сникая. – Лучше бы не был. И знаете, какая мысль пришла мне в голову, когда я смотрел на развалины? Мысль ужасная, но – как на духу! Ведь мы же товарищи. Я вдруг почувствовал какое–то облегчение, едва ли не радость. Хорошо, подумал я, что город разрушен полностью, до основания, что не осталось ни одного сколько–нибудь целого здания. Если бы я узнал в какой–нибудь руине хорошо знакомое мне здание, это бы разорвало мое сердце. А так старый прекрасный Дрезден остался нетронутым в моей памяти. И куда бы ни занесла меня судьба, я буду вспоминать его, радуясь, что есть на свете красота, и мечтать, как я приеду туда и пройдусь по его улицам.
Юрген с некоторым удивлением посмотрел на товарища. Красавчик никогда не был замечен в склонности к сентиментальности и высокопарным выражениям. Он всегда первым смеялся над этим. И вот на тебе! Наверно, это последствия тяжелого ранения, подумал Юрген, ведь Красавчик едва выкарабкался с того света. Кто знает, что он там увидел. Надо будет как–нибудь спросить при случае, вдруг пригодится. Или не спрашивать? Спрашивать, если честно, не хотелось. Все там будем, тогда и узнаем. А так можно и накликать.
На следующий день вернулся Бер. Бывалый солдат, он видел много смертей, разрушенных городов и сожженных дотла деревень, опять же старшая сестра – это не мать и не жена, солдаты считали себя вправе приставать к Беру с расспросами. Но он отказывался отвечать и смотрел на всех каким–то диким, остановившимся взглядом, как будто не понимал, чего они от него добиваются. За ужином солдаты отделения Юргена единогласно отказались от вечерней порции шнапса, Брейтгаупт взял бутыль, отнес ее Беру, молча вручил, так они выразили ему свое сочувствие. Ничего другого они не могли сделать.
Через два часа Бер сидел на земле перед блиндажом своего отделения, раскачивался из стороны в сторону и беззвучно плакал. Подошел лейтенант Ферстер, постоял над пьяным солдатом. Командир отделения кинулся объяснять Ферстеру ситуацию, но тот жестом остановил его.
– Уложите его спать, – сказал Ферстер просто, по–товарищески, раньше он никогда не попадал в этот тон. – Завтра окуните в бочку с водой и – на переднюю линию. Там надо сделать еще одно пулеметное гнездо. Скажите ему что это будет его гнездо. Это его взбодрит.
Das war ein Scheiden
Это было прощание. Так устроена жизнь. В ней все уравновешено и по–своему справедливо. Встретил старого товарища? Хорошо. Теперь провожай в путь–дорогу подругу, а то тебе жирно будет.
Будь на то воля Юргена, он бы и так отослал Эльзу, и намного раньше. Сразу после того, как они вышли на позиции на западном берегу Одера. Для начала он удалил ее из отделения. Сказал же, что только на время марша и – точка. Кругом марш в свое санитарное отделение. Но большее было не во власти Юргена и даже, как оказалось, не во власти подполковника Фрике. Родная бюрократия – враг пострашнее русских. С русскими еще можно как–то сражаться, а с родной бюрократией бесполезно, только лоб зазря расшибешь.
Эльзу необходимо было уволить с военной службы или отправить в долгосрочный отпуск по причине тяжелого ранения живота, глубокого поражения, начиненности, нашпигованности – в поиске формулировок солдаты изгалялись как могли. Но для того чтобы уволить или отправить в отпуск, надо было сначала зачислить. Тут–то и вышел затык.
Это в тылу все проходило быстро, слишком быстро, считал Юрген. Получал человек повестку: завтра, во столько–то и во столько–то, быть с вещами (перечень прилагается) в военном комиссариате, объяснения не принимаются, опоздание квалифицируется как попытка дезертирства, неявившиеся подлежат немедленному расстрелу. Человек бежал на призывной пункт с высунутым языком, врач смотрел на этот язык – годен! Повестку – сдать, расчетную книжку – получить! Глазом не успевал моргнуть, и он уже в казарме, в военной форме.
Так было в свое время с самим Юргеном. Для него этот переход от беззаботной гражданской жизни к военному ярму был тем более стремительным, что совершенно неожиданным. Он, как отсидевший в тюрьме, был признан недостойным нести военную службу и чувствовал себя за своим голубым военным билетом как за каменной стеной. Вдруг бац – повестка, бац – лагерь, бац – испытательный батальон. И все без остановки, как автоматная очередь.
Бумаги Эльзы гуляли в высоких инстанциях два месяца, не иначе как вопрос о ее призыве находился в компетенции Генерального штаба или даже самого фюрера. Они не дошли до батальона каких–то полкилометра, они были в штабе их дивизии, когда началось наступление русских под Варшавой. В суматохе отступления документы, как ни странно, не потеряли, потеряли их батальон. Нашли его уже на западном берегу Одера, переподчиненным другой дивизии. Подполковник Фрике мог, наконец, запустить представление на увольнение. Бумаги пошли на второй круг. Это тоже было не быстро.
Но у Юргена с Эльзой была еще одна большая забота: а куда ей, собственно, ехать? У меня нет дома, говорила она. О родителях она тоже никогда не рассказывала, а Юрген не расспрашивал. Деликатная это была тема, война все же и вообще… Он ведь о своих тоже не распространялся. Еще у Эльзы были две тетки по отцу. Старые ханжи, сказала она почти что с ненавистью, на улице рожать буду, а к ним не пойду. Да они и не пустят, с пузом, без мужа. Это «без мужа» прозвучало без малейшего намека или укора. Она была правильной девчонкой, Эльза Тодт. Понимала, что можно, а чего нельзя, что действительно нужно, а без чего можно вполне обойтись, даже если и хочется, а еще то, что лучше быть невенчанной женой, чем венчанной вдовой. Юрген ценил это, он бы даже, пожалуй, женился на ней, если бы не война.
Поэтому, наверно, он вспомнил о собственной матери. Юрген давно не писал ей, не любил он это дело, да и о чем было писать? Он, если доведется встретиться, не будет даже рассказывать матери о своей жизни, о том, что с ним произошло за эти месяцы и годы, а уж описывать в письме тем более. Написать коротко: у меня все хорошо? Но Юрген сильно сомневался, что слово «хорошо» они с матерью понимают сейчас одинаково. И был совершенно уверен, что от сообщения о присвоении ему звания фельдфебеля мать пришла бы в ужас, могла бы и проклясть. Зачем нарываться? Живой – только это имело значение. А об этом и писать не стоило. Нет извещения о гибели – значит живой. Даже если есть извещение, все равно не верят, все равно надеются, так уж матери все устроены, его, наверно, не исключение. А что сын писем не пишет, так он их никогда не писал.
Так Юрген оправдывал свое нежелание писать письма. Только раз написал, осенью 43–го. Они тогда были на переформировании, и до них дошли запоздалые сведения о том, что в те дни, когда они сражались под Орлом, англичане разбомбили Гамбург. Они называли это операцией «Гоморра», и результат соответствовал названию – по официальным данным, погибло более 50 тысяч мирных жителей. Сообщалось также о разрушении большей части городских зданий, но Юрген не мог представить себе этого, он еще не видел Варшавы. Он послал матери письмо по их старому адресу. Через месяц пришел короткий ответ со штемпелем Гамбурга. «У меня все хорошо».
И вот Юрген вновь написал матери, все по тому же старому адресу, написал как есть, особо не подбирая слов, чего уж там тень на плетень наводить, дело–то обычное, молодое. Ответа пришлось ждать долго. Юрген гнал от себя мрачные мысли и клял работников почтового ведомства. То, что идет война, не рассматривалось в качестве серьезного оправдания. Они в Германии, черт побери!
Наконец ответ пришел. «Первая хорошая весточка за многие годы, – писала мать. – Сообщи, когда выедет. Я буду справляться на почте. Девушку встречу. – Дальше шли инструкции о месте встречи, чересчур подробные и ненужные, на взгляд Юргена. Эльза – большая девочка, она вполне могла сама найти дорогу даже в большом незнакомом городе. – Как–нибудь устроимся. Все будет хорошо». Письмо была написано неуверенной, чуть дрожащей рукой. «Стареет мать, – подумал Юрген, – ну ничего, Эльза ей поможет, она сильная девочка. Да и веселее им будет вдвоем».
Но даже когда были получены все необходимые документы, Эльза уехала далеко не сразу, – она находила то одну, то другую отговорку, лишь бы подольше побыть рядом с Юргеном. Тот не торопил ее с отъездом, на фронте было затишье, дни пролетали незаметно, неотличимые один от другого. А еще в голове постоянно свербила мысль, что эти дни, возможно, последние в их короткой совместной жизни. Их хотелось растянуть как можно дольше. Тем более что времени побыть вместе у них почти не было. Затишье–то было относительным, прямо напротив них русские упорно штурмовали крепость Кюстрин, иногда и им доставалось. А после затишья непременно должны были грянуть новые жаркие бои, к ним надо было готовиться.
– Все! – решительно сказал Юрген как–то вечером. – Завтра уезжаешь. Я уж и матери написал.
Эльза немножко поплакала. Юрген, обычно сатаневший от девичьих слез, на этот раз тихо сидел рядом и гладил ее по волосам. Он понимал, что это часть ритуала – и слезы, и тихое поглаживание. Армия постепенно научила его терпимее относиться к ритуалам и даже соблюдать их.
Потом были две короткие прощальные вечеринки: первая – в санитарном отделении, вторая – в отделении Юргена. Эббингхауз из ничего сделал подобие торта. Отто Гартнер выменял у второго и третьего взводов вечернюю порцию шнапса и вина, вместе с их собственной вышло в самый раз. Клинк, по его собственному выражению, «смотался к соседям» и принес пол–ящика шоколада. Юрген не стал уточнять, к каким соседям, все их соседи были таковы, что обирать их было грешно.
– Эх, не дает начальство увольнительную, – сказал Клинк, протягивая Эльзе пластинку шоколада, – а то бы я тебе такой прикид справил! Была бы как принцесса!
– Зачем мне наряды, – отмахнулась Эльза, – мне скоро впору будет разлетайки носить.
– Эльза у нас и так, как принцесса. – Красавчик нежно обнял ее плечи, усадил на лавку.
Все старались сказать Эльзе что–нибудь приятное. А Граматке и вовсе поразил – встал и прочитал какое–то длиннющее стихотворение, в котором и так и эдак склонялись слова «Эльза», «любовь» и все такое прочее. Судя по волнению, стихотворение было собственного сочинения. Он как всегда умничал, Йозеф Граматке, и половину слов Юрген не понял, но Эльза была тронута, и Юрген присоединился к общим аплодисментам. Потом они спели несколько песен, напоследок Юрген затянул их любимую:
Warte mein Mädel dort in der Heimat,
Bald kommt der Tag
Wo mein Mund dich wieder küßt. [83]83
Жди, моя девушка, там, на родине,
Скоро наступит день,
Когда мои губы снова будут целовать тебя.
[Закрыть]
Попал в самое сердце. Слезы, клятвы, объятия и все такое прочее, но это было уже после того, как он скомандовал отбой.
В путь двинулись утром. Подполковник Фрике выписал Юргену увольнительную до полуночи и выделил подводу с возчиком. Все было обставлено так, будто надо что–то срочно получить на складе в Зеелове, даже фельдфебель–интендант был в наличии, но Юрген понимал, что это просто жест особого внимания со стороны Фрике к Эльзе и к нему.
Километров пять тянулись сплошные укрепления, на которых там и тут уже мелькали кители солдат, из траншей вылетали комья земли. Солдаты занимались тем же, чем и они все последнее время – доводили до ума выстроенные кем–то укрепления. А вот и эти кто–то – толпа мужчин и женщин в гражданской одежде рыли что–то, похожее на противотанковый ров. «Зачем он здесь?» – пожал плечами Юрген. То же думал и местный крестьянин, который громко кричал роющим, чтобы они не залезали на его участок. Потом он наклонился, взял комок земли, растер его в руках, внимательно рассмотрел, даже понюхал. Он собирается что–то сеять, сообразил Юрген. Что это – вера в то, что они, солдаты, не пропустят и отгонят русских, или вековая приверженность крестьян укладу, определяемому природой? Война – войной, а сев – севом.








