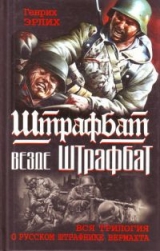
Текст книги "Штрафбат везде штрафбат. Вся трилогия о русском штрафнике Вермахта"
Автор книги: Генрих Эрлих
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 47 страниц)
– Нарушившие приказ будут лишены увольнительных. В заключение сообщаю вам радостное известие: наши раненые товарищи находятся на излечении здесь же, в городе, в армейском госпитале. Дорогу к госпиталю вам должен указать любой дежурный или представитель жандармерии. Посещения в госпитале разрешены с двенадцати ноль–ноль до четырнадцати ноль–ноль.
Это сообщение солдаты также приветствовали троекратным возгласом, может быть, не таким громким, как предыдущее, но не менее искренним. Через полчаса солдаты второго взвода третьей роты получали документы для увольнительной. Тут их ждал еще один подарок от командира батальона.
– Аусвайс для перемещения по городу подлежит предъявлению при выходе с территории лагеря и возврату при возвращении из увольнительной, талончик на посещение пуффа, [21]21
Puff (нем.) – публичный дом (солдатский жаргон).
[Закрыть]корешок с отметкой об использовании подлежит возврату в канцелярию батальона, презерватив… – писарь последовательно выкладывал все это на стол перед изумленным фон Клеффелем. – Следующий!
– Аусвайс для перемещения по городу, вернуть при возвращении, талончик на посещение пуффа, корешок с отметкой об использовании вернуть, презерватив. Следующий!
Юрген сгреб выданное со стола, уступив место Ули Шпигелю.
– Аусвайс, талончик, презерватив.
– Использованный презерватив подлежит возврату? – поинтересовался Ули.
Вопрос поставил писаря в тупик. Он долго шевелил губами, как будто прочитывал всевозможные уставы, указы и инструкции в поисках ответа.
– Я запрошу начальство, – выдавил наконец он. – Следующий!
– Мой друг, – сказал фон Клеффель Ули Шпигелю, когда они направлялись к своей палатке, чтобы собраться перед увольнительной, – убедительно прошу вас никогда не шутить подобным образом с писарями.
– Почему? – пожал плечами Ули Шпигель.
– Ваш невинный вопрос может породить бумажную бурю. Ваш запрос пойдет по инстанциям, никто не решится взять на себя ответственность за вынесение столь судьбоносного решения и будет пересылать запрос вышестоящему руководству, в верховном командовании сухопутных сил, куда он с неизбежностью поступит, этот вопрос вызовет долгие дебаты и жаркие споры, после чего будет подготовлен проект указа, который положат на стол фюреру. Наш целомудренный фюрер возмутится столь низкой прозой жизни и будет всячески оттягивать подписание указа.
– Ну и что? – легкомысленно сказал Ули Шпигель.
– Да то, что до решения вопроса отменят выдачу талончиков и закроют бордели!
– Вот черт! – сказал Красавчик.
– Герр подполковник, вы сейчас говорили точь–в–точь как старина Зальм, – сказал Курт Кнауф.
– Правда? Что ж, я действительно вспоминал перед этим о бедняге Зальме. Увидим ли мы его когда–нибудь? Да и жив ли он?
Все замолчали. Юргену стало не по себе – как будто поминали погибшего. Он поспешил развеять тягостную атмосферу шуткой.
– Мы опять стали голубыми, – сказал он, помахав талончиком, цвет которого был почти неотличим от цвета их бывших «недостойных» военных билетов.
– Вам хорошо, вы вернулись в привычное состояние, – подхватил фон Клеффель, – но я никогда голубым не был и не уверен, что хочу им быть. Мы, офицеры, всегда вызывали девочек к себе, да и девочки были… Ну, вы меня поняли. Что делать с этим, – он, в свою очередь, помахал талончиком, – ума не приложу. Можно ли представить меня, подполковника Вильгельма фон Клеффеля, входящим в солдатский бордель?
– Очень даже можно, – сказал Красавчик.
– Вы находите? – фон Клеффель вставил монокль и строго посмотрел на Красавчика.
– Нахожу, – ответил тот. – Одну из самых роскошных тачек в своей жизни я увел от дверей самого низкопробного борделя в Киле, настолько низкопробного, что сам я не сунулся бы туда, даже если бы мне приплатили. А вот хозяин тачки посещал его с завидной регулярностью. Между прочим, он был барон.
– Может быть, он приезжал туда по делам, – сказал фон Клеффель.
– Ха, по делам! – воскликнул Красавчик. – Там была горбунья, еврейка, выдававшая себя за мадьярку, истинный ураган по отзывам. У нее еще были волосатые ноги, – уточнил он.
– Какая гадость! – Вайнхольда передернуло от омерзения.
Юрген представил себе голого Кинцеля и не сдержался, рассмеялся. Ему вторил дружный смех, все остальные подумали о том же.
– А это на раз или на час? – озабоченно спросил Диц, вертя талончик в руках.
– Судя по количеству выданного снаряжения, на раз, – ответил Ули Шпигель.
– На раз или на час, вам ведь все равно будет мало, Хайнц, – сказал Вайнхольд, – возьмите еще мой, он мне не понадобится. Только не забудьте вернуть мне корешок с отметкой об исполнении, чтобы я мог отдать его в канцелярию.
– И исполню, и верну, – Диц поспешил забрать талончик, – вы настоящий друг, Вайнхольд. Что я могу для вас сделать?
– Я случайно увидел у вас в ранце заначенную банку мясных консервов. Не могли бы вы дать ее мне? Я не оставляю надежды на встречу в госпитале с Эрихом. Вы ведь знаете, как кормят в этих госпиталях. А Эриху даже в нашем котле не хватало мяса, я всегда подкладывал ему свои кусочки.
– Конечно, конечно, – засуетился Диц, доставая банку консервов из ранца, – это будет нашим общим подарком старине Кинцелю.
Юрген хлопнул себя ладонью по лбу. Как же он мог забыть?! Юрген полез в свой мешок и достал плитку шоколада. Он был большим сладкоежкой, Толстяк Бебе, и хорошим парнем.
Им повезло. Их товарищи находились здесь и шли на поправку. Каждый раз, когда они по очереди направлялись в увольнительную, они непременно заходили в госпиталь.
У них быстро выработался четкий ритуал. Вот и в тот день они необычно большой компанией – отсутствовали лишь Красавчик и Брейтгаупт – отправились с утра в город. Их лагерь располагался километрах в семи от центра города, им, привыкшим к долгим маршам, это было не расстояние. Они промаршировали по шоссе, наслаждаясь воздухом свободы и приветственно козыряя проезжавшим мимо машинам. Они вступили на улицы города, в который раз поразились царившей там мирной атмосферой и четкой организацией жизни. По улицам ходили подтянутые немецкие офицеры и женщины в нарядных платьях, солдаты в чистой форме и надраенной до блеска обуви если и слонялись просто так по улицам, глазея по сторонам, не позволяли себе ни малейшей расхлябанности, готовые в любой момент отдать честь встречному офицеру, патрули вежливо проверяли документы и указывали дорогу. Отпускники излучали счастье от предвкушения близкой встречи с родными и коротали время до отхода поезда в кинотеатре, где специально для них крутили фильмы. Прилавки многочисленных магазинов не ломились от избытка товаров, но предлагали все необходимое. Старухи и девочки продавали букетики цветов. Дымили трубы завода. В сторону железнодорожной станции одна за другой ехали крытые машины с различными грузами, предназначенными для отправки в Германию. В том же направлении прошла колонна местных жителей, молодых парней и девушек с чемоданами в руках, они ехали на работу в Германию. Их лица были печальны, это было так понятно и естественно, ведь они покидали родителей и родные места. Провожающих не было, это было предусмотрительно запрещено, чтобы избежать душераздирающих сцен прощания.
Но главным было наличие ресторанов, кафе, пивных. Именно это отличает мирный город от военного, цивилизацию от варварства. Собственно, в пивную они и направлялись, это было первым пунктом программы. Пивная походила на рабочую столовую, каковой она, наверно, и была в прежнее время, но они не привередничали. В пивной важен не интерьер, а хорошая компания и, конечно, пиво. Пиво должно быть.
– Бирхер? – склонился над их сдвинутым столом русский официант.
Это означало: «Пиво, господа?»
– Ja! – закричали они дружно.
Вскоре перед каждым стояла кружка пива с огромной шапкой пены и рюмка водки. Водку тут подавали как само собой разумеющееся.
– Prosit! [22]22
На здоровье! (нем.)
[Закрыть]– они подняли рюмки и выпили до дна. – Mit den Wölfen muß man heulen! [23]23
Немецкая поговорка. Практически дословный перевод: «С волками жить – по–волчьи выть».
[Закрыть]
Запили пивом. Утолив первую жажду, они застучали кружками по столу, скандируя:
– Bier! Bier! Bier!
Стучали, впрочем, осторожно, ведь кружки были стеклянными и без крышек, а пена по–прежнему заполняла половину кружки. Официант быстро принес пиво и водку. Теперь можно было осмотреться и неспешно поговорить.
Несмотря на ранний час, зал был почти заполнен. Преимущественно такими же солдатами, как и они, не желающими терять даром ни одной минуты из дня отдыха. Исключение составляла шумная компания русских полицаев, молодых и не очень, узколицых, поджарых мужчин, сидевших за столиком в углу и налегавших на водку. Одеты они были кто во что горазд. На некоторых была немецкая военная форма без эмблем, перехваченная в поясе советскими широкими ремнями с тяжелыми литыми пряжками. А некоторые были и вовсе в коричневатых офицерских френчах с медными пуговицами с выпуклой эмблемой серпа и молота. Их эта мешанина нисколько не смущала. Они искоса посматривали на сидевших в зале немцев и хвастливо грозились прищучить каких–то неведомых Юргену москалей. Юрген вообще мало что понял из их разговора, они говорили скорее по–польски, чем по–русски. Они были из Галиции, что это такое, Юрген тоже не знал.
– Прекрасный материал, – сказал фон Клеффель, показывая глазами на полицаев, – отчаянные и полные ненависти к большевикам. Как раз то, что нам нужно.
– Это точно, – сказал Красавчик, – ненависть из них так и прет.
– Почему вы решили, что к большевикам, подполковник? – спросил Вайнхольд.
– А к кому же еще? – искренне изумился фон Клеффель. – Не к нам же! Ведь мы принесли им свободу от большевистского ига. Осталось только привить им немецкий порядок, и из них выйдут отличные кавалеристы, вы уж мне поверьте. Я потому и сказал: прекрасный материал.
– Наемники, – скривился Ули Шпигель, – хороших солдат из них сделать можно, тут я не спорю, но доверять им… Вы уж мне поверьте!
Шпигель знал, о чем говорил, он сам был когда–то наемником.
Это была прелюдия. Главный разговор был впереди. А о чем говорить, как о не запрещенной в лагере теме? У всех были на этот счет свои соображения, наблюдения, планы.
– Тыл есть тыл, здесь все отлажено, – начал фон Клеффель, – но вы даже представить себе не можете, какие тяготы мы испытывали во время наступления летом сорок первого года. Наше наступление было столь стремительным, а просторы этой страны столь обширными, что мы далеко оторвались от наших баз снабжения и, что самое ужасное, от полевых борделей, – добрался он наконец до сути вопроса. – Местное женское население задействовать нельзя под угрозой трибунала. Хоть вой! Хоть узлом завязывай! Надо отдать должное верховному командованию – тогда оно быстро отреагировало. Начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер лично отдал приказ тыловым подразделениям снабдить бордели трофейным транспортом. Представьте: мы идем на рысях к Москве, а за нами на полуторатонном грузовичке следуют проститутки в точном соответствии со штатной численностью – по одной на сто солдат и 75 унтер–офицеров во главе с красавицей Эммой, она ублажала офицеров.
– Что с ними стало, герр подполковник? – спросил Кнауф.
– Попали в плен при нашем тактическом отступлении.
– Жаль, – сказал Кнауф.
– Ничего не поделаешь, война, – бодро сказал фон Клеффель, – потери неизбежны.
– Место выбывших бойцов займут сотни новых! – возвестил Ули Шпигель голосом доктора Геббельса.
– Все равно жалко девчушек, – сказал Кнауф.
– Они не пропадут, – успокоил его Ули Шпигель, – большевики тоже люди, по крайней мере в этом отношении. И среди них есть настоящие мужчины, это следует из того, как они сражаются.
– А здесь, повторюсь, все прекрасно отлажено, – вернулся к прерванному рассказу фон Клеффель. – Я побывал с инспекцией в нескольких пуффах. Обстановка излишне спартанская, но контингент вполне удовлетворительный, хотя и не дотягивает до уровня офицерских борделей. У нас отбор был жесткий: рост – не ниже 175 см, бюст – В и больше, волосы – светлые, глаза – голубые или светло–серые, манеры – хорошие. И, конечно, это были истинные немки, выросшие в германских землях. Здесь же, как я выяснил, преимущественно фольксдойче. На их примере можно наблюдать, сколь губительно для внешности, языка, манер и чувства долга даже кратковременное пребывание под властью большевиков. Никакой старательности! У меня даже возникло подозрение, что среди них есть полукровки, обманом прокравшиеся в бордель.
– Есть, – подтвердил Диц.
Он считался у них главным экспертом по неарийкам. Скорее он был пробником: если шарахается от девицы, значит, точно – неарийка. Суд нанес ему серьезную психическую травму.
– Моя Гретхен не такая, – поспешил добавить он, – она из Галле, мы почти земляки.
Ему не терпелось поговорить о своей подружке и опередить в этом своего закадычного дружка Кнауфа. Они оба завели себе постоянных подружек, сегодня у них было четвертое свидание под крышей пуффа. И они уже два раза выгуливали своих пассий после работы в городском парке и угощали их пивом. Диц расписал все в красках.
– Ты надеешься, что она даст тебе в кустах по любви? – спросил Юрген.
– Три рейхсмарки – тоже деньги небольшие, – встрял Ули Шпигель, – она и так отдается практически даром, можно сказать, по любви.
– Из любви к искусству, – уточнил фон Клеффель.
– А ведь Гретхен еще отдает половину жалованья в фонд поддержки раненых, – сказал Диц. – У нее очень тяжелая работа. Она очень устает. У них норма выработки – шестьсот клиентов в месяц, это без учета сверхурочных и повышенных обязательств. Но она не жалуется, ведь Гретхен пошла на фронт доброволкой. Она отличная девушка! Мы собираемся пожениться после окончания войны. Никому в голову не пришло рассмеяться.
– Из проституток выходят верные жены, – сказал фон Клеффель.
– И у нее будет пенсия после увольнения со службы, – добавил Вайнхольд. – Ведь она служащая военного ведомства? – Диц утвердительно кивнул. Вайнхольд посмотрел на часы и поспешно поднялся: – Товарищи, половина двенадцатого! Нам пора в госпиталь!
Госпиталь располагался неподалеку от железнодорожного вокзала. В нем и при прежней власти размещалась больница, так что немецкой администрации не пришлось ничего особо переделывать. Лишь сменили медицинский персонал и завезли необходимое оборудование, которое либо отсутствовало вовсе, либо было растащено местными жителями. Да еще посетителей, поднимающихся по центральной лестнице, теперь встречал не Сталин в полувоенном френче, а фюрер, изображенный в полный рост, в длинном кожаном пальто.
Это было довольно помпезное пятиэтажное здание с восемью круглыми колоннами при входе и длинными боковыми крыльями. Раньше оно располагалось в парке, но от него осталось лишь несколько групп берез на задах, все остальные деревья были спилены и выкорчеваны, а клумбы сровнены с землей. Кто–то говорил, что это последствия жестоких боев, развернувшихся у этого здания на первом этапе войны, другие предрекали, что территория специально расчищена в ожидании наплыва раненых с полей будущих сражений. Как бы то ни было, образовался обширный двор, в котором прогуливались выздоравливающие и посетители. Вся территория была обнесена металлической кованой оградой. Решетка была старая.
Они предъявили свои аусвайсы дежурным у ворот, пересекли двор и вошли в здание. Лишь Юрген немного задержался, чтобы перекинуться парой слов с Берндом Клоппом и угостить его сигаретой. Они с Юргеном вполне могли бы быть приятелями, но судьба свела их только тут. Клопп до призыва в армию работал электриком на верфи в Гамбурге. Теперь Клопп был ефрейтор, и у него не было ступней ног – подорвался на мине. Его возили на прогулку в госпитальной коляске, бодрая улыбка не сходила с его лица. «Вернусь домой и буду ремонтировать радиоприемники», – говорил он. Он никогда не унывал, Бернд Клопп.
Юрген догнал товарищей у дверей палаты, где лежали Зальм и Кинцель. Зальм приветливо помахал им рукой. Кинцель повернул голову – он лежал на животе, втянул носом воздух, сказал с тоской:
– Пиво пили.
– Эрих, дорогой, – поспешил к нему Вайнхольд, – мы бы с радостью принесли тебе пива, но ведь приносить спиртные напитки в госпиталь и тем более распивать их запрещено. Но что я тебе принес взамен?! – загадочно улыбаясь, он полез в карман кителя, потомил немного друга ожиданием, извлек банку датских сардин. – Вот чем мы сегодня побалуем нашего здоровяка!
Юрген терпеть не мог этого сюсюканья.
– Привет, Кинцель, – сказал он, – твоя задница выглядит сегодня намного лучше. – И сел на стул у кровати Зальма, потеснив Кнауфа.
Зальм был бледен, его щеки ввалились, запавшие глаза горели лихорадочным огнем. Впрочем, не только лихорадочным.
– Как я рад видеть вас, мои молодые друзья! – сказал он приподнятым голосом. – Сейчас как никогда раньше я чувствую духовную близость с вами. Побывав за гранью этого мира, я полностью избавился от экзистенциальных мыслей о смерти и возлюбит жизнь во всех ее проявлениях. Я ощущаю такую жажду жизни, как в юношеские годы! Я ощущаю себя вашим сверстником, друзья мои!
– Складывается впечатление, Зальм, – заметил фон Клеффель, устроившийся на подоконнике, – что вас шандарахнуло не по ноге, а по голове, вы стали говорить совсем другим языком.
– Вот именно что по голове и именно что шандарахнуло, – подхватил Зальм, – и очень хорошо, что шандарахнуло. Я стал другим человеком. Я даже стал вспоминать о жене… Вы ведь даже не знали, что у меня была жена, не так ли?
Он спрашивал об этом при каждом их посещении. В первый раз они действительно были поражены. Изобразили изумление и сейчас, легонько похлопали его по плечу, Кнауф всплеснул руками: «Во дает старина Зальм!»
– Почему – была? – поднял брови фон Клеффель.
– Вот видите! Я настолько подавил в себе всякие воспоминания о Марте, я заставил себя сделать это, чтобы не причинять лишних страданий ни себе, ни, главное, ей, что уже не воспринимал ее как реально существующего человека, она стала эфемерной, недостижимой мечтой, идеалом, ангелом. И вот этот ангел стал облекаться плотью, Марта является мне во сне, я представляю себе, как возвращаюсь домой, обнимаю ее, провожу рукой… – он запнулся.
– Дальше можете не продолжать, – сказал фон Клеффель, – эти переживания нам всем хорошо знакомы. Вы действительно скинули добрый десяток лет!
– Вот только как Марта встретит меня? – забеспокоился Зальм.
– Отлично встретит, – заверил его фон Клеффель. – Женщины обожают героев!
– Но моя нога?..
– Вы компенсируете эту несущественную потерю молодым задором! И языком. Женщины любят возвышенные слова, у вас это стало хорошо получаться.
– У вас все будет хорошо, – сказал Юрген. Он неожиданно для себя расчувствовался.
– Да–да, мой друг, – схватил его за руку Зальм. – Я верю, что и меня, и вас, всех нас ждет долгая жизнь, и что в ней будет много–много хорошего.
– Аминь, – возгласил вошедший Толстяк Бебе и широко улыбнулся: – Привет, друзья!
Рана Толстяка Бебе действительно оказалась царапиной, она практически зажила, и его уже можно было выписывать. Но он обратился к командованию с рапортом, в котором просил разрешить ему на время пребывания батальона в городе ухаживать за ранеными товарищами. Майор Фрике не возражал, администрация госпиталя тем более – такого безотказного помощника, готового выполнять любую, самую грязную работу, надо было еще поискать.
Толстяк Бебе пересказал им несколько забавных историй, услышанных им от других раненых. Они отлично провели время. Ровно в два они покинули палату.
– Auf Wiedersehen! [24]24
До свидания! (нем.)
[Закрыть]– сказали они на прощание. Они не сомневались, что через несколько дней вновь придут сюда. Их недоукомплектованный батальон никак не могли за это время послать на фронт. А что еще могло помешать им прийти сюда? На каменных ступенях крыльца госпиталя Юрген чуть замешкался. Он кинул быстрый взгляд в сторону ограды, слегка кивнул головой.
– Юрген, ты с нами? – спросил Курт Кнауф. – Мы в «Веселую Магдалину».
– Может быть, подойду попозже, – ответил Юр–ген, – хочу с Клоппом поболтать.
– Передай ему от меня сигарету, – Кнауф полез за пачкой.
– Место сбора – лагерь! – провозгласил фон Клеффель. – Всем удачи, господа!
Он поспешил к воротам, свернул налево по улице, ведущей к железнодорожному вокзалу, в районе которого располагалось большинство пуффов. За ним потянулись остальные. Юрген подождал, когда они минуют ворота, и быстрым шагом направился туда же, но повернул направо, на улицу, ведущую на окраину города.
Das war ein Huebsches Fraulein
Это была красавица. Настоящая русская красавица. Дело было не в том, что Юрген давно не видел девушек. С голодухи любая девчонка покажется красивой. Нет, она действительно была красавицей, он таких никогда не встречал. И она была русской. Крупная, но с тонкой талией, с округлыми коленями и плечами, она была не похожа на угловатых и колючих немецких девушек Высокие скулы, полные губы, каштановый локон, выбивающийся из–под синего платка, и коса с руку длиной и толщиной, огибающая шею и спускающаяся на высокую грудь. И еще глаза – крупные, мечтательные, полусонные. Они смотрели на него.
Этот взгляд Юрген почувствовал кожей, когда спускался с друзьями по ступенькам после их первого посещения госпиталя. Он вздрогнул и принялся оглядываться вокруг, ничего не заметил, приподнялся на цыпочки, вытянул шею и вновь провел глазами по госпитальному двору, по гуляющим выздоравливающим в пижамах, по спешащим по своим делам врачам и санитарам в халатах, по посетителям в военной форме, по всему этому скопищу мужчин, пока не наткнулся взглядом на нее. Она стояла у металлической решетки, опоясывавшей госпиталь, и смотрела на него. В этом не было сомнения. Он поймал ее взгляд и стал втягивать в себя. Она подалась вперед, прижалась грудью к решетке, вцепилась руками в ее прутья. Потом вдруг оттолкнулась, повернулась и пошла прочь, как уходит крупная рыба, попавшаяся на крючок рыболова. И она так же мощно потянула Юргена за собой. И он, связанный с ней невидимой леской, послушно пошел за ней, забыв обо всем на свете.
Догнал ее Юрген через два квартала. Пошел рядом. Она бросила на него быстрый взгляд и тут же отвела его. Она не сказала ни слова и не ускорила, не замедлила свой шаг.
– Ты меня высматривала? – спросил Юрген по–русски.
– Тебя, – ответила она после небольшой паузы. Она не была удивлена. Она всегда так отвечала, как будто смысл вопроса долго доходил до нее, как будто слова заражались ее полусонной медлительностью. – Марина, – сказала она через несколько шагов.
– Нет, мы из пехоты, [25]25
Marine (нем.) – военно–морской флот.
[Закрыть]откуда здесь взяться морякам? – улыбнулся Юрген.
– Меня зовут Мариной, – сказала девушка и улыбнулась. – А тебя как?
– Юрген, – он поперхнулся и тут же исправился: – Юра.
– Так ты русский?
– Русский. Немец, – он уже подхватил вирус медлительности, ответов с долгими перерывами, отчего сказанное зачастую приобретало другой смысл.
– Как интересно! А по–русски говоришь как русский.
– А по–немецки как немец.
– Как интересно! Пойдем в лес.
Юрген подумал, что Марина, наверно, не хотела, чтобы ее кто–то увидел прогуливающейся с немецким солдатом. Он поспешно согласился. Он бы на что угодно согласился, лишь бы быть рядом с Мариной.
– Здесь хорошо, тихо, – сказала Марина, когда они опустились на траву в лесу.
– Тихо, – эхом откликнулся Юрген, – особенно после фронта.
– Ты давно на фронте?
– Четыре месяца.
– Четыре месяца? А выглядишь старше.
– Меня не сразу призвали.
– Почему?
– В тюрьме сидел, – ответил Юрген и поспешил разъяснить, – с нацистом одним подрался, вот и посадили.
– Фашисты… – протянула Марина.
– Да.
– Ты их не любишь?
– Как их можно любить? Я красивых девушек люблю. Таких, как ты, – Юрген попытался сменить тему разговора.
– А там, где ты жил, девушки красивые?
– По сравнению с тобой – дурнушки.
– А где ты жил?
– В Гамбурге. Я на верфи в порту работал.
– Так ты рабочий?
– Да, – Юрген осторожно положил руку на плечо Марины. – Хорошо здесь, – сказал он, – тихо, – и чуть прижал девушку к себе.
– Тихо, – эхом отозвалась Марина и положила голову ему на плечо. – А ты партизан не боишься?
– Не боюсь, – ответил Юрген.
Не до партизан ему в тот момент было. Он бы и не вспомнил о них, кабы не слова Марины. Их, конечно, предупреждали перед первым выходом в город и ужасы всякие рассказывали, но их после проведенных боев трудно было чем–либо напугать. Они сами всем этим тыловым умникам могли такое порассказать, что те бы три дня с толчка не слезали от страха. Вот так! Да что там говорить! Пленных Юрген видел, полицаев видел, разговоры о партизанах слышал, но…
– Никогда не видел живого партизана, – сказал он.
– Откуда ты можешь это знать? Они же ничем не отличаются от обычных людей. Они и есть обычные советские люди. Рабочие. Колхозники. Учителя. Молодые парни, которых не успели призвать в армию.
– И молодые красивые девушки, – вклинился Юрген в паузу. – Ой, боюсь! Помогите! – крикнул он, как можно тише крикнул, а ну как кто услышит, сунется сдуру, этого только не хватало. – На меня напала партизанка! – Он притянул Марину к себе, начал шутливо бороться с ней, она приняла игру, тоже стала бороться с ним. Юрген упал на спину, потянул за собой Марину, прижал ее грудь к своей груди. – О, партизанка взяла меня в плен! Я побежден! Я сражен! Сдаюсь! – Он раскинул руки в стороны.
Марина пригвоздила их к земле своими руками, чуть приподнялась.
– Сдаешься?! – воскликнула она, дунула вверх, отгоняя упавшую на глаз прядку волос, потом крепко сжала губы, чтобы, наверно, самой не рассмеяться, прищурила глаза. Она была очень смешной в тот момент, Юрген сам едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. – Хенде хох! – сказала Марина.
– Не могу хенде хох, – расхохотался Юрген, – только «Гитлер капут» могу. Гитлер капут! – крикнул он.
Убедительно получилось. Марина тоже зашлась в смехе:
– Гитлер капут!
Конец ее тяжелой косы мотался из стороны в сторону, бил Юргена по щекам, по носу, по глазам.
– Изуверская русская пытка – пытка девичьей косой! – закричал он. – Я требую соблюдения прав военнопленного.
– Ах, он требует! – Марина схватила косу правой рукой и принялась ее кончиком щекотать Юргену нос. – Вот, получай, получай!
Юрген морщил нос, уворачивался, чихал, потом резко вывернулся, опрокинул девушку на спину, лег на нее, в свою очередь, прижав ее руки к земле.
– Попалась, партизанка! – сквозь зубы сказал он и постарался изобразить «зверское» лицо. – Ну, теперь берегись! – и он впился в ее губы.
Она обмякла. Юрген провел пальцами по ее руке, по длинной шее с пульсировавшей жилой, спустился к груди, потом скользнул еще ниже, к бедрам. Марина уперлась руками ему в грудь, чуть отодвинула от себя.
– Ты очень спешишь, – сказала она тихо.
«Я очень спешу, – подумал Юрген по–немецки, – чай, не с портовой девчонкой. Она не такая. Так можно только все испортить». Портить не хотелось. Юрген отодвинулся, сел рядом с Мариной.
– Я влюбился в тебя с первого взгляда, – сказал он.
– Даже так?
– Только так и бывает.
– Наверно. Я не знаю.
– Еще не знаешь?
– Мне надо разобраться в себе.
Юрген увидел кустик незабудок, сорвал несколько побегов, протянул Марине, продекламировал, подбирая слова:
Совсем одинокий и покинутый
На отвесной скале,
Гордый, под синим небом
Стоял маленький цветочек.
Я не смог устоять,
Я сорвал цветочек
И подарил его красивейшей
Самой любимой Марине.
– Спасибо, – сказала Марина, – мне никто никогда не дарил цветов, – она потянулась и поцеловала Юргена в щеку.
– А песни тебе пели? – спросил он.
– Песни пели, – со смущением ответила Марина.
– Ну уж немецкие точно не пели! Это ведь я тебе песню перевел. Плохо, как сумел. По–немецки она лучше звучит. Ее один мой друг любил петь.
– Любил…
– Он погиб. На фронте. Неделю назад. Эх, он бы спел!
– Ты спой.
И Юрген спел:
Ganz einsam und verlassen
An einer Felsenwand,
Stolz unter blauem Himme!
Ein kleines Blümlein stand.
Ich könnt' nicht widerstehen,
Ich brach das Blümelein,
Und schenkte es dem schönsten,
Herzliebsten Mägdelein.
– Красивая песня, – сказала Марина, – только там имени моего нет.
– Ой, – спохватился Юрген, – какой же я дурак! Пропел, как в песне: Магделайн, Магдалина. Она так и называется, песня.
– Все правильно. У нас говорят: из песни слово не выкинешь.
– Надо как–то прикрепить букетик к платью, – сказал Юрген, – синие цветы, синий платок, красиво будет.
– Синий платок, – сказала Марина и вдруг пропела:
Скромненький синий платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты провожала, но обещала
Синий платочек сберечь.
– Тоже красивая песня, – сказал Юрген, – я такую не слышал. Она что, новая?
– Новая, – сказала Марина.
– А о чем она? О любви?
– О любви, – ответила Марина, но даже для нее ответ сильно припозднился.
Юрген, почувствовав это, стал приставать к ней с расспросами, с просьбой спеть всю песню. Наконец Марина тихо запела:
Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.
Она замолчала.
– Война, – сказал Юрген поникшим голосом, – как же я ненавижу войну!
– Я тоже. Мне надо идти. Меня ждут.
– Мы увидимся еще раз?
– Да. Наверно. Конечно. Я постараюсь.
– Где? Когда?
– Ты еще придешь в госпиталь?
– Да, непременно, у меня там друзья.
– Я буду ждать тебя там.
Следующей увольнительной пришлось ждать пять дней. Юрген весь извелся. Он представлял, как Марина каждый день приходит к госпиталю и ждет его, стоя у решетки, отбиваясь от приставаний немецких солдат. Он боялся, что она подумает, будто он забыл ее, и в какой–то из дней не придет к госпиталю, именно в тот день, когда туда придет он. И он никогда больше не увидит ее, никогда не найдет ее, ведь он не знал, где ее искать, и кто она, и чем занимается.
Она ждала его. Он поймал ее взгляд и слегка кивнул. Он не хотел, чтобы товарищи увидели ее, он не хотел делиться с ними своей радостью, он не хотел показывать им свое сокровище. Она принадлежала только ему, ему одному.
Марина тоже едва заметно кивнула, повернулась и пошла прочь, как в прошлый раз. Юрген пошел за ней, пытаясь запомнить дорогу. Впереди уже маячил лес, но Марина вдруг повернула в сторону и пошла по крайней улице, узкой, в глубоких рытвинах, в которых, несмотря на жаркую, сухую погоду, стояла вода. Улица была застроена одноэтажными домишками, редко расположенными, как в деревне. Мертвенная тишина, ни клохтанья кур, ни криков играющих детей, ни переругивания хозяек. Единственный человек на улице – мужчина в пузырящемся поношенном пиджаке и кирзовых сапогах, засаленная кепка надвинута на глаза, лицо укрыто густой бородой. Он сидел на лавочке перед одним из домов и курил самокрутку. Когда Юрген проходил мимо, мужчина вскинул на него глаза, в них горела ненависть, молодая, рвущаяся в бой ненависть. «Это, наверно, партизан», – мелькнула мысль.








