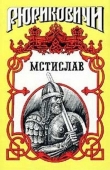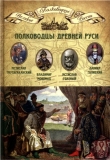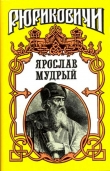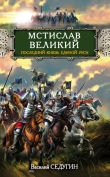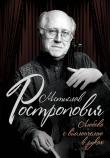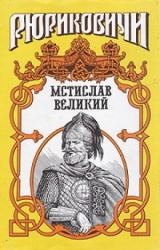
Текст книги "Мстислав Великий"
Автор книги: Галина Романова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц)
Ярославца Святополчича, из-за которого недавно разгорелся сыр-бор, Мстислав увидел только несколько лет спустя, когда отец нежданно-негаданно призвал его принять участие в выходе против половцев. За последние годы русские дружины уже не раз сталкивались со степняками и одерживали победы. Всякий раз вдохновителем походов был Владимир Мономах.
Великий киевский князь старел, слабел, становился всё тяжелее на подъем, и влияние на Руси понемногу переходило в руки его соперника. Святополк боролся за власть. Свою обиду на Мономаха за то, что не дал его сыну Новгорода, он переборол, женившись на царевне из рода Комнинов, Варваре. Девушка была уже не первой свежести, но братьям Алексею и Исааку Комнинам было мало дела до Руси – с одной стороны наседали арабы и прочие кочевые народы, с другой – крестоносцы, воюющие за Гроб Господень. Потому чести эта свадьба принесла мало. Одно добро – Варвара родила-таки Святополку двоих сыновей – Брячислава и Изяслава.
Мстислав прискакал в Переяславль накануне похода, приведя большую дружину. Там уже ждали его братья – Ярополк и Вячеслав. Они впервые встретились после похорон матери. Юрия в Переяславле не было – Владимир Мономах сдержал слово и отослал сына в Ростов.
Много князей собиралось в тот поход. Приехал крепкий телом, но слабый духом Давид Святославич Черниговский с сыном Ростиславом, привёл полки Новгорода-Северского старший сын неукротимого Олега Всеволод с младшим братом Святославом. Сам Олег, не одобрявший походов русских князей на степь, опять сказался нездоровым и отговорился тем, что останется защищать границы своей Курской волости от половецких выходов. Из Дорогобужа пришёл Давыд Игоревич – с того года, как осудили его князья за посеянные распри, это был первый случай, когда князь-изгой появился средь своих родичей. Святополк Изяславич также был недоволен походом – но потому лишь, что затеян этот поход был хотением Мономаха. Сказавшись нездоровым – он и правда последний год много хворал, великий князь прислал вместо себя сына Ярославца.
Мстислав, узнав, что его соперник за новгородское княжение здесь, не преминул отыскать его. Худой и жилистый, в отца, Ярославец мало походил на него обликом. Крупные черты его лица отражали волю, решительность и жёсткость, которую легко можно было спутать с жестокостью. Говорили, что он и был жесток и что первая его жена, венгерка, умерла, забитая мужем в приступе ярости. Не лучше жилось и второй жене, которая за четыре года супружества уже трижды рожала мёртвых детей и опять была оставлена мужем на сносях. Странно, но не только Мстиславу – и его отцу, а с ним и Давиду Святославичу Ярославец живо напомнил Давыда Игоревича, предыдущего князя Волынского.
В тот год Пасха должна была наступить рано, и выступили в Велик пост. Почти три недели, почти весь берёзозол-месяц (март. – Прим. авт.) месили подтаивающий снег с грязью обнажающейся кое-где земли, с трудом перебирались через набухшие, с сочащимся трещинами льдом реки. И на пятую неделю Поста добрались до половецкого города Шаруканя.
...Всякому нужен свой дом. Даже дикий зверь – и тот не весь век рыскает по полям и лесам. Даже волку, коего ноги кормят и спасают, и тому нужна нора. Птица вьёт гнездо, рак зимует под корягой, лисица роет нору, паук плетёт паутину, рыба прячется в омуты. И человек тоже – сколь ни мотает его по свету, а помнит тот дом, где впервые увидел солнце, где и сейчас жжёт свечу старушка-мать и томится ожиданием молодая жена, баюкая сынишку.
Иное дело – те, кому дом весь мир. Кочевниками Русь называла половцев, печенегов, торков и берендеев неспроста – верхами они исколесили полмира, везя за собой в кибитках нехитрый скарб. Ненадолго остановятся, поставят лёгкие войлочные юрты, протопят их кизяком – и снова в путь, едва потравят кони и быки траву. И забудут тот уголок степи, где бывали, как сотни других.
Но и кочевники – тоже люди. Не может человек вовсе не иметь пристанища, иначе это не человек. Где-то и у половцев есть свои города. Откуда же накатываются на Русь их орды! Не рождает же их сама степь!
Купцы, на свой страх и риск отваживающиеся бродить по степям, сказывали, что есть у половцев города. Там их ханы и беи живут всю зиму, в тепле и холе. Там оседают ремесленники – как свои, половецкие, так и русские – рабы, выкупившиеся из рабства или вольные люди. Но до сих пор так далеко не заходили русские дружины. Воевали в степи с войсками половцев, изредка захватывая их становища. Но чтобы прийти в город... До сей поры не было у Руси такой силы.
Град Шарукань был городом Шаруканидов. Хан Тугоркан, бывший тесть Святополков, был из этого рода. Ныне Шаруканидов возглавлял Боняк, из-за кожной болезни и неприязни к нему русичей прозванный шелудивым.
Только в степи половец хороший воин, только с конской спины метко летят его стрелы, только на скаку мечет волосяной аркан и рубит саблей. На крепостной стене от всадников мало толку, да и не умеют половцы строить высокие крепкие стены, защищающие от осады. Русские невольники тоже не могут возвести достойную преграду от нападения.
Но Боняка в те поры в Шарукане не случилось. Сидел там один только старый Шарукан, тихо лелеял свою старость и думал – доживёт ли он до лета, чтобы вдохнуть ещё раз пряные запахи свежей степной травы или так и помрёт под завывание вьюги. Вьюга – она в степи ой как зла! Злее только русы, когда бьются насмерть.
О русах старому Шарукану думалось всё чаще и чаще. В последние годы они стали слишком часто выходить в степь, и удача обычно оказывалась на их стороне. Боги отвернулись от кипчаков вскоре после смерти Тугоркана. Только и было короткой радости что мир, заключённый у Сакова. После него русы пошли в степь и принесли смерть. Пала орда Урусобы, едва ноги унёс Боняк, а недавно разбиты половецкие вежи. Там жили жёны и дети половцев, и русские батыры налетели на них, как соколы на стаю уток. Где теперь ждать их дружины?
Шарукан полулежал на пышных подушках, прихлёбывал кумыс, мимолётно принимал ласки двух молоденьких невольниц и думал...
– Русы!
Крик ворвался внезапно, и Шарукан даже растерялся – неужто он умудрился задремать и не учуял прихода гонца. Старый хан – плохой хан. Воинская удача любит молодых, злых и сильных.
Хан приподнялся на локте, спешно сделал вид, что его оторвали от размышлений. Обе невольницы сжались в комочки, дрожа от страха и волнения. Принёсший дурную весть половец бухнулся на колени.
– Русы, русы, – повторял он.
– Чего ты бормочешь, как полоумная старуха, – проворчал Шарукан.– Откуда здесь взяться русам? Русь далеко. Они не придут сюда!
– Великий хан, наши пастухи видели русов, когда они переходили Дон. Они идут сюда!
– Что? – Сон мигом слетел. – Сюда?
– Великий хан, они уже близко.
– Их много?
– Тьмы и тьмы! Вся Русь поднялась!
– Как близко?
– Ещё день-два – и приступят к городу. О великий Шарукан!..
– Пошёл вон! – скривился хан. – Оставь меня!
Гонца как ветром сдуло. Шарукан перевёл взгляд на невольниц. Девушки не смели и вздохнуть, ожидая, что гнев повелителя выльется на них. Маленькими девочками были захвачены они на русском порубежье, а теперь выросли и ублажают старого хана. От ласк молодых девушек быстрее начинает струиться по жилам холодная старческая кровь. Но страх снова леденит её. Шарукан стар. Другие ханы, более молодые, имеют вес и влияние в степи. Даже если послать гонца, даже если он успеет домчаться до кочевий, вряд ли кто придёт старику на помощь. Нет мира в степи. А на Руси, очевидно, князья наконец-то перестали ссориться и решили отомстить за прошлое. Если он выйдет на битву – а он обязан выйти, иначе какой же он хан! – то проиграет её, и это будет позором для его старости.
Прогнав невольниц, Шарукан долго сидел в одиночестве, раскачиваясь на кошме и прикрыв глаза. Снаружи боялись вздохнуть нукеры – они были уверены, что старый хан советуется с богами. Наконец он хлопнул в ладоши и взглянул на вошедших слуг.
– Готовьте дары. Мы идём навстречу урусам.
Город Шарукань был невелик – в русском приграничье стоят такие же городки. Одна разница – нет высокой крепостной стены с заборолами и подъездной башней и не сверкают на солнце маковки церквей.
Под копытами коней чавкал раскисший весенний снег. Идти было трудно, но шли не спеша, уверенные в своей силе. Выскочившие вперёд дозорные заметили небольшой отряд половцев, который показался в воротах, доложили князьям. Те выехали вперёд. Каждый взял с собой двух-трёх ближних бояр да десяток дружинников, но всё равно сила получилась немалая. Половцев было раза в полтора меньше, но тоже больше нукеры и беи, если судить по дорогому платью и золотым бляхам на конской сбруе.
Старый Шарукан в самый последний момент не поехал на встречу с урусами, послав вместо себя одного из своих беев, Салмата. Слишком больно было старику идти на поклон.
Салмат уверенно правил посольство. Когда две группы всадников поравнялись, он первым приветствовал князей и, коверкая русские слова, назвал себя и своих спутников.
– Мы посланы от Шарукань, улус кипчаков, молвить урусским ханам – не ходить на мы война, не жечь и не убить. Мы мирный народ, жить в мир хотим, любить хотим. Зима – плохо, голодно, зима кони тощать. Кипчак без конь никуда. Пусть урус не ходить на Шарукань. Мы принёс дары от кипчаки. Бери дары, хан урусов, не тронь Шарукань! – выговорил бей, прижимая руку к сердцу.
Владимир Мономах, который был в первых рядах и к которому, угадывая его возраст и почитая за старшего, обращался Салмат, оглядел два воза, в которых были горой свалены дары – бочонки и полные мехи. На третьем возу лежала мороженая рыба, покрывшаяся инеем, затвердевшая до крепости камня. Потом поверх половецких голов посмотрел на город, чувствуя, как поднимается изнутри гордость и слёзы умиления. Мог ли он подумать, что когда-нибудь половцы пойдут к русским на поклон, прося не трогать их городов! И это после всего, что сотворили на Русской земле!
– Добро, – произнёс он. – Дары мы ваши примем и города не тронем. Везите возы в обоз!
В бочонках и мехах оказалось вино, а рыбы хоть и не хватило на всё войско, однако князья и бояре побаловались ушицей. Мономах сдержал слово – на другой день русские полки отвернули от Шаруканя и пошли дальше.
7Другому городу, Сугрову, повезло меньше. Здесь пережидал зиму один из молодших ханов. После того как разгромили орду Урусобы, потрепали Боняка, Аяп-хан породнился с русами и оставил набеги, Шарукан постарел, но много было молодых, сильных, неопытных. Хан приказал затвориться в городе и послал весть в кочевья – мол, русы пришли большой силой и готовы осадить Сугров. Молодой хан не знал, какова сила русов, а когда же увидел и оценил её, было поздно – поняв, что Сугров не откроет ворот, а стоять осадой времени не было, князья приказали жечь город.
Было страшно. Из сугровцев мало кто знал, как бороться с огнём. Да и будешь ли тушить пламя, когда рядом враги. Многие половцы выскакивали из горящего города верхами и кидались в безнадёжную сечу. Метались туда-сюда женщины с детьми, хватали добро и снопами валились под копыта русских конников. Те не тратили на пленных времени и сил, хоть добыча была велика, как и честь – взяли половецкий город!
Ставр досыта ополонился при грабеже горящего Сугрова. Торока набил кованым узорочьем и дорог ими тканями. Изловил нескольких коней, прихватил кое-какую домашнюю утварь. Сумел отыскать даже меха степных рысей и бычьи шкуры, выделанные и высушенные. В обозе ждали трое полоняников – два молодых парня и девка. Ставр уже приглядывался ко всем троим – того, что постарше, можно продать – больно дик, – а двоих младших сделать холопами. Девке было лет тринадцать. Её он подарит молодой жене. Евдокия родила ему двоих дочерей. Ждали и надеялись на сына.
Оставив позади обгорелые развалины Сугрова и немногих уцелевших его жителей горевать на пепелище, на другой день князья пошли с Дона прочь. Но почти сразу высланные сторожи наткнулись на половцев. Те успели узнать о приходе русских и готовились к битве.
Ставр был сотским заместо старого отца, и этот бой был для него первым. Он гарцевал во главе своей сотни, глядя на тёмную тучу – половецкое войско. Русские встали полукругом вдоль берега небольшого ручья, который местные жители звали Дегеем. Было тепло почти по-весеннему. Лед на протоке потемнел и был готов вот-вот треснуть.
Чуть правее расположилась новгородская дружина князя Мстислава. Сам он с немногими ближниками находился при отце. Коль чуть выехать вперёд, можно было заметить князей, собравшихся перед стягом Владимира Мономаха. Там был и полковой поп, выпевавший слова молитвы. Не слыша слов, дружинники время от времени крестились. Потом князья обнялись, последний раз о чём-то переговорили и, сев на коней, поспешили к своим полкам.
Мстислав на полном скаку вломился в ряды своей дружины. Улыбнулся обступившим его верховым, и толпа загудела тревожно-радостно. Кто-то застучал мечом о щит, другие трясли копьями.
Ставр протолкался ближе, отыскал Жизномира, с которым успел стать приятелем:
– Чего князья-то порешили?
– А чего решать? Бить поганых! За тем и шли!
– Добро! – Ставр полез к луке седла, куда был приторочен шлем. Он был уже в броне и при мече.
– Чур – в бою вместе держаться! – упредил Жизномир.
В начале битвы дружина всегда идёт за князем, но потом всякое может случиться, а верное плечо ещё никому не мешало. Ставр кивнул приятелю и воротился на своё место.
Русские, как всегда, не спешили атаковать. Половцы сделали это за них. Хоть и бивали их в последнее время не раз, но всё-таки злость за сожжённый Сугров и опозоренный данью Шарукань была слишком сильна и затмила всякое благоразумие. Против русов встала вся Степь, но пришедшие к Дегею кипчаки были самыми горячими, самыми нетерпеливыми. Им стоило бы подождать подхода основных сил, ведомых остальными ханами, но не утерпели – кинулись в бой очертя головы…
Ставр начинал бой с холодным сердцем – старый отец и малые дочки, весна и подступающая зрелость, – всё удерживало от необдуманных порывов юности. Он стоял среди пешцев – новгородцы по старинке слезли с коней и наряду с переяславльцами и киянами составили срединный полк. Укрывшись щитами, выставили копья и ждали, когда придёт черёд поработать топорами.
Половцы налетели, сминая передних. Под кем-то упал конь, другой споткнулся об упавшего и заплясал, роняя всадника. Третий успел осадить скакуна, но на него самого напоролись скачущие сзади. Первые ряды пешцев оказались смяты, растоптаны, разбиты половцами. Стоны, крики и ругань повисли в воздухе... Те, кто мог, откатывались назад, ломая строй, оставляя своих раненых и павших под копытами степных коней. Те, кто не мог отступить, хватались за топоры.
Ставр отошёл со всеми и, оставив своё копьё в боку половецкой лошади, поудобнее перехватил топор. Отличный боевой топор на длинной рукояти – у свеев были похожие, по их образцу ковалось. Топор сидел в руке как влитой, и так легко им было рубить наседавших половцев. Ставр бил по ногам лошадей и всадников, добивал упавших и всё время одним глазом следил, что деется на поле.
Время растянулось. Казалось, бьются уже весь день, но солнце почему-то встало, словно очарованное боем. Рядом падали новгородцы, пеший полк отступал, прогибаясь, и Ставр уже начал думать, что пятиться придётся долго – пока не споткнётся о тела упавших и не падёт на грязный, истоптанный, искровавленный снег, а на него сверху упадут другие.
Потом натиск ослаб, и скорее по тому, как отхлынули половцы, чем по крикам и топоту копыт, догадался Ставр, что это княжеские дружинники спешат на помощь. Пересилив, русские конники завернули внутрь оба крыла половецкого войска и, зажав в кучу, наседали со всех сторон, добивая и не давая вырваться ни единому всаднику.
Пешцы воспрянули духом.
– Нов-град! Нов-град! – зазвучал клич. Ставр подхватил его, размахивая топором. На миг он отвлёкся, глядя на знакомые шеломы и латы, и едва не пропустил миг, когда на него, мотая мордой, налетел крупный вороной жеребец. Его всадник бессильно припал к конской гриве, свесив руки. Щит ещё болтался на локте, но меча уже не было в ослабевших пальцах.
Ставр посторонился, ловя узду, глянул на сбившийся набок шелом, на льющуюся с шеи кровь – и ахнул.
– Жизномир!
Дружинник был, наверное, ещё жив, но душа рвалась вон из порубленного тела. Ещё одна рана красовалась на боку – половец ударил под щит. Когда конь остановился, тело Жизномира сползло к ногам остолбеневшего Ставра и осталось лежать, разбросав руки-ноги.
Вороной жеребец дрожал всем телом, но боялся переступить с ноги на ногу, берег покой уже успокоившегося навек хозяина. На его шее темнела полоса Жизномировой крови. Огладив трясущегося коня, Ставр выпачкался в ней, и это словно пробудило его, сорвало пелену с глаз. Последний раз взглянув на тело приятеля, он поудобнее перехватил топор и одним прыжком взлетел в седло осиротевшего коня. Ринулся в бой, уже не думая о себе и мечтая лишь убивать.
Тяжкая и радостная это была победа. Из половцев уцелели единицы – те, кто прорвался-таки через пешцев или успел повернуть коней в степь до того, как сомкнулся строй конных дружин. Несколько сотен попало в плен, раненых добивали без жалости. Своих на руках сносили в обоз.
Ставр позаботился о добре Жизномира – тело дружинника унесли его соратники. Себе сотский забрал вороного жеребца и всё то, что покойник успел насобирать в разграбленном Сугрове. Неотвязно думалось о его семье – Велге и сыне. Валдису, как звала его чудинка-мать, шёл одиннадцатый год. Что ждёт отрока дальше? Пойдёт ли он в дружину на отцово место или...
Но это после! На другой день наступил праздник – Благовещение и Светлое Лазорево Воскресение. Полковые попы молились, мешая слова панихид по убиенным с благодарственными молебнами, и всем думалось, что погибшие не умерли и непременно должны воскреснуть.
Весело веселье – тяжело похмелье. Дегеев ручей впадал в речку Сальницу, и на другой день после Благовещения на её берегах заметили главные половецкие силы. Вырвавшиеся из кольца беглецы поторопили своих, и кипчаки примчались вершить месть. Русские были обложены с трёх сторон – с четвёртой пролегло русло Сальницы. Рядом, на излучине, стоял обоз. Отступать было некуда – если только не бросить обоз, оставив добро и тела павших на поругание врагу.
Русские приняли бой. Боевые кличи смешались с гнусавыми звуками труб, с хриплым ржанием лошадей и гортанными воплями. Встали насмерть те и другие. Отступивший терял честь, павший – всего-навсего жизнь.
Ставр бился зло и холодно, сцепив зубы и что-то рыча сквозь них. Он опять был в пешем строю – гарцевать на вороном жеребце Жизномира казалось кощунством. Душа погибшего друга ещё здесь, она может обидеться непочтению к его памяти.
...Не так давно, каких-то сто лет миновало, русичи устраивали на могильных курганах тризны в честь погибших. Сходились храбрые воины на поединках не ради смерти – ради славы. Не было в тех боях раненых, увечных и мёртвых – были те, кто выказал свою удаль, и те, у кого это вышло лучше других. Настали иные времена, язычество вместе с памятью предков уходит всё дальше, но и сейчас ещё пируют на свежих могилах – не из непочтения к свежему праху, а чтобы воздать умершим последние почести. И в тот понедельник после Лазорева Воскресения не у одного ратника мелькнула мысль о кровавой тризне, которую русские дружины справляли над телами своих убитых.
И мёртвые отозвались.
Никто не заметил, как это началось, – помыслы людей были обращены к битве. Но вот запрокинувшийся от удара половец вскинул глаза в небо – и закричал, от удивления пропуская второй, последний удар меча. Не сразу, сперва отбившись от наседавшего с другой стороны врага, поднял глаза и сваливший его русский ратник...
Они были там. В низких облаках реяли прозрачные тени. Витязи в островерхих шеломах и знакомых бронях рубили призрачными мечами тех, кого люди не видели, но – догадывались. Битва земная продолжалась на небесах. И, не в силах вынести этого зрелища, половцы дрогнули и побежали, спасая не жизнь, не честь – но рассудок. И многие из них попали в плен или были убиты потому, что отказывались служить онемевшие от страха руки и ноги.
Возможно, это и были ангелы – так говорили пленные русским князьям, так верили многие, так запишет летописец: «...ездят в оружии светлы и страшны и помогают...» Пусть так. Но Ставр был твёрдо уверен – в одной из теней он узнал Жизномира.