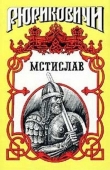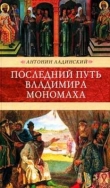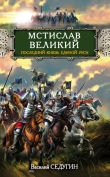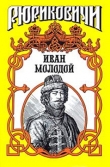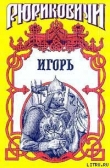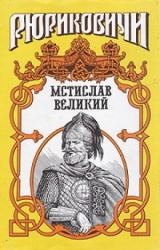
Текст книги "Мстислав Великий"
Автор книги: Галина Романова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц)
Русь в тот год жила предчувствиями перемен. На осень в Любече был назначен большой княжий снем. Впервые за долгое время собирались все князья Рюрикова дома, внуки и правнуки Ярослава Мудрого, чтобы урядиться наконец о своих делах. Собирались они по приказу и велению Владимира Всеволодича Мономаха, который жестоко страдал, видя, как другой сидит на золотом киевском столе, и мечтал о великокняжеской власти. И сейчас он поступал, как великий князь, хотя по старшинству должен был уступать не только Святополку Изяславичу, но и Давиду Святославичу Черниговскому, которому принадлежал теперь замок Любеч.
Чем больше род, чем дальше в прошлое уходит тот дед или прадед, что дал жизнь сперва сынам, потом внукам, а после и правнукам, тем слабее связи между его потомками. Ведь, коли разобраться, то у деда тоже был дед, а того – свой, у этого – свой предок-пращур и так далее до самых первых людей. Выходит, все люди – братья и сёстры. Но так провозглашается лишь на словах – на деле не только в такой дальней, по Адаму и Еве, родне нет любви – не сыщешь её порой и в тех, кого одна мать на свет родила. Четверо старших князей приходились друг другу двоюродными братьями – братанами, – с ними были их племянники-сыновья Ростиславичи. Двоюродным братом был и Давыд Игоревич Волынский. И быть бы им по роду ровней, различаясь лишь годами, но судьба распорядилась иначе.
Надменный Святослав Ярославич, пользуясь слабостью и несчастьями старшего брата Изяслава, в его отсутствие занял Киев. По лествичному праву он был прав – старшему брату наследует средний, а тому молодший, – но Изяслав-то был жив. Он вернулся, взял принадлежащий ему золотой стол и правил ещё целых два года. После чего Всеволод, младший Ярославич, провозгласил, заглядывая далеко вперёд, за свою смерть – раз Святослав нарушил ряд, объявить его изгоем и лишить его сыновей права занимать великокняжеский престол. Не зря в сказках именно младший, третий сын часто оказывается и умён, и хитёр, и удачлив, ползшая в обход старших братьев богатство и красавицу-жену в придачу. Всеволод оказался именно таким, но жизнь – не сказка, вот и пришлось ему действовать по-иному. Тем более что Бог обидел его детьми – кроме старшего Владимира, по матери носившего имя Мономах, и младшего Ростислава, не дал сыновей. Но так для Всеволода было лучше – устранить прочих родичей-соперников, и будет Владимир править Русью один, как правил Ярослав после смерти своих братьев Бориса, Глеба, Вышеслава, Святополка, Судислава, Мстислава и прочих. А Ростислав будет подручником.
Святослав Надменный умер, недолго побыв великим князем, но для его сынов путь в Киев был заказан. Они не смирились с этим. Не раз и не два приходилось Всеволоду, а после и сыну его Мономаху огнём и мечом усмирять непокорное племя. Роман и Глеб были забиты, Давид усмирён, остались двое – Олег, вырвавшийся из византийского плена и затаивший злобу на заточившего его туда Всеволода, и молодой Ярослав, коего вообще на Руси быть не должно, ибо он намного моложе любого из своих друхродных братьев-князей и переживёт их всех. Что Олег и Ярослав крепкие орешки, Владимиру пришлось узнать – по осени уже схлестнулся с ними Мстислав Мономашич, а Изяславу, второму сыну Владимира Мономаха, эта вражда со Святославичами стоила жизни.
Нерадостен потому собирался на Любечский снем Мономах. Олег не оставит своих притязаний, будет требовать доли в наследстве, но давать власть самому сильному и деятельному противнику Мономах не хотел. Олег хочет Чернигов – но не увидит его как своих ушей. Давид старший из Святославичей – вот пущай там и сидит. А Олег при нём подручником. Молодого Ярослава загнали в самый медвежий угол, к дикой мордве – там ему и место.
Так разбирался Владимир Мономах с братьями-соперниками. Но были ведь и другие.
Князья-изгои – братья Ростиславичи, Володарь да Василько и их стрый (дядя по отцу – ибо в те поры «дядька» означало «воспитатель княжича». Прим. авт.) Давыд Игоревич Волынский. Их отцы-деды умерли, не дождавшись своей очереди княжить – и потомки не видели Киева. Но затаили злобу.
Впрочем, нет. В первый же вечер, как покончили князья с беседой и разошлись по своим покоям отдыхать и ждать вечерней трапезы, к Мономаху подошёл Василько Ростиславич Теребовльский. Был он много моложе князя переяславльского, выше его ростом, стройнее и чем-то напоминал Мстислава – князь Владимир давно не видел старшего сына и скучал по нему. А вести о первом внуке – от Изяслава, второго своего сына, де гей не дождался – ещё больше волновали.
– Говорить с тобой хотел я, Владимир Всеволодич, – словно оправдываясь, сказал Василько.
– Нешто не наговорился за день? – намекнул Мономах на спор, разгоревшийся меж князьями о старшинстве и не затихавший несколько часов.
– О чём? – улыбнулся Василько. – То не такие споры. Столы делим, каждый под себя кусок побольше забрать норовим, а о главном и думы нет.
– А у тебя дума есть?
– Есть. – Молодой князь даже зарумянился, польщённый вниманием старшего. – Я на краю земли Русской сижу, в моём Подунавье кого только нет – и болгары, и торки, и берендеи, и печенеги, и греки, и своих русских хватает. Как у вас в Поднепровье. И вороги у меня под боком – с одной стороны ляхи, с другой угры. А на юг оглянешься – греки. Хоть и мир у меня с ними, а всё ж они болгар воюют, а те нам, русским людям, родня кровная. И половцы нас тоже порой тревожат...
Это было близко и понятно Мономаху – его Переяславльская земля тоже была приграничной и тоже страдала от половецких набегов. Только в прошлом году приходили, поганые!
– Подунавье может стать русским, – горячо говорил Василько, вдохновлённый вниманием, с которым слушал его Мономах. – Мы с братом Володарем крепко стоим в тех краях. А нас не станет – у меня сыны подрастают, у Володаря тоже. Будет кому меч и щит передать. Коль переселить в Подунавье болгар, отбив их у греков, сильнее станет западная окраина Руси. Оттоль мы сможем с Европой на равных разговор вести – что с уграми, что с Польшей, что с Германией. У меня, княже Владимир, замыслов много. Володарь мне помочь обещал, но хочу я и к тебе за подмогой обратиться...
Мономах улыбнулся. Не к великому князю Святополку Киевскому – к нему, Владимиру Переяславльскому, обратился Василько за помощью, советом и разрешением. Знать, сбываются мечты – удельные князья признают его силу, недолог тот день, когда и великому князю придётся уступить золотой стол. А коли взбунтуется Святополк – Ростиславичи встанут за него. Дело за малым – так удоволить Святославичей, чтоб Олегу рот заткнуть. Он сильнее Давида и Ярослава, вместе взятых.
Высчитывая свою выгоду по достижении золотого стола, Владимир Мономах упустил из вида двоих – самого Святополка Киевского и Давыда Волынского.
Святополк получил стол по праву старшинства, хоть и не все в Киеве хотели видеть великим князем именно его. Не будучи силён, как Мономах, он искупал недостаток сил и мудрости хитростью и подозрительностью и старался, чтобы его братья не смогли объединиться против него. Что же до Давыда Волынского, то по лествичному счету он сидел гораздо ниже даже Ростиславичей, ибо по закону четвёртый сын приравнивался к старшему внуку, и выходило, что Ростислав Владимирович, отец Василька и Володаря, был равен Мономаху, а оба нынешних соседа Давыда приравнивались к Мономашичам. Это ещё более отодвигало Давыда назад, а если учесть, что он и так изгой, его положение вовсе становилось незавидным.
Когда он случайно узнал, что Василько сошёлся с Мономахом – эти двое не слишком-то и таились, ведя пространные беседы о половецкой угрозе, о Подунавье, о греках и ляхах, с которыми у Василька была вражда, – едва узнал, что эти двое строят общие планы, страх и подозрение поселились в его душе.
У страха глаза велики – чего нет, и то видят. Представил Давыд, как усилятся Василько и Мономах, да как захотят ещё большей власти над Русью. Ростиславичи обратят внимание на беспокойного соседа во Владимире-Волынском, а Мономах при их поддержке... На кого?
И Давыд бросился к Святополку.
Киевский князькам жил как под дамокловым мечом усиления Мономаха и наветам поверил. Но в самый последний момент испугался и предоставил делать всю работу своему союзнику. А Давыду некуда было отступать – кроме Владимира-Волынского, терять ему было нечего. И его слуги захватили Василько и, увезя его из Киева, ослепили.
Чёрное дело свершилось на Руси. Князья погибали в битвах, заживо гнили в порубах, умирали от яда недоброхотов, становились жертвой наёмных убийц, но никогда один князь не слепил другого, своего брата, родича.
Свой человек, священник Василий, доложил Владимиру Мономаху в Переяславль о случившемся. Крепко задумался Мономах, взяла его досада и зло, но одновременно и радость. Давно хотел он власти. Больно было знать, как по великокняжеским палатам Киева, коие он уже почитал своими, быв соправителем отца, Всеволода Ярославича, как по этим палатам ходит другой – в ЕГО палатах живёт, в ЕГО сенях пирует с дружиной, в ЕГО храме молится. Больно было покоряться Святополку, называть его старшим. Мономах сам был немолод – старший сын внука родил, по прадеду назвав Всеволодом. Подрастают другие сыны и дочери. Об их судьбе заботился Владимир – и о Руси.
Жестокое дело – власть. Как и война, она оправдает любые жертвы, как и война, спишет всё – предательство, измену, страх пред лицом смерти и необоснованную жестокость. На всё идут ради власти – ради самого призрака её. У греков, родичей Мономаха по матери, в обычае было слепить соперников, лишать их мужественности, запирать в монастыри и травить ядами. Лестью, тайными интригами держалась власть в дряхлеющей Византии – чаще не сын наследовал отцу, не племянник дяде, но убийца своей жертве. Яд – оружие слабых.
Русь была ещё сильна. Князья гибли на поле брани, погибали, случалось, как Роман Святославич и Ярополк Изяславич, от рук наёмников. Ростислава, отца Василька Теребовльского, отравил грек – но то было дело рук иноземца. А чтобы свои, сами, ни с того ни с сего...
Когда отболело, когда схлынула первая волна гнева и жажды мести, уступив холодному расчёту, понял Владимир Мономах, что судьба поднесла ему щедрый дар. Святополк сиим деянием обесчестил себя. Тот, кто опускается до казни родичей, кто преступает только-только данную клятву, не может быть киевским князем. Его надо убрать. А кто, кроме Мономаха, сможет встать на его место? Он братьев не слепил, он за Русь радеет – ему и честь.
Владимир Мономах послал гонцов в Чернигов – дать знать Давиду и Олегу Святославичам. Хоть и были двухродные братья его врагами – как-никак, после Святополка второй по старшинству Давид Черниговский! Но пусть сперва помогут скинуть Святополка – а там поглядим!
Прискакал гонец и в Новгород.
Долго добирался он до Городища, где жил с семьёй Мстислав Владимирич. Горькая весть об ослеплении Василька достигла Переяславля в середине груденя-месяца, поздняя тёплая зима задержала распутицу ещё почти на седьмицу, так что лишь после Введения, почти в годовщину прошлогодней битвы на Колонке, доскакал гонец до новгородского князя.
Княгиня Христина с утра была плоха. Она лежала пластом в опочивальне, тяжко дыша и глядя мутным взором на мужа, что сидел подле. Ребёнок просился наружу, толкался изнутри в материнское чрево. Было больно. Точно так же Христина намучилась со своим первенцем и смутно надеялась, что и этот младенец окажется мальчиком.
Она пошевелилась, устраиваясь поудобнее, и тихо застонала. Мстислав, сжимавший в руке её потные горячие пальцы, встрепенулся:
– Что, Христя, болит?
Мамки подобрались ближе. Сенная холопка, взятая взамен пропавшей Велги, потянулась подать ковшик водицы – на неё зашикали.
– Ничего, – Христина улыбнулась. – Уже прошло.
Но сама знала, что нет. Боль внутри росла. Её ещё можно было терпеть, но скоро она станет невыносимой.
– Замучила я тебя, – попробовала улыбнуться. – Сидишь при мне, от дел оторван...
– Да какие дела, – отмахнулся Мстислав. Знал, что в городе и без него управятся бояре во главе с Гюрятой Роговичем и Добрыней Рагуиловичем. А коли придёт до князя нужда – так гонца пришлют. Покамест всё Городище жило родами княгини Христины.
– Всё равно. Ты поди, глянь. А вдруг...
– Да как же тебя оставлю, Христя?
– Поди, поди... – прошептала она, но голос прозвучал слабо, и Мстислав не послушался жены.
Неожиданно за дверями послышались быстрые шаги и голоса. Топали мужские сапоги, слышались отрывистые крики: «Князя! Князь где?» Мстислав выпрямился как раз в тот миг, когда дверь в опочивальню отворилась, и давешняя сенная холопка сунулась в покои:
– Князя шумят. Гонец из Перьяславля.
– От отца. – Мстислав поднялся.
Бабьим вещим чутьём – роженица стоит одной ногой в ТОМ мире, потустороннем, ей ведомо то, что не подвластно прочим, – раздувшимся чревом угадав беду, Христина встрепенулась, приподнимаясь:
– Война?
– Не ведаю, – ответил Мстислав и вышел.
Христина упала на постель и вдруг застонала, запрокидывая голову. Боль опоясала чресла. Ребёнок толкнулся в животе, просясь наружу. Он словно знал то, чему ещё предстояло свершиться, и спешил в мир, встречавший его так неласково.
Мамки повскакали, засуетились вокруг роженицы, закричали, зовя девок и повитуху, которая дремала в закутке. И в ту пору, когда Мстислав, сломав печать, вчитывался в строки короткого отцова послания, его жену уже вели в жарко натопленную мыльню – рожать.
Приказ Владимира сыну был решителен – готовить полки и ждать приказа выступать. Он был уверен, что Святополк не отдаст Киева без боя. И хотя после Любечского снема у киевского князя осталось не так уж много земли, он мог поднять половцев, с которыми был в родстве, а его союзник Давыд Игоревич – ляхов. Да и неясно, как поведут себя Святославичи, узнав, что Мономах собирается отнять Киев для себя.
...Неизвестно, когда появилась эта примета – девочки родятся к миру, а мальчики – к войне. Возможно, в этом выразилось извечное стремление русских людей жить спокойно и надежда заранее предугадать, ждать ли новой беды. Испокон веков не было на Руси самого главного – мира и покоя. Только войны и перемирия. Раны заживали только для того, чтобы освободить место для новых шрамов.
Но на этот раз обошлось. После долгих мук Христина родила дочь, названную в честь одной из жён Владимира Святославича Крестителя Мальфридой. Ожидавший сына Мстислав принял дочь, а месяц спустя пришла новая весть от отца – киевляне удержали у себя Святополка, уговорили союзников – Мономаха и Святославичей – не чинить беды и после переговоров постановили, что коль скоро Святополк Изяславич всё ещё остаётся великим князем, то ему и надлежит покарать Давыда Волынского.
3Год пролетел, как один день. Из-под Колонки Жизномир воротился с прибытком – привёл двух коней, доверху навьюченных добром от мехов, серебряных гривен и дорогого платья до всякой мелочи, подобранной чуть ли не на пожарище Суздаля. Как и все дружинники, получил от князя Мстислава плату гривнами – как десятнику, ему полагалось больше, чем простым дружинникам. Слуга Микула, пришедший с ним ещё из Курска, только головой качал и цокал языком, осматривая новых коней. Одного, мерина, продали почти сразу вместе с седлом и уздечкой, кобылу оставили.
Будучи не простого звания – сын хоть и меньшого, а всё ж боярина, – Жизномир жил отдельно, в своём небольшом тереме, где хозяйством занимался Микула и старая бабка, повариха и портомойница. Несколько лет назад она осталась одна на свете и прибилась к Жизномировому двору, чтоб не помереть с голоду. Да и при молодом удачливом дружиннике веселее.
Не так весело было Жизномиру. Был он молод, в жилах играла кровь, а дом был пуст. Привезти бы жену – она враз и терем приберёт, и мужа обласкает.
О Милуше, оставленной в безымянной деревушке на высоком клязьминском берегу, Жизномир не думал. Ему ли, княжьему дружиннику и боярскому сыну, брать за себя деревенскую девку? Милуша была случайной утехой, не более. И, вспоминая её, думал дружинник не о том, что девушка ждёт его и печалится, а о тех ласках, которые она ему дарила.
Поторопила его бабка Клуха. Подавая как-то дружиннику щи, она разворчалась:
– Тяжеленько мне, старой, одной-то. Хоть бы девку какую ни есть завёл!
– Да на что девку-то? – Жизномир ломал хлеб, принимаясь за еду. Щи у бабки получились наваристые, с салом.
– Она и в избе приберёт, и рубашку тебе вышьет, и двор выметет. Да и мне, старой, подмога.
Давно уж поварчивала старая Клуха, что тяжело ей одной – хоть хозяйство невелико, да болит спина, не держат ноги, слабеют руки, не те глаза, и хворобы одолевают. Жизномир привык слушать её воркотню, но тут задумался.
На юге, на Волыни и в Червонной Руси, жизнь шла своим чередом. После того как на него ополчился весь мир, Давыд Игоревич Волынский вернул свободу Васильку Ростиславичу. Брат Василька Володарь Перемышленский забрал брата, и Ростиславичи напали на волость своего обидчика. Им даже удалось осадить Владимир-Волынский и заставить Давыда выдать двоих своих бояр – Лазаря и Василя, которые следили за князем Теребовля на Любечском снеме и косвенно были виновны в его пленении. Святоша Давидич, сын Давида Святославича Черниговского, взял у Давыда Волынского Луцк. В разгар зимы сел на коня и Святополк Киевский, решившись наконец покарать врага Русской земли. Давыд Игоревич оставил город и уехал в Польшу – просить помощи у старого князя Владислава Германа.
В Польше были свои распри. Владислав старел, но подрастали его сыновья – законный Болеслав и незаконный Збигнев. Король краковский заранее поделил между ними волость, но братья росли соперниками. Ни один не желал уступить другому, ибо за каждым шли воеводы и можновладцы. Польша разваливалась – умрёт Владислав, и разгорится пожар войны. Каждый воин был у ляхов на счету, да и сестра Святополка Евдокия была женой Владиславова родственника, князя Мешко. Потому Владислав не пошёл против великого князя – получив от Давыда Волынского дары, он обещался примирить его со Святополком, но слова не сдержал. «Не слушает меня Святополк», – отговорился хитрый Герман, успевший обеспечить любимому сыну Болеславу поддержку в лице Киева. Брошенный союзниками, Давыд убрался восвояси, а его город Владимир-Волынский Святополк забрал себе.
Но Давыд ушёл не далеко. Напрасно прождав помощи от ляхов, он отправился в Червонную Русь, к братьям Ростиславичам, и сумел убедить недавних врагов, что князь Святополк их общий недруг и ради спасения собственной жизни надо объединиться. Ростиславичи поверили – и была битва на Рожнеяполе. И был разбит в этой битве Святополк, и бежал с поля боя, отправив сыновей одного – в Венгрию, собирать войска, а другого – во Владимир-Волынский. И снова была распря на Руси. Снова лилась кровь...
Новгород был далеко, он жил своей жизнью. Новгородцы торговали со всей Русью и Европой, их ладьи ходили от Белого моря и моря Шведского вдоль балтийского берега к Дании, Арконе, Нормандии и Англии. Видели полосатые новгородские паруса в Средиземном море и в Византии. Лен, воск, меха шли из Руси. Дорогие ткани, благовония, стекло привозили новгородские и иноземные купцы. В Бирке и Хедебю, Лондоне и Щетине встречали русских купцов. Оборотистым, не всякого считавшим ровней себе новгородским купцам и боярам-вотчинникам, которые копили на своих землях добро, всюду была дорога. Им не было дела до войн Южной Руси. Усобицы на Волыни не могли перекрыть старинного пути «из варяг в греки». Под охраной дружинников ладьи спускались волоком до Днепра, там шли мимо Чернигова и Киева до Олешья и выходили в Русское море. Не было пути на юг – шли на восток, торговали с волжскими булгарами, крепили связи с Ростовом, Суздалем и Ярославлем. Только с Полоцкими землями не было у Новгорода мира. Не вражда, а так – старая неприязнь. Но не народ в том виновен, – как всегда, ответ держать князьям.
Вскоре подоспела весна. Всю зиму Новгород жил ожиданием войны – то со Святополком Киевским, то с Давыдом Волынским. Наконец пришла весть – Святополк идёт на Давыда. Собирает полки, а покамест выслал вперёд Святошу Давидича, старшего сына Давида Святославича Черниговского, чтобы тот повоевал себе волость Давыда Игоревича и стал там князем. Война отодвигалась. Дружинники успокаивались. Кто женат – заводили детишек. Кто холостой – поглядывали на молодых девок.
Жизномир достал из кубышки гривны и велел Микуле купить девку. Несколько дней не было слуги. Жизномир уже хотел было кричать на торгу о побеге Микулы – с конём да серебром тот мог захотеть вольной жизни, – как вдруг тот воротился. Да не один – за спиной его, на крупе кобылы, сидела, сжавшись в комок, девушка.
Жизномир только-только приехал от княжьего подворья и, уперев руки в бока, рассматривал заробевшую холопку. Среднего роста, белоголовая, она ликом была явно чудинкой. Линялая рубаха с пятнами по подолу, передник, тонкий поясок и короткая накидка – вот и всё. В руках у неё не было даже узелка.
– Откуда ты её привёз?
– Из Плескова-города, боярин. – Микула сдёрнул шапку.
– Из Плескова? – хмыкнул Жизномир. – Что ж, ближе девок не сыскалось?
– Да как поглядеть! О твоём добре радею! Дёшево досталась – десять кун скинул на торгу.
Девушка подняла голову – медленно, словно не зная, разрешено ли ей смотреть по сторонам. Из-под простого берестяного венчика, низко надвинутого на брови, на Жизномира глянули синие испуганные глаза. В них не было ни тени любопытства – только вопрос: «Ты? Теперь – ты мой хозяин?» И ещё был страх.
– У кого взял? – спросил Жизномир.
– Купца Ольстина товар. У него и тута усадьба, возле Волховского моста третья по проулку. Я сперва туды торкнулся, а меня заворотили – мол, в Плесковской-то усадьбе у Ольстина Садковича товар получше будет. Хороша?
Жизномир подошёл ближе. По тому, как вздрогнула девушка, когда он взял её пальцами за подбородок, было видно – многие хватали её последнее время.
– Хороша. Как звать тебя?
– В-Велгой.
– Добро. Клуха! – Жизномир кивнул выползшей на крик старухе: – Вот тебе помощница.
Девушка стремительно обернулась, с тревогой и любопытством глядя на старуху. Та прищурила подслеповатые глаза, окинула взглядом новенькую.
– Вот радость-то, господине! Уважил старуху! – покачала она головой. – Ну, чего стоишь? Пошли, покажу наше хозяйство!
Хозяйство у Жизномира было небольшим, но с отвычки Велга забегалась и не чуяла под собой ног. И постирать, и прибраться, и сготовить – Клуха, радуясь на помощницу, всё больше указывала и сидела, сложа руки, у печки. Дружинника дома не было – отправился по делам на княжье подворье, и его немногочисленная дворня отдыхала.
Велга только пристроилась на лавке возле печки и задремала, как услышала шорох. Скрипнула дверь, впуская тёмную тень. Клуха уже спала на печи – старики рано ложатся спать. Недоумевая, Велга пошевелилась, приподнимаясь на локте.
– Девка? – послышался хриплый шёпот, и тёмная тень двинулась от двери к печи. – Ты где, девка?
Велга узнала Микулу. Всю дорогу от Плескова он посматривал на неё, как кот на сметану. Велга догадывалась о значении этих взглядов. Ей не по нраву был Микула, летами почти годящийся ей в отцы, и она сжалась в комок на лавке.
– Спишь, что ли? – Микула слепо шарил руками, продвигаясь в её сторону. В людской было тесновато – широкая печь, где пекли хлеб и варили щи, две лавки, рундук для припасов, стол – вдвоём еле развернуться» Велга отодвинулась на лавке дальше в угол, почти под иконы, но Микула угадал её движение по шороху сорочки.
– Вот ты где затаилась, ягодка, – прошептал он, придвигаясь ближе. – Тише ты, тише! Клуху разбудишь!
Микула уже норовил устроиться на лавке и попутно елозил руками по Велгиным ногам, забираясь под подол. Девушка молча отбивалась.
– А не то на сеновал пойдём. – Микула принялся стаскивать её с лавки. – Там тепло. Шубой накроемся – не замёрзнем, чай!.. Ну, пошли?
– Уйди! – прошептала Велга.
На печи заворочалась Клуха. Микула замер, но старуха не подала голоса, и он снова полез. В темноте его рука залезла под подол, скользнула по судорожно сжатым бёдрам. Велга не выдержала – закричала, с силой отпихнула Микулу и, задевая лавку и стол, выдираясь из цепких пальцев, вырвалась на двор.
Куда было бежать? На затихающие ввечеру новгородские улицы? Куда глаза глядят, чтоб искали её, как беглую? Велга заметалась.
За спиной скрипнула дверь – на двор выскочил Микула. Услышав его голос, Велга ринулась со двора – и едва не попала под копыта коня.
Жизномир ворочался с пира, который князь Мстислав давал для своей дружины в честь приезда в Новгород матери. Был он хмелен, ехал, доверясь чутью коня, тот остановился, когда на него налетела девка. От толчка задремавший было в седле дружинник пробудился. Впотьмах он не узнал Велгу.
– Ты кто такая? Откуль взялась?
Не ведая, что сказать, Велга только отпрянула, слабо махнув рукой – мол, оттуда. Жизномир понял по-своему.
– Поди, – только и сказал он, заворачивая в ворота.
Тут к нему кинулся Микула. Он поспешно растворил створку, подхватил жеребца под уздцы и зашипел на Велгу:
– Пошла в терем, дура! Живо! Боярин приехал!
Жизномир грузно сполз с седла, предоставив Микуле заниматься конём, и, чуть пошатываясь, направился к крыльцу. Велга держалась в стороне, радуясь, что опасность миновала, но дружинник поманил её:
– Подь сюда. Ты кто?
– В-Велга. В Плескове меня... купил слуга твой.
– A-а... Поди. Поможешь мне.
Девушка подставила плечо. Опираясь на неё и другой рукой хватаясь за перильца, Жизномир взошёл в терем. Пока Велга готовила постель, он сидел на лавке, слегка покачиваясь. Потом развалился на постели:
– Сапоги сыми.
Она послушно встала на колени. Жизномир посмотрел на её макушку, потом положил ей на волосы тяжёлую ладонь. Девушка испуганно подняла глаза. В темноте на бледном лице они выделялись тёмными провалами, на дне которых мерцали искорки, как отражение звёздочек в колодце.
– Иди ко мне.
Велга не тронулась с места, и тогда он сам подтянул её к себе. Сперва ей захотелось вырваться и убежать, но холопка должна быть послушной хозяину. Да и на дворе – Микула. А княжий дружинник был всё же молод. И она только крепко зажмурилась, когда пахнущие хмелем губы прижались к её губам.