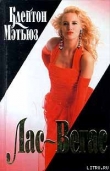Текст книги "Книга сияния"
Автор книги: Френсис Шервуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
– Новогодние фейерверки! – воскликнул он.
Со своей кровати император видел, как небо наполняют взрывы ракет. Там появились громадные полосы и фонтаны, ярко‑алые и красновато‑коричневые, бледно‑зеленые, темно‑багряные и цвета королевского пурпура. Наконец, золотые и такие сверкающие, что самим звездам был брошен вызов.
– Смотри, Киракос.
Но добрый доктор уже успел низко поклониться и, пятясь, покинуть опочивальню. Теперь он стремительно направлялся по коридору, а его плащ вздымался позади, точно крылья огромного ангела.
5
Если не считать периодического сожжения книг, частого поднятия налогов, угроз изгнания, репрессивных ограничений, а также требования носить одежду с желтыми кружками, чтобы никто не перепутал иудея с христианином, последние пятьдесят лет евреи Юденштадта прожили в относительной безопасности. Однако недавно кое‑что произошло, и это событие обещало перемены. Не все в Юденштадте о нем знали. Но раввин, разумеется, знал, и его жена Перл. И мэра Майзеля, как главное гражданское лицо Юденштадта, тоже оповестили. И в силу обстоятельств причастной к этому оказалась бабушка Рохели – ибо как раз Рохель и наткнулась на страшную находку.
В тот год, одна тысяча шестисотый, который стал для бабушки Рохели последним, за несколько дней до Песах, еврейской пасхи[26] – в ту самую пору, когда дома убирались сверху донизу, стиралось все белье и возрождалась надежда, – Рохель выбралась за стены Юденштадта, чтобы покормить птичек хлебными крошками. Вообще‑то, бабушка не одобряла такое занятие, ибо крошки следовало скатать, использовать для прикорма рыбы, или добавить в соус для большей его густоты, или осыпать ими кугель, растолочь в порошок и обжарить, или смешать с изюмом и запечь. В самом крайнем случае, можно было слизнуть крошки с пальцев, увлажненных слюной. Но к светлому празднику Песах в доме не должно оставаться ни малейших следов дрожжевого хлеба.[27] Более того, Рохели следовало сжечь крошки, а не рассыпать их. Так гласил Закон.
На пасхальный седер Рохель и ее бабушка были, как обычно, приглашены в гости семьей раввина. Рохель обожала эту радостную трапезу. В особенности ей нравилось то, что каждое блюдо непременно что‑то значило. Например, маца – пресный хлеб – пекся не более восемнадцати минут в знак того, как быстро израильтяне пекли хлеб перед бегством из рабства фараона. А карпас – зелень, которую обмакнули в соль и выложили на блюде, – олицетворяла наступающую весну. Хрен указывал на горечь рабства, тогда как чаросет, смесь фруктов, вина и орехов, напоминал о кирпичах, которые израильтяне должны были делать для фараона. Голенная кость ягненка как бы демонстрировала то, что израильтяне ели в Египте, жареное яйцо являло собой знак древней жертвы, яйцо, сваренное вкрутую, служило напоминанием о новой жизни, а соленая вода символизировала слезы рабства. Когда все рассаживались и были готовы, самому младшему из детей следовало задать четыре вопроса, и первым из них такой: «Чем этот вечер отличается от других вечеров?» Сам воздух казался другим в вечер Песах, он словно становился легче. Хотя на следующее утро как будто ничего не менялось, Рохель с легкостью могла себе представить, как увязывает свои пожитки, готовясь сбежать из рабства на свободу. А когда дверь во время церемонии раскрывали, чтобы пригласить в дом пророка Элию, по спине у Рохели всегда пробегали мурашки. Не то чтобы она верила, что в дом входит чей‑то невидимый дух. Скорее она верила, что в этот момент мир может стать иным, полным любви.
И вот, в год тысяча шестисотый, кормя крошками птичек у задних ворот Юденштадта и сама совершая почти птичьи движения – растопырив локти как крылья и семеня по небольшому кружку – Рохель вдруг что‑то заметила в стене. Что‑то розовое, торчащее наружу из дыры, куда Вацлав, друг детства Рохели, клал всякие угощения и клочки ткани для игр. Подойдя поближе, Рохель подумала, что из дыры торчит кукла, сработанная искусным мастером‑кукольником, – так это было похожа на живого младенца. Каждая складка плоти была как настоящая, меж пухлых ножек виднелась мошонка и необрезанный мужской орган. Когда девушка вплотную туда подкралась, она заметила, что крошечные кулачки малыша сжаты у него перед лицом словно бы для защиты, трогательные пальчики ног согнуты, глаза плотно зажмурены, рот закрыт – словно мальчик сдерживал возмущенный крик.
«Боже милостивый», – выдохнула Рохель. Это был настоящий ребенок – мертвый. Несколько секунд она не могла двинуться с места, ибо решила, что Ха‑шем наказывает ее за то, что она не сожгла крошки. Но потом ее ноги сами пришли в движение… и Рохель во весь дух побежала к бабушке.
Бабушке хватило одного взгляда на мертвого младенца, после чего она вся побледнела и велела Рохели как можно скорее привести туда раввина.
Раввин, за которым следовали его жена и мэр Майзель, прибыл на место, задыхаясь от бега.
Мэр вытащил младенца из дыры в стене, приложил ухо к его рту и груди, затем взглянул на раввина.
– Он уже довольно давно мертв, – объявил Майзель.
С предельной осторожностью, словно дитя было все еще живо, раввин взял его у Майзеля, завернул в передник Перл и стал баюкать у себя на груди.
– Как он умер? Почему его не похоронили? Чей это ребенок? – ум Рохели был в полном смятении. – Что вы собираетесь с ним делать? Где его мать? Достиг ли он того возраста, когда его можно было обрезать?
– Уведите ее, – приказал раввин. – Уведите отсюда эту девушку.
– Иди домой, Рохель, это не твое дело, – сказала ей бабушка.
Низко опустив голову, Рохель послушно скользнула в ворота. Однако вместо того, чтобы, как хорошая девушка, вернуться домой, она прокралась вдоль стены и встала там, где ей было слышно каждое слово об этом странном и ужасном событии.
– Кажется, я догадываюсь, чьих это рук дело, – сказал мэр Майзель. – Ребенок, скорее всего, был оставлен на пороге его церкви отчаявшейся матерью.
– Незамужней, – добавила Перл.
– Насчет матери нам ничего не известно, – сурово упрекнул ее раввин. – Так что лучше помолчи.
Рохель затаила дыхание.
– Отец Тадеуш – человек хитроумный… – мэр Майзель всегда взвешивал свои слова, но теперь просто не смог сдержаться и не затронуть эту тему.
– Хитроумный и дьявольски подлый. Как мы вернем ребенка ему на порог? – спросила Перл.
– Перл, веди себя прилично.
– Он нехороший человек, Йегуда, недобрый.
– Значит, и мы должны быть такими же, дорогая жена?
– Карел, старьевщик, – предложил мэр Майзель. – Он нам поможет.
Рохель слышала, что Майзель и сам в свое время был старьевщиком, сам собирал и продавал подержанную одежду. А теперь они с бабушкой шили ему прекрасные наряды, в которых он появлялся при дворе, – черные бархатные камзолы с шелковой оторочкой и пуговицами из черного дерева и слоновой кости, пышные черные штаны, не доходившие до колен, гофрированные воротники и манжеты из белого полотна, чулки из шелка столь тонкого, что они казались второй кожей.
– Не корите меня за откровенность. И, между прочим, учитывая все обстоятельства, сейчас лучше быть откровенным. Возможно, этот ребенок – один из байстрюков императора, – Перл, как всегда, не страшилась мужниных упреков. – Этот город кишит детьми, проклятыми его кровью.
Рохель всегда представляла себе императора сидящим на троне, со скипетром и державой в руках, приказывающим своим слугам делать то и се. «Подать мне шлепанцы!» Отрубить ему голову.
– Значит, байстрюк императора? Так, Перл, ты говоришь…
– Напротив, Йегуда. – Майзель понизил тон, так что Рохель едва сумела его расслышать. – Меньше шумихи, будь он от императора. Итак, для начала нам нужно, чтобы Карел доставил ребенка на порог отца Тадеуша, откуда его сюда принесли. Затем нам нужно, чтобы его заприметил другой свидетель, а не злонамеренный священник. Лучше всего – кто‑нибудь из замка, чтобы эту историю не вывернули наизнанку и не обвинили во всем нас. Мы должны быть так же хитроумны в исправлении несправедливости, как Тадеуш – в своем подлоге. Хотя, как ни прискорбно, ребенок уже мертв, и мы ему ничем не поможем, что бы ни делали.
– Быть может, он не от императора, а от священника, – вслух размышляла Перл.
– Перл, одумайся, – предупредил ее раввин.
Рохель раньше никогда не слышала об этом священнике. Тадеуш? Отец Тадеуш?
– Кто бы ни был отцом или матерью этого невинного существа, его смерть суть комментарий на предмет состояния нашего мира, друзья мои, – сказал Майзель, – и вину попытались приписать нам. Если бы, оставленный на пороге церкви, ребенок выжил, его взяли бы внутрь, сделали христианским приверженцем, монахом, священником. Или – кто знает? – просто хорошим человеком. Но будучи мертвым, он может навлечь на нас беду и служит целям тех, кто желает причинить нам зло – настоящее зло.
– Но зачем отцу Тадеушу желать нам зла? – спросила Перл.
– Ввиду разочарования, которое происходит из его непомерного честолюбия, – таково мое предположение, – задумчиво проговорил мэр Майзель. – Лишенный большей власти, он распоряжается малой, которую имеет над самыми беззащитными, охотно получает поддержку от других недовольных. Несомненно, легче нападать на тех, кто еще не удостоился высокого пиетета. И, как все мы знаем, он в высшей степени завидует нашему почтенному раввину.
– Бога ради, почему кто‑то должен мне завидовать?
– Вас, рабби, почитают за мудрость и добродетель, – сказал Майзель. – И за победы в дискуссиях.
Рохель знала, что раввин временами покидал Юденштадт как бы от имени их всех; действительно, он писал книги, а порой устраивал беседы в христианских местах, не говоря уж о том теплом приеме, которым его удостаивали в синагогах по всей Богемии и Моравии, по всей Польше и всем немецким землям.
– Вацлав, – вмешалась Перл. – Ребенка должен найти Вацлав.
У Рохели захолонуло сердце. Если бы она стояла рядом с ними, а не подслушивала из‑за стены, она бы тут же воскликнула: «Нет, только не он!»
– Он сам байстрюк королевской крови. Вацлав станет логичным выбором, Йегуда.
– Перл, пожалуйста, держи себя в руках. Откуда ты взяла, что он незаконнорожденный?.. Ладно, даже если это и так, Вацлав – не самый разумный выбор…
– Об этом все знают, Йегуда. Кроме него самого.
– Итак, мы обратимся за помощью к Карелу. Он будет совершать свой вечерний объезд, и мы подбросим ребенка обратно. Чуть позже Вацлав, который будет сидеть рядом с Карелом, увидит ребенка и спросит: «А это еще что?» «Я бы сказал, что это, как пить дать, ребенок», – ответит Карел… – вот что сказала бабушка Рохели, до той поры молчавшая. – Вацлав спрыгнет с телеги Карела, постучит в дверь священника. «Кого там еще принесло?» – спросит тот…
– Старый пьяница непременно приковыляет, раздраженный вмешательством в его искупление грехов.
– Отпущение, Перл, – поправил Майзель.
– Может статься, и то и другое, – заключил раввин.
Пока собравшиеся у стены заговорщики тепло прощались друг с другом, Рохель бросилась назад по проулку, а у входа в Юденштадт побежала вдвое быстрее, большими прыжками миновала могильные плиты кладбища, толкнула дверь комнаты, нырнула в постель, поскорее натянула на голову одеяло и громко засопела.
– Я знаю, что ты не спишь, – сказала бабушка, входя в комнату. – Тебе меня не одурачить, фройляйн Рохель.
Рохель высунула голову наружу:
– Зачем кому‑то нужно нас оговаривать, бабушка? Врать про нас?
– Эх, Рохель, Рохель… – бабушка тяжело опустилась на край своей кровати. – Мы другие – только и всего.
Рохель знала, что они другие. Знала, как к этому относиться. Но когда она смотрела на маленьких птичек, их различия были сущей радостью, а многоцветие нитей, которые она использовала при работе, рождало красоту. Ярко‑оранжевое солнце, бледная луна, синяя вода наделяли день и ночь смыслом. В глубине своего сердца Рохель тосковала по еще большему множеству различий, никак не иначе.
– Но, бабушка… положить мертвого младенца в нашу стену вместо того, чтобы как следует его похоронить…
– Ах, моя дорогая…
Глубоко вздохнув, бабушка с видимой неохотой объяснила Рохели, что среди тех, кто ненавидел евреев, вполне обычным делом было навлекать на них дурную славу и позор, подкладывая недавно умерших детей в стены еврейского квартала, с тем чтобы евреев можно было потом обвинить в убийстве. Какой бы возмутительной ни казалась подобная мысль, продолжала бабушка, хуже было другое. Считалось, что евреи – которые не вкушают даже крови животных – убивают христианских младенцев и используют их кровь для приготовления пасхальной мацы.
Рохель с трудом могла в это поверить. Правда, она слишком хорошо знала, что родная деревня ее матери была жестоко сожжена дотла без всякой на то причины.
– Карел никогда не стал бы такого делать. И мастер Гальяно нам помогает.
– Верно. Нет дурной и доброй веры, есть дурные и добрые люди.
– Правда, бабушка?
– Да, Рохель. Есть и те, кто введен в заблуждение, но о них лучше не говорить.
Тут бабушка приложила палец к губам, предостерегая свою внучку от того, чтобы говорить дурно о ком бы то ни было, лгать или еще каким‑то образом вести себя нечестно. Понимая, что не может до конца доверять своим побуждениям (ибо разве она только что не нарушила одну из заповедей, кормя крошками птичек?), Рохель решила отныне всегда быть хорошей. Если по правде, она каждый день молилась о том, чтобы найти силы соблюдать мицвот.[28] И теперь принялась оплакивать собственную слабость, несчастное мертвое дитя и весь огромный мир, который казался ей полным зла.
Гладя лицо и волосы Рохели, стараясь утешить ее и отвлечь, бабушка рассказала ей историю о царе Шломо и царице Савской. В свое время царь Шломо проявил доброту к одной пчеле, спас ей жизнь. А затем, когда царица Савская прибыла к нему в гости, она решила одурачить царя Шломо, своего друга, устроить все так, чтобы он не смог различить настоящие и искусственные цветы, которые смастерил ее умелец. Тогда Шломо, которого вообще нельзя было одурачить, призвал на помощь свою подружку‑пчелу. Та стала кружиться над настоящими цветами и тем самым спасла честь царя. Рохель засмеялась. Еще бабушка рассказала историю о повивальной бабке, которая сделала подмену – подложила здорового новорожденного мальчика женщине, которая еще не родила ни одного живого ребенка, а умирающего – женщине, у которой было много сильных, крепких детей. Затем тот сын, что стал единственным ребенком, полюбил девушку из той самой многочисленной семьи. Только на свадебной церемонии, когда был вызван дух повитухи, все выяснили, что жених и невеста – родные брат и сестра. Церемонию проводил рабби Ливо, и в пределах его могущества, его душевной благости оказалась способность заподозрить неладное и призвать повитуху из царства мертвых, чтобы та поведала правду.
Пока бабушка убаюкивала Рохель рассказами о великодушных ошибках и благонамеренных обманах, на другом конце Праги, в Нове месте,[29] отец Тадеуш дремал в своем любимом кабинете – душном, с багряными окнами и решетками из темного дерева. Густо‑красное сияние заливало кабинет подобно румянцу стыда, крови или сливовице. На резной кафедре лежало Евангелие в мягчайшем переплете из телячьей кожи. Богатые распятия, усеянные рубинами из Испании и Португалии, свидетельствовали о власти и славе Высшей Церкви. Еще молодым семинаристом Тадеуш учился в Риме, после чего получил привилегию служить в Испании, где стал свидетелем множества публичных сожжений. В тех богобоязненных странах всегда знали, как следует обращаться с еретиками и неверующими – вот о чем говорил отец Тадеуш перед богемской паствой на ломаном немецком языке. Поначалу время от времени он втайне лелеял надежды о занятии поста среди служителей святой инквизиции. Увы, все эти надежды оказались тщетными. Ибо, выполняя работу Бога на земле, бескорыстно сознавая о проходящих годах, Тадеуш через какое‑то время вдруг обнаружил, что стал стар и непоправимо испорчен вином. Тогда вместо повышения его направили сюда, в тихую заводь Восточной Европы. Здесь ему приходилось отправлять обряды для жителей города, где протестанты запросто могли практиковать свои богохульные службы (на взгляд Тадеуша, это вообще нельзя было считать службами), а евреи свободно разгуливали по улице, защищенные императорским законом. Подобное безобразие, опять же на взгляд благочестивого священника, длилось уже слишком долго, а на уме у нынешнего императора, Рудольфа II, к великому сожалению, были совсем другие вещи. Более того, от настоятельных призывов обеспокоенного отца Тадеуша отмахивалось даже его братья‑священнослужители. Впрочем, он тоже не слишком высоко их ставил. Монахини держали у себя в качестве домашних любимцев собак и гепардов, дрессировали в своих монастырях всяких тропических птиц. Тадеуш знал священников и монахов, которые, судя по всему, принимали обет безбрачия за клятву, которую следовало нарушать еженедельно, если не ежедневно.
– Эй, Марта, кого там еще принесло? – крикнул отец Тадеуш своей экономке.
– Это Вацлав из замка, отец Тадеуш. Он нашел мертвого ребенка у вас на пороге, прямо у ног Скорбящей Девы Марии.
– Еврейский байстрюк, как пить дать. Не наш.
– Он не обрезан! – крикнул Вацлав. – И ему больше десяти дней от роду.
– Ах, грехи наши тяжкие…
Отец Тадеуш, еще толком не очнувшись от дремоты, вяло поплелся вперед. Когда же он увидел, что это тот самый проклятый ребенок, которого он, обнаружив его живым у себя на пороге, сунул в дыру в стене Юденштадта… Ярости отца Тадеуша не было предела. Он понятия не имел, был ли этот ребенок крещен. Скорее всего, нет – а это означало погребение на Чумном кладбище за городскими воротами, рядом со свалкой, даже без креста, чтобы отметить место захоронения. Тадеуш терпеть не мог туда ходить – там омерзительно воняло гнильем и нечистотами. А дети, что шныряют там по грудам мусора подобно голодным крысам, расталкивая друг друга, дерутся из‑за этих отбросов… что могло быть отвратительней? Что же до этих евреев… не тем, так иным способом, но он непременно до них доберется. И не только из верности принципам. Просто Тадеуш их ненавидел. Эти тесные улочки, в которых они живут, эти пейсы, что болтаются у них над ушами точно свиные хвосты, эти гнусные кипы, вечный запах чеснока… Они все до единого иуды, их следует подвергнуть остракизму, вышвырнуть из славной Праги, чтобы и следа от них не осталось… На меньшее Тадеуш не соглашался. И добиться этого – его святая обязанность.
Часть II
6
Когда Вацлаву было десять лет от роду и он еще не работал на кондитерской кухне в замке под боком у своей матушки, все Прага была ему площадкой для игр. Все то новое, на что натыкался Вацлав, казалось ему сразу и странным, и чудесным. К примеру, свиновод, что продавал щетину для щеток и кистей; проститутки, чьи нижние юбки были красными, как петушиные гребни; монахи, марширующие гуськом; крестьяне из окрестных деревень, толкающие перед собой тачки, полные репы и капусты; гребные рыбацкие шлюпки, загадочным образом плавающие в середине реки подобно птицам в небесах; попугаи из Нового Света с кривыми клювами и ярко‑зелеными перьями… А потом Вацлав прошел в высокие ворота с шестиконечной звездой и увидел перед собой длиннобородых мужчин с крошечными шапочками на макушках, с бахромой, которая непонятно зачем болталась у пояса, а на груди у каждого был пришит желтый кружок. Но для него все это было просто еще одним удивительным приключением в любимом городе, и он ничуть не испугался. Зато женщины в этом квартале решительно ничем не пахли – в отличие от его матушки, которая купалась только в сочельник и утром в Пасху. И хотя дома здесь стояли почти вплотную друг к другу, в узких проулках совсем не было ни мусора, ни экскрементов. Не было свиней, поедающих гнилые овощи, не было коз, которые копались в грудах отбросов, или собак, таскающих в зубах внутренности забитых животных.
Но где здесь дети? Болтаясь вокруг Староместской площади, Вацлав завел себе друзей среди оборванцев, что жили в жалких лачугах у городской свалки. Эти ребята работали со своими родителями на рынке, умели ходить по веревке, натянутой меж двух приставных лестниц, или делать сальто за крону‑другую. Они чистили отхожие места, завязав рот куском тряпицы, а глаза – тонким полотном, чтобы защититься от мух. Они таскали воду из реки или колодцев, подвесив на коромысло два ведра, и их тощие плечи чудом не ломались под тяжестью. Они собирали хворост в огромные вязанки и таскали его на спине. Или пасли овец.
Но в этом квартале за воротами дети, должно быть, ходили в школу. Ибо из большого здания, перед которым стоял Вацлав, доносился стройный хор юных голосов. «Барух ата Адонай»… какой‑то странный язык, которого Вацлав не понимал. Но затем он услышал еще один тоненький голосок. Голосок напевал «Майне либхен», немецкую колыбельную, и звучал откуда‑то из‑за толстых стен, окружающих квартал. Выглянув в задние ворота, Вацлав увидел под раскидистым деревом маленькую девочку лет восьми‑девяти. Глаза ее были словно ягоды терновника, а волосы – желтыми, как начинка для пирогов, которые его матушка готовила из заморского фрукта под названием лимон. Девочка сооружала город из глины, кукол из прутиков, а поскольку Вацлав побывал во множестве мест, где она не бывала, он решил ей кое‑что посоветовать. В императорских кухнях полно печей, рассказал девочке Вацлав, пока они вместе прокапывали канаву к реке Влтаве от холма, на котором высились зубчатые стены, окружавшие замок. В Вышеградском замке есть кладбище – это была тоже очень ценная информация. Вацлав сам соорудил кресты из соломинок и выстроил их рядами. «Чтобы они могли попасть на небеса», – пояснил он.
– Рохель, где ты, что ты там делаешь?
В воротах показалась старая женщина с усталым лицом. Старушка была совсем сморщенной, у нее, как у Матти, дряхлой бабушки Вацлава, тряслись руки.
– Кто это? – она взглянула на Вацлава, затем уставилась на сделанные им соломенные крестики. – Что это я перед собой вижу?
– Бабуля, это чтобы мертвые люди могли попасть на небеса, – объяснила Рохель.
Старая женщина приложила руку к груди и снова потрясение и испуганно поглядела на Вацлава.
– Кто ты такой? Что тебе у нас нужно? Иди отсюда. Иди домой, – она замахала на него руками, словно отгоняя надоедливую муху. – Тебе нельзя сюда приходить, слышишь? Больше никогда не приходи, тебе здесь делать нечего.
Она схватила Рохель за руку, резко подняла ее с земли, но прежде чем девочку утащили за стены Юденштадта, она успела оглянуться и заговорщицки подмигнуть Вацлаву.
Вот так, за спиной ее бабушки, они с Рохелью играли – целыми днями, все лето напролет. А ранним утром Вацлав оставлял для нее всякие подарки, пряча их в дыру в стене, где недоставало кирпичей. Яблочко. Ломтик мягкого хлеба. Мешочек жареных каштанов. Помимо еды, Вацлаву удавалось раздобывать клочки шелка и тесьмы, крошечные перья, хлопковую набивку, пуговки и петельки, блестки и клей, кусочки дерева и осколки фаянсовой посуды, гладкие камешки – все, что могло понадобиться для строительства. Мало‑помалу замок Рохели, прежде составлявший лишь одну из частей глиняного городка, сделался главным сооружением и благодаря инструкциям Вацлава превратился в почти точную копию настоящего. Там были императорские покои, кунсткамера, конюшни, львиная клетка, зоопарк, сады цветочные и фруктовые, внутренние дворы, Золотая улочка, где работали алхимики. Куклы из прутиков тоже представляли собой копии членов королевской семьи – самого императора, его дамы Анны Марии, а также всех их незаконнорожденных детей, включая дона Юлия Цезаря. Скверный мальчик, он приходил на императорскую кухню варить живых лягушек, связывал хвосты кошкам и мучил самого Вацлава – награждал его тычками под ребра, выкручивал ему руки, после чего они ужасно болели, и со всей силы пинал его по икрам.
Рохель сделала дону Юлию Цезарю глаза из крошечных яблочных семечек, нос картошкой из красной яблочной кожуры, рот с опущенными уголками из тонкого стебелька и уши из черного бархата – большие, как у летучей мыши. Для грубых и жестких волос зловредного дона Вацлав раздобыл обрезки конского хвоста, и они так торчали из круглой головы Юлия Цезаря, словно того до смерти напугало некое жуткое видение. Вдобавок туловище, а также руки и ноги куклы, похожие на сосиски, набили сосновыми иголками, которые кололи ее изнутри. Порой Вацлав душил игрушечного негодяя или хватал его за ногу, раскручивал и ударял о дерево. Рохель, в порядке содействия, туго завязывала узел на плаще дона, перетягивая ему шею. «Простите, простите, пожалуйста», – умолял за него Вацлав. Или Рохель всаживала костяную иглу Юлию Цезарю в живот, пригвождая его к мягкой земле у основания дерева. Однажды они подпалили ему пятки свечой, принесенной Рохелью из дома. Дети завороженно смотрели, как горящие пальцы куклы загибаются кверху. В пылу усердия они наверняка сожгли бы куклу дотла, если бы Вацлав, испугавшись, что огонь перекинется на дерево, стену и все дома Юденштадта, не поспешил облить своего врага водой. Очень жаль, дон Юлий, но ужина у тебя сегодня не будет. На горшок и в кровать, дон Юлий, а утром – тридцать розог. Играть на улицу, дон Юлий, ты сегодня не пойдешь. А ну‑ка дай сюда руку, дон Юлий, поверь, мне от этого бывает куда больней, чем тебе. Однажды Вацлав даже сказал: «Ты должен умереть, дон Юлий. Я хочу отрезать тебе голову и насадить ее на кол за городскими воротами».
Восьмилетняя Рохель не очень понимала, что это значит. Да, ее мать умерла. Малышка ходила на похороны, а потом узнала, что значит сидеть семь дней шивы. Более того: поскольку евреям запрещалось даже после смерти покидать стены Юденштадта, живым приходилось существовать в тесном соседстве с теми, кто уже лежал под землей. Но Рохели никогда не доводилось видеть, как голову насаживают на кол. Она никогда не видела вытащенного из реки утопленника. Она даже не видела подвешенную к шесту свинью со вспоротым брюхом, откуда вываливались все внутренности, или труп оленя с остекленевшими глазами, кровоточащий на плечах у охотника.
– Убийство – грех, – сказал Вацлав, понимая, что его воображаемые пытки дона Юлия Цезаря, незаконнорожденного и беспутного сына императора, зашли слишком далеко. – На самом деле я не хочу, чтобы он умер. Я просто хочу, чтобы он страдал. Страдал, как еврей.
Тут Рохель, склонившаяся над своим маленьким городком, вздрогнула и выпрямилась.
– Мне пора идти, – ровным тоном сказала она.
– Но еще даже не стемнело.
Девочка отвернулась и обмахнула ладонью передник, словно бы очищаясь от всей их игры.
Вацлав ждал, что Рохель снова выйдет поиграть, но она не появилась ни на следующий день, ни в другие. Он видел, как Рохель ходит по Юденштадту вместе со своей бабушкой, но если она его и видела, то никаких знаков не подавала. Позже, когда Вацлав уже работал на кондитерской кухне замка вместе со своей матушкой, получая заработную плату, игры с глиной и прутиками, в которые он играл с Рохелью, стали казаться ему детскими, девчачьими. Вскоре он со своими сверстниками начал ходить по трактирам. Там они, подражая взрослым мужчинам, развязно болтали про женские груди и бедра, похвалялись своими подвигами. Однако в отличие от своих товарищей Вацлав никогда не злословил о евреях, ибо в своей относительной зрелости понимал, что никто не заслуживает страдания, а меньше всех Рохель. Более того: этой страной правили австрияки, а он был славянином и тоже считался человеком второго сорта.
Он много знал, этот Вацлав. И все же был один вопрос, на который он так и не мог найти ответа, и звучал этот вопрос так: «Кто мой отец?»
Его матушка, высокая и стройная, красивая даже в старости, ничего не говорила ему по этому поводу. Она вообще была немногословна, а из языков знала только кухонный «платтдойч» и ломаный чешский. Брат его матери считал, что отец Вацлава был шахтером на серебряных рудниках Фуггеров и погиб во время крестьянской войны, сражаясь против гнета помещиков. Мать его матери – бабушка Матти, с узким лбом и седыми волосами на подбородке, категорически не соглашалась с его мнением. Она говорила, что отец Вацлава был новым гуситом, что его сожгли на костре, потому что он разгуливал по улицам в ризе священника и уверял всех, что Христос не причащался. В других версиях он становился разбойником, или игроком, или недотепой, или полным дураком, которого следовало либо произвести в шуты, либо облачить в смирительную рубашку. В одной из таких сказок его отец якобы прошел всю Европу, выдавая себя за бедного студента и попрошайничая, пока, наконец, не устроился при дворе Габсбургов, куда его взяли учителем для малолетних кузенов императора. Там матушка Вацлава и стала жертвой его внезапной слабости. Последняя история вызывала у Вацлава не меньше сомнений, чем остальные, ибо родился уже после того, как двор Габсбургов по настоянию Рудольфа переехал в Прагу, а случился этот переезд в году тысяча пятьсот шестьдесят седьмом. И все же предположение, что его отец был образованным человеком, имело определенный смысл. Вацлав Кола был умен и сообразителен, умел читать и писать на чешском и немецком. В дальнейшем, болтая с итальянцами, что шили шляпы с плюмажами в Доме Трех Страусов, он научился их языку. После этого испанский, на котором говорили многие при дворе, дался ему без труда. Обладая превосходным слухом и приятными манерами, Вацлав должен был высоко подняться из кухонь Вышеградского замка. И вот однажды его заметил сам император. Это случилось в праздник святого Варфоломея. Симпатичный, с хорошо очерченным подбородком, медно‑красными волосами, аккуратный и расторопный, Вацлав помогал подавать на стол.
– Подойди‑ка сюда, – сказал ему император со своего места на высоком помосте. Стол его был отделен от остальных, там стояли золотые тарелки, стеклянный кубок и лежал кусок мягкой ткани, именуемый салфеткой, которым вытирали губы. Кроме того, на императорском столе находился новый прибор – вилка. Правда, кое‑кто заявлял, что пользоваться таким прибором – кощунство, ибо зачем тогда Бог наградил нас пальцами?
Вацлав до смерти перепугался, однако, отвесив низкий поклон, приблизился к императору.
– Вот что, молодой человек. Ответь мне на такой вопрос. Кем тебе приходится единственный ребенок единственной дочери тещи твоего отца?
– Я сам, сир.
– Король, любитель шахмат, решает отдать свой трон тому сыну, который сможет ответить на такой вопрос: «Если я отдам тебе трон, ты должен будешь провести ровно половину оставшихся тебе дней за игрой в шахматы. Сколько это будет дней?»
– Он должен будет играть через день, пока не умрет, ваше величество.