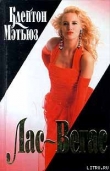Текст книги "Книга сияния"
Автор книги: Френсис Шервуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
На самом деле Рудольф полагал, что следовало бы препоручить себя милости Божьей. Однако, будучи правоверным католиком, не верил в адово пламя, хотя несколько раз видел, как на Петржинском холме пляшет, играя на дудке, сам Сатана. Во что Рудольф точно верил, так это в забвение – в то, что после смерти можно не чувствовать, не сознавать, а самое главное, не страдать. И тем не менее, когда император впервые обо всем этом задумался, именно идея страдания послужила ему главным препятствием. Правда заключалась в том, что Рудольф боялся высоты, ненавидел воду, а также не испытывал особой радости при виде любых шнуров и веревок. А от вида крови, особенно собственной, его неудержимо тошнило. Именно поэтому личный лекарь императора был последователем Парацельса. Нет‑нет, никаких кровопусканий, никаких пиявок. Только пилюли, травы, тонизирующие средства – вот чем лечили Рудольфа. А поля боя, рыцарские турниры, фехтовальные поединки, которые ему, как императору, требовалось посещать, удостаивались его присутствия лишь с поистине императорской дистанции. На охоте Рудольф старательно отвращал свой взгляд от кровавой бойни. Он всегда ел только хорошо приготовленное мясо. Тем не менее никуда было не деться от крови, текущей быстро и в немалом количестве. Ибо Рудольф уже сидел на кровати, отвернувшись от чаши с опилками, над которой он держал кисть одной руки, тогда как в другой его руке была крепко зажата бритва.
Один отважный удар – и императорское левое запястье украсилось тонкой красной линией.
– Вацлав! – тут же завопил он.
Петака зевнул.
– Я здесь, ваше величество, – Вацлав, преданный камердинер, лежал на полу за дверью меж двух стражников, надеясь хоть немного передохнуть. Услышав вопль, он тут же вскочил и пулей влетел в императорскую опочивальню. – Что случилось, сир?
– Что случилось?! Ты что, сам не видишь, мошенник? Я истекаю кровью! Лекаря сюда! Киракоса! Киракоса, только его!
Стащив с императорского ложа простыню, Вацлав неумело замотал ею рану, а потом со всех ног бросился к двери. Голова его дергалась, точно была насажена на тощую шею. Выбежав из опочивальни, Вацлав устремился по коридору.
– Император умирает! Император умирает!
– Вот идиот! – прорычал Рудольф. – Еще весь мир об этом оповести.
– Император умирает? – спросил у Вацлава стражник. – А что с ним такое?
– Нет‑нет, ничего, с ним все хорошо, – ответил Вацлав, слегка притормаживая и принимая беспечный вид. Завернув за угол, он миновал зал Владислава, где проводились рыцарские турниры, затем бегом внутренний двор, направляясь от собора святого Вита к императорским конюшням, смежным с личной картинной галереей Рудольфа. Именно там находилась комната Киракоса. Вконец запыхавшись, Вацлав постучал в тяжелую деревянную дверь. Никакого ответа. Тогда Вацлав распахнул дверь. В комнате было темно и пусто. Розы на ковре напоминали листы кувшинки, плавающие на поверхности черного пруда, подушки отбрасывали на пол пухлые тени. По спине у Вацлава побежали мурашки.
– Матерь Божья, – взмолился камердинер. – Помоги мне его найти.
Обходя стороной львиные клетки, Вацлав сперва направился по ту сторону рва – к залу для игры в мяч и оранжерее, а затем, увидев свет в Пороховой башне, устремился туда. Может быть, лекарь работает в императорской алхимической лаборатории? Но там обнаружился лишь стражник. У Киракоса было множество странных привычек. Например, в самые жуткие ночи разгуливать по Райским садам или прохаживаться вдоль зубчатых стен замка.
– Киракос! Киракос!
Молчание. Воздух был плотным и холодным. Вацлав надеялся, что его жена растопила в их комнате камин. Ей двадцать девять, она уже далеко не в самом расцвете, а сейчас в тягости. Если вдруг император умрет, и он, Вацлав, останется без работы… Ох нет, Господи, только не это.
Не чуя под собой ног, камердинер вихрем пронесся по кухням, через столовую для прислуги, где миллиарды поваров и их помощников готовили едва ли не все возможные виды птицы, дичи и овощей для полночной трапезы. Повсюду, конечно, были стражники, а также музыканты, придворные, великое изобилие прислуги, ибо все собрались отпраздновать наступление нового года и нового века. Но Вацлав не мог забыть о своем поручении. Он стремительно кружил по обоим ярусам императорских бальных зал, но находил там лишь роскошно разодетых гостей, напоминавших живые картины на желтых арочных панелях. Вацлав запаниковал. Куда мог подеваться этот лекарь? Он бежал во весь дух, миновал базилику святого Георгия и наконец оказался на Золотой улочке, в квартале алхимиков.
– Кто идет? – крикнул стражник.
– Это я, Вацлав… вот, вышел вечерним воздухом подышать.
Теперь камердинер снова задыхался, в икрах и ляжках пульсировала боль… Кое‑как хромая вдоль крепостной стены, он направлялся к Поющему фонтану[19] и Бельведеру.[20] Там, на террасе, что окольцовывала величественное мраморное здание, вглядываясь в темное небо, этой холодной ночью стоял астроном Йоханнес Кеплер.
– Вы не видели Киракоса, армянского лекаря?
– Он в «Золотом воле». В шахматы с Браге играет.
И в самом деле: чуть к юго‑востоку от замка, в захудалом трактире под названием «Золотой вол» сидел армянский лекарь Киракос. Еще там находились: помощник лекаря – русский по имени Сергей, бездельник и молчун; осанистый астроном‑датчанин Тихо Браге; и Карел, безногий старьевщик. Уютно расположившись у ревущего очага, они играли в шахматы и потягивали сливовицу, закусывая ломтиками ветчины с горчицей и имбирными пряниками. Уже непригодные для императорских гостей, эти пряники продавали прямо из кухни замка.
Карел согласился доставить лекаря с помощником и камердинера в замок в своей телеге. Браге остался в трактире.
– Где этот болван? – проревел император, увидев Вацлава, несущего на руках Карела. За ними следовали армянский лекарь Киракос и Сергей. Все они старались не потревожить шелудивого льва.
– Боже милостивый! – воскликнул Киракос, увидев, что кисть императора обернута простыней. – Как это случилось, ваше величество?
– А ты как думаешь? Я порезался. А он что здесь делает? – Рудольф указал на Карела.
– Да я просто за компанию, – отозвался старьевщик.
– Тогда вон отсюда. Тебя никто не звал.
Вацлав вынес Карела во внутренний двор, усадил на маленький стульчик, прикрепленный к его телеге, затем вернулся в императорскую опочивальню.
– Жгут, Сергей, – скомандовал Киракос.
Русский порылся в недрах саквояжа и извлек оттуда толстый шнурок. Обвязав шнурок вокруг плеча Рудольфа, лекарь крепко его затянул.
– Нет‑нет, Киракос. Так больно.
– Простите, ваше величество… вы хотите жить?
– Не уверен.
– Иглу, Сергей, – снова приказал лекарь.
– Иглу?! – Рудольф чуть не выпрыгнул из своих чулок. Иглы он ненавидел еще больше, чем кровь.
Сергей достал из саквояжа красный бархатный футляр, в котором лежали иглы всех размеров. Иглы для мозолей. Чумные иглы, оспяные иглы. Иглы для клизм, иглы для прижигания, прокалывания и зашивания. Имелись там иглы такие микроскопические, что ими вполне можно было подшивать кружева на платье принцессы.
– Вот эту.
Вид этой иглы Рудольфу совершенно не понравился. Она была одной из самых больших – настоящий меч, – а кончик ее блестел как стекло.
– Киракос, будь добр, дай мне умереть с миром. Я передумал.
– Ваше величество, сохраняйте спокойствие.
– Я спокоен, Вацлав. Еще чуть‑чуть спокойствия, и я буду мертв.
– Зажимы, – скомандовал Киракос.
– Вот зажимы, – Сергей вручил лекарю набор маленьких фиксаторов. Они также выглядели как орудия смерти – серебристые, скрепленные сзади какими‑то маленькими крабиками, острые как кинжалы.
Рудольф не раз охал, пока эти крабики зажимали его плоть.
– Я здесь, ваше величество, – повторял Вацлав.
Рудольф с такой силой сжимал руку своего верного камердинера, что Вацлаву подумалось – еще немного, и он сам сейчас рухнет замертво.
– Не стой тут столбом, идиот, добудь немного сливовицы, – приказал Рудольф.
Вацлав был безумно счастлив, что наконец‑то освободился от хватки императора, и поспешил исполнить приказ.
– Сливовицы императору! – крикнул он словенским стражникам, которые выстроились в боевом порядке у дверей, готовые в любой момент обнажить свои нескладные, старомодные мечи. Аркебузы были заперты в погребе вместе с бочонками вина, а ключ от погреба был только у Вацлава.
– Сливовицы! – хором откликнулись стражники, и это слово эхом разнеслось по коридорам замка точно приказ полководца.
– Теперь нитку с иголкой, – бросил Киракос своему помощнику.
Рудольф вздрогнул. Раздался легкий стук в дверь, и в опочивальню вошел слуга со стеклянным графином сливовицы на серебряном подносе.
Одетый в алую ливрею, он изящно поклонился императору, заученно точным движением открыл роскошно изукрашенный графин и наполнил сливовицей бокал в форме раскрывшейся лилии из стекла, отливающего бледно‑лиловым цветом.
– Бога ради, давай, давай его сюда, поскорее…
Император схватил бокал и единым духом осушил его.
– Не поперхнитесь, ваше величество.
– Ты что, Вацлав? Ты смеешь давать мне советы?
– Конечно, нет, ваше величество.
Тем временем, мурлыча себе под нос древнюю армянскую мелодию, Киракос принялся зашивать рану.
– Боже мой! Йезус Мария! Святые апостолы! – каждый укол доставлял императору отдельную боль, совершенно невыносимую. Рудольф чувствовал себя одним из святых мучеников, которых изображают на иконах. – Господи, будь милостив к несчастной христианской душе.
– Бальзам.
– Вот бальзам.
По слухам, Сергей бежал из хаоса, в который вверг Россию Иван Грозный. В Праге было полно людей подобного толка – евреев, спасавшихся от инквизиции и гонений, армян вроде Киракоса, чью страну захватили турки, немцев, которые искали удачи и денег, светловолосых шлюх с кровью викингов, итальянских ремесленников, алхимиков из разных стран, разной веры, художников, чьи таланты были весьма сомнительны. А главное, ни в одном городе вы не увидели бы – и не захотели бы увидеть – такого числа священников. Особенно назойливых протестантов, частично из старых гуситских семей, частично из недавно собранных легионов Лютера. Иезуиты, ясное дело, составляли анклав. Сам император был австрийцем, а Прага – столицей его империи, что охватывала Богемию, Моравию, Верхнюю и Нижнюю Силезию, обе Лусации, Австрию, разумеется, Тироль, Штирию, Каринтию, Карниолу, немецкие земли и часть Венгрии. Зачастую обитатели Праги даже забывали, что первыми здесь все‑таки были чехи – горожане, среди которых преобладали купцы, лавочники, ремесленники многочисленных гильдий, работники умелые и неумелые… а также, в базарные дни, свободные крестьяне, деревенские жители.
– Полотно, – приказал Киракос.
– Вот полотно.
Врач обернул полотняную ленту вокруг кисти Рудольфа. На самом деле никакая реальная опасность императору не грозила – порез был неглубок. Тем не менее Киракос сделал из простой операции сущее представление. И Рудольф, заштопанный на славу, успокоился. Ему принесли бокал подогретого вина, а чтобы подкрепить силы – сыр, мягкий белый хлеб и тарелку нежного рагу из кролика.
– Ну вот, ваше величество, – негромко проговорил Киракос. – А теперь вы должны рассказать мне, что вас к этому привело.
3
По другую сторону реки, внутри сырых стен Юденштадта, пока Зеев крепко спал у нее под боком, Рохель застыла в неподвижности, надеясь, что голос бабушки ее не найдет. Легкий как дымок, он какое‑то время парил под потолком, а затем, точно пчела, заползающая в цветочный венчик, все‑таки проник женщине в ухо.
– Память подводит меня, Рохель, и мне все труднее связать одно с другим. Лучшие из времен содержат в себе семена худших. Беда всегда ходит рядом. Да, сегодня твоя брачная ночь, но Бог запрещает тебе забывать, откуда ты родом.
Как Рохель могла об этом забыть?
– Прежде всего – ноги, множество ног в стремительной суматохе бегства. А еще – запах животных, что живьем жарились в амбарах. Их крики, почти человеческие, когда они бились о деревянные колья загонов. Это был конец надежды, Рохель, конец света, лицо зла. Твоя мать побежала, я побежала, мы все побежали.
Примерно до тринадцати лет, до дня первой крови, в своих мыслях Рохель видела разные картины. Вот мама купает ее в голубом тазу, теплая вода серебристыми полосками сбегает по ее груди. Или мама идет по Карлову мосту, и солнце – словно сияющая пуговка на голубой груди… а она, совсем еще маленькая девочка, старается держаться за грубую мамину юбку, но ручонка у нее такая скользкая, что ткань кажется охапкой шершавых колосьев пшеницы на ветру. Рохель даже представляла себе ту пору, когда они с мамой и бабушкой только‑только пришли к великому городу Праге из маленькой украинской деревушки. Ужин, и обе женщины расстилают ткань, лезут в корзину, чтобы достать оттуда каравай мягкого хлеба, сладкий изюм и кринку теплого, чистого‑чистого молока. Рядом радостно поет ручеек, струясь меж камней, поблескивающих точно влажные самоцветы, а на лугу резвятся овечки. До Праги вышла всего лишь краткая прогулка, каких‑то несколько дней, и в этом сне мама и бабушка Рохели не шли, а ехали в фургоне с надежно закрытыми дверцами и задернутыми от дорожной пыли занавесками. По ночам, после трапезы – крупные яблоки, запеченные в тесте, квашеная капуста – они спали на больших кроватях из тяжелой древесины, накрываясь множеством одеял. Когда же они прибыли к воротам Юденштадта в Праге, рабби Ливо в развевающемся талесе, мэр Майзель, члены Похоронного общества, зятья раввина и все мальчики покинули ешиву[21] высыпали из ворот, чтобы их поприветствовать. Здравствуйте, добро пожаловать.
Но все было не так.
На самом деле слова бабушки в день первого кровотечения Рохели, как она сейчас помнила, были такими резкими, что ей захотелось закрыть уши ладонями и крикнуть: «Нет, бабушка, нет!»
– Сегодня ты стала женщиной, – как требовал обычай, бабушка отвесила Рохели пощечину, когда та показала ей окровавленную нижнюю юбку. А позднее, когда наступил вечер, и скудная обстановка их комнаты начала тонуть во тьме, пока внешний мир тихо пропадал за стеной, бабушка проковыляла к столу, чтобы зажечь свечу, после чего рассказала Рохели, как блюсти чистоту теперь, когда она стала женщиной. Что она не должна касаться мужчины, когда нечиста, а после надлежащего числа дней полагается сходить в купальню, чтобы очиститься. Бабушка объяснила Рохели, что она больше не должна бегать и прыгать, что теперь ей следует ходить степенно, пригнув голову и опустив глаза долу. Туфли она должна отныне носить только по особым случаям – в Шаббат и Высокие Праздники. Рохель уже знала, как шить из клочков лоскутные одеяла и покрывала, как медленно кипятить крупу над огнем, чтобы каша вышла нежной, как очищать яблоки и сохранять обрезки кожуры, чтобы затем смешивать их с овсом, как брать часть халы от каравая, как очищать вареное яйцо, сперва по нему постучав, чтобы шелуха отошла вся сразу. А еще – что она никогда‑никогда не должна есть яйцо с капелькой крови внутри.
Верно, эти запреты и предписания бледнели по сравнению с тем, что случилось на Украине. Казалось, они никак не связаны с тем кошмаром напрямую – и тем не менее странным образом составляли с ним единое целое. Как будто в беде, что обрушилась на их родную деревню, была виновата она, Рохель, и то же самое повторится снова, если только она не будет осмотрительной, по‑настоящему осторожной. Более того, Рохель всегда испытывала особые подозрения относительно любого несчастья, ибо она была не как все. Рохель даже сама не помнила, с каких пор она уже осознавала себя сиротой, да еще такой, которая не знала наверняка, действительно ли ее бабушка была именно ее бабушкой. Слушая бабушкины наставления, Рохель ясно понимала, что лишь благодаря счастливой случайности она не разделила судьбу своей родной деревушки.
А тем временем весь остальной мир, казалось, шел вперед и даже не оглядывался. Дети просыпались, умывались, читали молитвы и играли в свои игры. Матери готовили еду и прибирались по дому. Отцов и мальчиков потощали двери шуля,[22] а в сумерки они, точно темные голуби, разлетались по улицам, возвращаясь по домам. Круг их жизни вращался на ступице предуготовленных дней. Все они казались такими уверенными в себе, что Рохель порой задумывалась: нет ли какого‑то ключа, которого ей не дали, какой‑то дополнительный урок, который она пропустила? Не имея письменных наставлений – ибо женщина не имеет права читать и изучать Тору, – Рохель тревожилась о своей нешаме. Не родилась ли она с каким‑то ущербом, своенравной или недовольной? А может быть, как гласят поверья, ею овладел диббук – чей‑то дух, который не смог покинуть землю и должен войти в чужое тело, чтобы мучить его и терзать? Не могло ли выйти так, что само ее присутствие неугодно Богу, ибо она женщина? Хотя, как сказала Рохели бабушка, быть женщиной значит быть ближе к Богу. К тому же все евреи – мужчины, женщины и дети – живут в согласии с Законом Божьим.
– В лето господне года одна тысяча пятьсот восемьдесят второго был голод, засуха, и в Киеве чумной колокол звонил ночи напролет, пока вывозили трупы…
Зеленоватые луковицы в сером небе – вот какой Рохель представляла себе Украину. Солдаты на суровом параде выбрасывали вперед сапоги. За ними наблюдали русские бояре в шапках, отороченных мехом, польские крестьяне в расшитых рубахах.
– В тот год на Украине люди жили в жалких лачугах, точно кроты, жевали кору, умирали от жажды…
Тринадцатилетняя Рохель сидит на трехногой табуретке у теплых углей очага, опустив взгляд на свое шитье. В мутном свете свечи она украшает французские аксельбанты, делает плотными нитками зигзагообразные стежки на свободном воротнике плаща императорского придворного. Шерсть сделана в Британии, куплена во Франкфурте и привезена в Прагу торговым караваном, а шелковую нить, сработанную в Италии, доставили на север через Альпы. Игла у Рохели серебряная, из фуггеровских рудников в Тироле, а деревянный наперсток – из Черного леса. Целый мир у самых кончиков ее пальцев, говорила себе Рохель, и ей хотелось, чтобы это был добрый мир, щедрый.
– Колодцы высохли в тот год, Рохель, и нам приходилось покупать воду у водоноса, который возил бочки на телеге. А телегу эту волок конь такой тощий, что даже самые бедные люди в деревне его жалели. Вода, Рохель, была в то лето дороже золота…
В Праге воды было вдосталь. Несколько колодцев в самом Юденштадте – один из них во дворе у раввина. А для императора качали воду из Влтавы – прямо на кухню в замке. Об этом рассказал Рохели ее друг Вацлав, когда она была еще маленькой девочкой. Помимо водопровода, в замке была люстра, свисающая с потолка, круглые канделябры со свечами, даже стеклянные лампады, питаемые маслом. В самую глухую полночь комнаты замка наполнял золотистый предвечерний свет.
Это было так славно, говорил Вацлав. И в самом деле, если подойти к самому берегу реки Влтавы, можно было увидеть замок на вершине Градчанского холма, сияющий точно упавшая на землю звезда.
– Твоя мать была сосватана за прекрасного мальчика…
«Сосватана»… Слово мягкое, как пух. Слово, означающее будущего отца. Ее отца.
– Тот мальчик помогал своему отцу собирать плату за землю для помещика и управляться с ведением учета всего обширного поместья. Там были многие акры пшеницы, за которой ухаживали сотни крепостных…
Рохель часто видела в своих снах эти просторы, где кони бродили по траве. Мысль об этих просторах ее пугала. Слава богу, Рохели посчастливилось жить в городе Праге, богемской Праге, в самом сердце Европы, в столице империи Габсбургов.
– Обрученный твоей матери был умным мальчиком. В один прекрасный день, говорили люди, он сам будет вести учет.
Книг Рохели даже в руках держать не доводилось. Но она могла считать в уме, расписываться, пользоваться пером, чтобы набросать тушью узор, который она затем расшивала нитью, получая, к примеру, цветок. Да, уже в тринадцать лет она была подлинной мастерицей кройки и шитья. Конечно, модные одежды шились не для женщин и мужчин Юденштадта, которые носили бесформенные домотканые платья или длинные рубахи и простые крестьянские брюки. По большей части Рохель с бабушкой шили для знатных персон, что жили во дворцах на Градчанском холме вокруг императорского замка, возвышающегося над ними. Оттуда была видна вся Прага и даже шпили собора святого Витта – самого высокого здания в городе, – что располагался в стенах замка.
Мастер Гальяно – главный портной, который приносил им нити, ткани и выкройки вместе с заказами от обитателей замка и придворных, – как‑то сказал, что император Рудольф подвержен приступам слез и склонен бросаться словами. Однако, к счастью для тех людей, что зарабатывали себе на жизнь шитьем, этот тщеславный и капризный человек неизменно настаивал на том, чтобы придворные являлись к нему на прием в соответствующих нарядах. Несомненно, знатные персоны, живущие на Градчанском холме, и ведать не ведали, сколько роскошных одеяний пошито для них простой девушкой и ее немощной бабушкой в скверно освещенной комнате с земляными полами в Юденштадте, на улице под названием Юденштрассе, оплетенной паутиной крошечных переулков. Не знали они и о том, что великолепно окрашенные нити и ткани под покровом ночи перевозились на Юденштрассе через Карлов мост в обычной тачке из прекрасного магазина мастера Гальяно рядом с Домом Трех Страусов, где изготовители шляп покупали перья.
– Таким жарким было лето господне года одна тысяча пятьдесят второго, – продолжала бабушка Рохели, – что мы даже не могли спать. Бодрствуя, мы не могли двинуться с места. А солнце делало по небу свой круг, и мы все время боялись, что оно тоже вдруг остановится и облегчение ночи уже никогда к нам не придет. Стояла такая жара, что женщины забывали о приличиях и распахивали свои платья, обнажая сорочки, а мужчины не ходили работать на поля, и вся земля была выжжена до смерти…
До первого кровотечения Рохели бабушка рассказывала ей про самых знаменитых женщин Библии: про Эстер, которая спасла свой народ; про Руфь, невестку Ноемини; про Лию, любимую жену Яакова, родившую ему множество сыновей. Порой бабушка также передавала Рохели истории про королей и королев, что жили в изящных замках.
– …Я рассказываю тебе все это для того, чтобы ты знала, что было до тебя и что в любое время может случиться снова.
Рохель смела надеяться, что ее матушка испытала в своей жизни радость, пусть даже совсем ненадолго. Что же касалось ее нынешней жизни, после того как она, как достойная женщина, вышла замуж, то Рохель верила: отныне каждый день будет начинаться надеждой, а заканчиваться нежностью. Она хотела родить много детей. Она хотела ощущать праведность, что освещала бы ее путь подобно солнечному лучу, падающему на лесную тропу сквозь лиственную завесу. Кроме того, теперь, когда она стала достаточно важной персоной по сравнению с прочими, Рохель хотела выучиться читать, прочесть Тору, расшифровать слово Барух – блаженный.
– Сперва пришли несколько молодых мужчин из города, смутьяны. Бросили пару‑другую камней, выкрикнули обычные оскорбления. А потом заявились мерзавцы и нищие, всегда готовые начать драку. Самыми опасными были те, что прискакали на конях. Крестьяне к ним присоединились. Они злились на помещика, который оставлял их крепостными, но нанял на работу многих евреев. И не только мужчин – чтобы вести учет, управлять поместьем, но и женщин – чтобы ухаживать за детьми и служить горничными. Затем пришли владельцы мелких лавчонок, которые не хотели, чтобы у нас были свои мелкие лавчонки, где мы торговали самой малостью ниток и лент, только и всего. Одного язычка пламени, Рохель, хватило с избытком, чтобы солома наших крыш затрещала на полуденной жаре. А все наши дома были из старой древесины – хрупкой, как растопка.
В другой раз бабушка рассказала Рохели про зимних волков, что бродили по степи и гонялись за санями. Однажды праздновали свадьбу, местная родовитая знать весело каталась в санях – и вдруг волки появились из леса. Голубые как лед глаза, призрачно‑белый мех. Людей стали бросать волкам – сперва слуг, одного за другим, затем родственников, кузенов и кузин, дядюшек и тетушек, мать, отца… Наконец жених бросил волкам и саму невесту.
– …Вся деревня сгорела дотла. Всех наших мужчин убили.
– А мой отец? Моего отца тоже убили?
– У тебя нет отца.
«У тебя нет отца – вот тебе, вот тебе!»
«Твоя мать блудница – вот тебе, вот тебе!»
Так дразнили Рохель соседские дети.
– Но тот, обрученный, бабушка…
– Он тебе не отец.
Даже сейчас, целых пять лет спустя, лежа в брачной постели и глядя в затянутый паутиной потолок комнаты Зеева, Рохель очень хорошо помнила тон, каким ее бабушка это сказала. «Он тебе не отец». Во снах Рохели ее отец был вроде коней, бродящих в высокой траве, или израильтян, которые сорок лет скитались в пустыне. Он заблудился и искал ее.
– Нам пришлось на три ночи остановиться в Кракове, потому что твоя мать, сама еще совсем ребенок, уже носила ребенка и едва могла ходить.
Всю свою жизнь Рохель прожила среди растрескавшихся, покрытых плесенью стен, что окружали еврейскую общину, а когда бабушка наконец‑то стала позволять ей сопровождать ее по городу в связи с какими‑то поручениями, девочка больше всего полюбила реку Влтаву, а еще леса на Петржинском холме, где можно было набрать больших, крепких грибов. Рохели нравилось ходить на рынок на Староместской площади, сперва пересекая Еврейское кладбище, где многими слоями покоились мертвецы, а дальше проходя мимо Еврейской ратуши, построенной мэром Мордехаем Майзелем – человеком богатым и влиятельным, придворным евреем императора. Именно мэр Майзель выхлопотал рабби Ливо кафедру в Староновой синагоге. Рохель, которой вместе с другими женщинами приходилось сидеть за стеной во время службы, никогда не видела кафедры, но знала, что она находится рядом с хранилищем свитков Торы, самым священным местом во всей синагоге.
Христианский костел Девы Марии перед Тыном[23] с его высокими окнами, похожими на вытянутые, печальные глаза, совсем Рохели не нравился. И все же, когда он вырастал из сутолоки зданий на Староместской площади, где господствовала Староместская ратуша, – с львиными головами на двойных дверях, и эти львы так и таращились на Рохель, – сердце у девочки замирало. Еще у Староместской ратуши была башня, а на ней, на южной стене – астрономические часы с окошками, и в этих окошках, когда часы отбивали час, двигались друг за другом фигурки двенадцати стариков с золотыми обручами на головах.
Единственным мужчиной, с которым бабушка Рохели разговаривала, – если не считать Гальяно и раввина – был Карел, старьевщик. Христианин, как и мастер Гальяно, Карел был безногим. Таким образом, калеку приходилось поднимать и усаживать на маленький стульчик на его телеге, а над стульчиком висел медный колокольчик с веревкой, чтобы звонить. Иногда Карел передвигался на сколоченном из досок щите с крошечными колесиками. Бабушка Рохели сшила калеке специальный брючный костюм, который скорее напоминал юбочный камзол, а перчаточник изготовил ему такие прочные кожаные перчатки, что они не рвались, когда старьевщик катался по всей округе на своем щите с колесиками. Телегу его таскал осел по кличке Освальд. Весь день Карел Войтек возился с мусором, ненужными вещами и всевозможным старьем.
– Эй, Освальд, а ну‑ка поздоровайся с малышкой Рохелью, – обычно говорил Карел при встрече.
И старый осел покачивал мохнатой мордой вверх‑вниз, не забывая черным хвостом сшибать мух со своего крестца таким же размашистым движением, как бабушка Рохели, когда подметала пол. В дождливые дни Освальд носил фетровую шляпу с дырками для длинных ушей. Проезжая чрез Юденштадт, Карел обычно кричал со своего насеста: «Тряпье, тряпье и кости, продавайте мне ваше тряпье и кости». Однажды Карел устроил Рохели и ее бабушке большую поездку в своей телеге. Когда наступила ночь, они были далеко от реки и еще дальше от дома.
– Берегитесь воров, – сказал тогда Карел.
Воров? Вообще‑то Рохель тревожилась насчет Ночной Ведьмы, пролетающей над ними на своем помеле. Ночная Ведьма запросто могла ухватить Рохель своими когтями и в один прием ее проглотить. Еще девочку беспокоил Король Эрл, скачущий повсюду на коне и приносящий смерть больным ребятишкам, водяной, что поднимался из реки, желая тобой закусить, лесные духи, иначе лешие. Столько всего могло случиться с тобой, если ты отваживалась ночью разъезжать по округе. Даже при ярком свете дня вне стен Юденштадта хватало христианских детей, которые могли тебя догнать и прижать твою голову к земле, бормоча: «Целуй крест, целуй крест». Рохели хотелось, чтобы Карел велел Освальду прямо сейчас отвезти их домой. Но нет – вместо этого они отправились аж к самому старому замку в Вышеграде, где правила Либуше, первая чешская королева. Теперь же замок являл собой нагромождение скал на утесе и нависал над ним как горный лев, готовый к прыжку. Когда же они наконец остановились, Карел взял кувшин с пивом и принялся тыкать пальцем в черное небо:
– Смотрите, вон Кит, вон Феникс, вон Журавль, вон Козел, вон Орел, а вон Бык и Баран.
Как ни старалась Рохель увидеть плавающих в небе животных, разглядеть ей удалось только плотное черное полотно с множеством крошечных игольных проколов, показывающих свет по ту сторону полотна. Или, может статься, крошечные частички света были островками вроде острова Кампа на реке Влтаве, куда женщины, что жили у мельницы, приносили свое белье для стирки и отбелки?
– Слушай меня хорошенько, Рохель. После долгого, тяжкого путешествия мы с твоей матерью добрались наконец до Праги…
Теперь Рохель – замужняя женщина, живет в собственном доме, ее бабушку уже два месяца как похоронили, а ее мать давным‑давно умерла. Но она легко могла представить их себе живыми, поместить их туда, в ту самую комнату с земляными полами.
– Когда твоей матери подошло время рожать, мы послали за Перл, женой рабби Ливо.
Перл, на самом деле персона очень занятая, низенькая и согбенная, шустрая как хорек, с очками на кончике носа, зацепленными за уши металлическими крючками, никогда не появлялась на людях без синей полотняной косынки, плотно обтягивающей ее маленькую голову, и чистого передника на поясе.
– Перл я позвала, потому что роды были тяжелые.
Жену раввина, повивальную бабку для женщин Юденштадта, запросто можно было представить себе щупающей простыни на кровати, внимательно вглядывающейся в таз с водой, трогающей ладонью стол на предмет пыли. Ибо Перл терпеть не могла грязи у себя в доме и даже смастерила специальную щетку для обметания пыли из перьев черного петуха. Щетку эту она привязала к короткой палке и то и дело размахивала ею как скипетром, предотвращая тем самым любое вторжение беспорядка. Ее акушерский саквояж содержал в себе множество чистых тряпиц и шариков сушеного губчатого мха, а также мешочки с розмарином и тимьяном, чернобыльником, полынью и шалфеем. В глубинах саквояжа также лежали большие острые ножницы, подозрительно длинные щипцы, плотно закупоренная склянка «живой воды», а по‑простому крепкой сливовицы, немного корня валерианы и давленой, слежавшейся маковой пульпы.