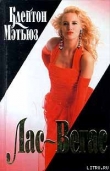Текст книги "Книга сияния"
Автор книги: Френсис Шервуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
«Я представляю: каждый из нас знает слово или букву».
Йохель мог думать только о Рохели. От тревоги его ладони стали влажными, и он с трудом удерживал мелок.
– Друзья мои, – признался раввин. – Вот что я хочу вам сказать. Когда я говорю, что у каждого из нас есть слово, которое можно передать императору, это в худшем случае ложь, а в лучшем – молитва. Кроме того, у этой затеи есть небольшой изъян… хотя нет – скорее большой. Как только кто‑то из нас передаст свою часть секрета, он больше будет не нужен.
– Но если они захотят искалечить кого‑нибудь или убить, можно будет пригрозить, что остальные совершат самоубийство, – разумно предложил Зеев. – Тогда все останутся живы.
– Это только отсрочка, – рабби Ливо почувствовал, что у него нет сил обсуждать этот вопрос. – В какой‑то момент, в тот момент, когда весь секрет будет выдан, мы императору больше не потребуемся.
Майзель выступил вперед. В своем превосходном камзоле, коротких штанах с подбоем, шелковых чулках, во всем придворном наряде он выглядел странно в этой толпе бедняков, торговцев, учащихся.
– Мы всегда будем ему полезны. Налоги, займы…
– Других королей эти соображения не останавливали, – возразил рабби Ливо.
– А не постигло ли императора безумие, которое поражает больных сифилисом? – спросил Зеев.
– Никаких признаков этого он не проявляет, – сказал Майзель, задумчиво оглаживая аккуратно подстриженную бородку. – Возможно, император страдает от наследственного недуга Габсбургов. Многие его предки отличались странным поведением. К примеру, его прабабка делила постель с трупом своего мужа. Вспомните также несчастного дона Карлоса. Не говоря уже о сыне императора, доне Юлии Цезаре, который заколол свою любовницу, ударив ее кинжалом в глаз, расчленил ее тело и бросил медведям под Чески‑Крумловом. У императора безумие выражается в колебаниях между предельным возбуждением и парализующей тоской.
– Возможно, его состояние так ухудшится, что он про нас и не вспомнит, – предположил Зеев. – Если выдавать по кусочку секрета в день, это можно растянуть на…
– На несколько лет? – спросил раввин. – И что потом?
– Мы будем понемногу уходить из города, один за другим.
– Завтра утром городские ворота закроются. Да и куда мы пойдем? Но даже если мы сумеем мало‑помалу уходить, это не останется незамеченным, верно? В какой‑то момент нас станет так мало, что все раскроется. Нет‑нет, – и рабби вздохнул.
– А как насчет Келли и Ди? Уверен, они этот вопрос уже обсуждали.
– Бабочки еще не вылезли из коконов, – сообщил Кеплер. – А когда вылезут, императору потребуется несколько недель, чтобы убедиться в продлении их жизни.
– Келли и Ди будут казнены, сколько бы эти бабочки ни прожили. – Зеев верил, что этот ветер и дождь – предупреждение Божье для Юденштадта. Это знамение, дурное знамение.
– Будем надеяться, что Келли и Ди что‑нибудь придумали.
В детали их планов Кеплер посвящен не был. Поднявшись сегодня в лабораторию, он нашел двух алхимиков в прекрасном расположении духа, печи полыхали жаром, все перегонные кубы были в работе, Келли сверлил глазами древние тома, а Ди, точно вдохновенный повар, что‑то перемешивал.
– Если вас интересует мое мнение, так все эти бабочки должны просто сдохнуть. Я был в зале Владислава, когда там проводилась книготорговая ярмарка, но там стояла такая вонь от конского навоза после рыцарского турнира, что и гигант упал бы замертво… Извини, Йосель, – Зеев улыбнулся голему.
– А сколько у них там бабочек? – вмешался раввин.
– Должно быть, сотня с лишним, – сказал Карел.
– А по‑моему, тысяча, – возразил Майзель.
– Черт их знает, – подытожил Кеплер.
– Он точно знает, – сказал раввин. – А Киракос? Мне интересно, что за игру он ведет?
– Подозреваю, чем больше беспорядка, тем лучше его перспективы.
Длинный плащ мэра Майзеля был сшит Рохелью из мягчайшего черного бархата. Казалось, стоит мэру раскинуть руки – и он полетит над домами Юденштадта, прочь из Праги.
– Вацлав, однако, очень добрый малый, – упомянул Зеев. Вацлав сказал, что намерен спасти его жену. Он определенно собирался спасти его жену. Он обещал.
– Вацлав – сын императора и кондитерши.
– Боже мой, мэр Майзель, я и знать об этом не знал, – Кеплер был потрясен.
– Разве вы никогда не видели его подбородка? – спросил Майзель. – Взъерошенных рыжих волос?
– А есть хоть какая‑то возможность посадить его на трон? – спросил Зеев.
– Абсолютно никакой, – ответил Майзель. – Кроме того, Вацлав даже не знает, что сын императора.
– А император знает?
– Зеев, друг мой, знает император, не знает – ему все равно нет никакого дела.
– Значит, в Песах нам придется иметь дело с тремя злонамеренными братьями и отцом Тадеушем, – вставил раввин.
– Отец Тадеуш? Он тоже хочет жить вечно?
Все знали, что Йосель был создан, чтобы защищать Юденштадт, но мало кто догадывался, что все началось с вполне конкретной угрозы. Теперь, не углубляясь в подробности, раввин передал собравшимся ужасную новость, которые сообщил Карел, – о погроме, который должен был состояться в Песах.
– Таким образом, мы оказались меж двух огней, – подытожил раввин. – С одной стороны император, с другой – горожане.
– Если протестанты завоевали бы всю Европу, где бы тогда обосновались евреи?
Зеев не был уверен, что может сейчас рассуждать разумно. Рахиль в замке, Тадеуш у ворот, императору нужны какие‑то волшебные заклинания.
– Подозреваю, Зеев, – по обыкновению задумчиво проговорил Майзель, – что евреи, как всегда, оказались бы в месте, которое не стоит упоминать в приличном обществе. Хотя многое зависит от того, что это будут за протестанты. Крестьянские восстания для нас не слишком хороши, ибо крестьяне, будь то протестанты или католики, считают, что мы заодно с королем или дворянами – зачастую это действительно так. Мы получаем защиту от тех, кому нужны наши деньги. Хотя нередко люди вроде пап и других правителей настраивают бедноту против нас эдиктами и проповедями. Лютер понял, что не сможет обратить нас в свою веру, и люто возненавидел. Извини, Йоханнес, но это правда.
«Мы ушли от главного вопроса, – написал на стене Йосель. – Давайте рассматривать наши беды по порядку. Мы должны защищаться не только от горожан, но, возможно, и от стражников императора».
Голем уже решил, что сразу же после собрания пойдет прямо в замок и уведет оттуда Рохель. Пусть даже Вацлав человеком слова – как долго даже самый умный и благонамеренный человек сможет удерживать охваченного похотью императора?
Усталый и погрустневший, рабби Ливо оглядел комнату, внимательно разглядывая каждое лицо.
Перл, его жена. Когда их сосватали, он был просто мальчиком из ешивы, а она – девочкой с косичками, маминой дочкой. У Перл было солидное приданое, но после того как ее отец потерял все свое состояние, она стала работать в пекарне, помогая родителям, а затем скопила достаточно средств, чтобы они с Йегудой смогли пожениться, завести домашнее хозяйство. Страсть? Лишь увидев Рохель, он об этом подумал. И все же – какое это имело значение? Сама мысль о гибели Перл была за пределами его понимания. Непостижима. Невыносима.
Майзель, мэр, банкир и кредитор императора, благодетель общины.
Предусмотрительный, рассудительный, растянутый меж двух миров, и очень туго растянутый. Майзель с отцом перешли от поношенных тряпок к плащам, длинным и трехчетвертным, к поставке меховых воротников, цельных шкур, затем к найму рабочих, которым при Максимилиане позволялось быть евреями. Мало‑помалу они стали давать ссуды – поначалу небольшие суммы. Заодно привозили кружево и тонкое стекло из Италии, пряности из Индии, шерсть из Англии. Их лавочка выросла, потом появилась еще одна, потом бумажная фабрика и переплетная мастерская, а их дом стал чем‑то вроде уединенного места переговоров, пока сам император не стал занимать у них (или, вернее, брать) громадные суммы. Майзель оплатил войну, коллекцию бесценных картин – почему бы не оплатить бессмертие в пробирке (ох как же это ужасно)? Майзель, благороднейший человек из всех ныне живущих.
Йосель, голем…
Рабби отметил, что его голем внимательно прислушивается к обсуждению, на лице скорбь сменяется надеждой. Оно отражает всю полноту человеческих чувств. «Я чудовище, сотворившее человека», – укорил себя раввин. В душе он желал, чтобы Йосель был таким, каким задумывался изначально – существом без ума и сердца, марионеткой, безвольной игрушкой. Ибо знать и чувствовать, не имея ни детства, ни старости, было трагедией. И эта трагедия была делом его, рабби Ливо, рук.
Кеплер, астроном‑протестант.
Свет единственной свечи выхватывал из полумрака небольшие черные глазки, которые не слишком хорошо видели – серьезное препятствие для человека его профессии. Йоханнес – голова в звездах, бедный как церковная мышь, кроткий кузнечик в человеческом облике, и в то же самое время человек великой души, который не верит не в простое соответствие того, что вверху, тому, что внизу, в зеркальный прием и оформление обусловленных небесных конфигураций, а заходящий так далеко, чтобы представлять себе человека, небо и планеты в гармоничном единстве. Не эта ли связность и широта мировоззрения сделала протестанта Кеплера другом евреев?
«Мы должны дать отпор», – написал Йосель и подчеркнул последнее слово двойной чертой. Голем так крепко сжимал в руке мелок, что его костяшки выпячивались подобно камням.
– Не убий, – напомнил кто‑то. – Разве это не наша заповедь?
– Возможно, нам следует смириться с судьбой. Возможно, Бог желает, чтобы мы умерли славной смертью.
Услышав эти слова одного из членов Похоронного общества, раввин невольно испустил стон. То, о чем говорил этот человек, называется «кидуш хашем» – мученичество, дело серьезное и страшное. Была Масада. Была Анна и семь ее сыновей во время правления Антиоха Епифана. В десятом столетии евреи в южной Италии убивали себя и своих детей, дабы избежать обращения. И век спустя, во Франции и Германии, когда крестоносцы, которые хотели вырвать Иерусалим из рук мусульман, по пути взялись «очищать» от евреев города Европы.
Раввин знал, что мученики, лишившие жизни себя и своих детей, делали это не от безысходности, а в предвкушении «великого света» в Грядущем Мире, как пример веры, и лишь когда все было потеряно.
– Я знаю об этом обычае, – проговорил рабби Ливо. – Но если мы, боже упаси, должны погибнуть, я предпочитаю погибнуть, защищая нашу общину.
– Если я погибну, – сказал Зеев, – я заберу с собой одного из них. Хотя бы одного.
– Зеев, – предостерег его раввин.
– При всем моем уважении, рабби, я просто говорю то, что думаю.
Тут раздался крик городского глашатая. Девять часов, и все спокойно. Прошло уже четыре часа с тех пор, как забрали Рохель. Четыре часа. Все было очень неспокойно.
– Голем был создан, чтобы нас защитить, – напомнил кто‑то.
Йосель написал: «Я могу защитить вас от нескольких человек. Самое большее – от дюжины».
– У нас нет аркебуз, нет пушек, нет луков и стрел, пик и копий, – заметил Зеев.
«Да, но у нас есть палки и камни», – быстро написал Йосель.
– Камни? – разом выдохнуло все собрание.
«Бросаемые как следует – при помощи катапульт», – написал Йосель.
– Камни против пушек?
«Есть история Давида и Голиафа», – напомнил Йосель.
– Голиаф – это как раз ты, – буркнул Зеев.
Йосель ощутил острый укол вины, словно что‑то клюнуло его прямо в сердце. Ибо он любил жену этого мужчины и ничего с собой поделать не мог. А мог он лишь спрашивать себя – существует ли закон высший, чем любовь?
«Я не Голиаф, – написал он. – Разве мы, все вместе, не Дом Давидов?»
– Думаю, нам следует действовать уговорами и убеждениями, чтобы как можно дольше удерживать императора от насилия. А тем временем мы сможем подготовить себе арсенал, – понизив голос, предложил Майзель. – Мы станем тайком покупать мечи и кинжалы, разрабатывать планы…
– Мечи? Кинжалы? – презрительно переспросил Кеплер. – Они были хороши в старые времена, а сегодня годятся лишь для рыцарских турниров и праздничных шествий. Век рыцарства уже прошел.
Зеев бросил на Кеплера испепеляющий взгляд:
– Возможно, там, откуда ты прибыл, вы можете позволить себе ружья.
Он был прав, и Кеплеру захотелось попросить прощения. Перед ним стоял глобус раввина. Континенты походили на сушеные груши, моря – на выцветшую бирюзу. Кеплера не на шутку заинтересовала принадлежащая раввину модель устаревшей птолемеевой планетной сферы, где Земля находилась в небесном центре, а латунные кольцо вокруг нее изображали круговые пути других планет. И все‑таки, спросил он себя: где наше место в этом мире? Кеплер, как и Коперник, понимал, что Земля вовсе не была центром вселенной, что она входила в семью планет, которые двигались по своим орбитам вокруг Солнца. Но если все так, есть ли другие места за пределами Земли, заполненные людьми и словами?
– Я могу вынести аркебузы из замка, – еле слышно пробормотал Майзель.
– Как вы сможете изъять их из‑под носа у стражников? – спросил рабби Ливо.
– Вообще‑то у Вацлава есть ключ от помещения, где они хранятся, – сказал Кеплер.
– Вацлав пойдет против родного отца и украдет ружья? – недоверчиво спросил Зеев.
– Он не знает, что император его отец, помните? – продолжил Майзель. – Вацлав живет в лачуге, и она немногим лучше, чем у того русского, помощника Киракоса. Кстати, когда его ребенок болел и умирал, Вацлав просил помощи у императорского лекаря, но ему отказали.
– А лекарем тогда был Киракос?
– Нет, это случилось еще до него.
Тогда Майзель послал к Вацлаву лекаря‑еврея, но когда тот прибыл, ребенку уже было не помочь.
– Вацлав – чех, вернее, считает себя чехом. – Майзель, обычно скрытный и молчаливый, чувствовал себя на этом странном вечернем собрании как рыба в воде. – Славянин, воспитанный в этом городе своей матерью, городской слуга тевтонского владыки… если вам угодно – раб, который по своей воле не может покинуть замок. Вацлав принадлежит этой стране до глубины своего сердца. Поверьте, на самом деле он не слишком любит императора, хотя император – как это ни странно, – пожалуй, любит Вацлава больше всего на свете… если не считать его коллекции и того нелепого льва.
– А если я не умею сражаться? – робко спросил Зеев.
– И это говорит человек, который собирался забрать с собой хотя бы одного? – напомнил ему Кеплер.
– Йосель нас обучит. Когда придет время, у тебя достанет отваги.
А вот в этом Майзель уверен не был. Даже в отношении себя.
– А что делать женщинам? – Перл, которая до сих пор держалась необычно тихо, все же присоединилась к разговору. – Мы взрастили это общину в наших чревах.
– Перл, – укоризненно качая головой, сказал раввин, – зачем же так откровенно?
– Женщины будут лить из окон кипяток, швырять кастрюли и сковородки. Дети будут натягивать веревки поперек улиц, чтобы атакующие спотыкались. Некоторые будут дежурить на крышах, чтобы предупредить нас, когда придет враг, поднять тревогу. Они будут сваливать камни в кучи и швырять их, стрелять из луков, – обычно негромкий голос Майзеля теперь исполнился воодушевления и стал сильнее.
– Вы ничего не слышите? – перебил Зеев.
– Стража?
Раввин быстро задул свечи, и все присели на корточки.
– Я вернулась! – донесся с улицы голос Рохели, которая спрыгнула с телеги Карела.
– Рохель, Рохель! – и Зеев бросился вниз по лестнице, чтобы открыть ей входную дверь. Рохель присмотрелась и разглядела в окне тень Йоселя.
– Рохель, жена моя… – Зеев обнял ее за плечи. – Он тебя не тронул?
– Нет, император меня даже не коснулся.
На миг Рохель задалась вопросом, что было бы хуже для Зеева – если бы император ее коснулся или если бы она умерла.
– У тебя все платье в саже. Руки и лицо тоже испачканы. Что случилось?
– Я была Золушкой, – весело ответила Рохель. – Мне пришлось выметать пепел, чистить трубу…
– О чем ты, жена?
– По правде, я была скорее как Шадрах, Мешах и Абеднего в пещи огненной.
– Ты же знаешь, Рохель, что я не люблю всякие россказни и загадки.
– Представляешь, Зеев, мне помогла очень любопытная женщина…
Рохель находилось в странно приподнятом настроении. Как раз в этот момент Йосель высунул голову из окна, позволяя дождю хлестать себя по лицу.
– Ее спасла Анна Мария, любовница императора, – пояснил Карел, оборачиваясь со своего стульчика на телеге.
Рохель пряталась под кроватью. Услышав шаги, она думала, что это явился император, однако в комнату вошла красивая дама с жемчугами в волосах.
– Вылезай, еврейка, – сказала дама, – я хочу взглянуть на твое лицо.
Испуганная и расстроенная, Рохель выползла из‑под кровати.
– Ах, – произнесла женщина, оглядывая ее с ног до головы. – Ты и впрямь прелестна, но зачем ты так коротко подстрижена?
– Затем, чтобы мужчины на меня не заглядывались.
– Не очень помогает, правда? Знаешь, кто я такая?
– Принцесса?
Анна Мария запрокинула голову и от души рассмеялась.
– Спасите меня, – взмолилась Рохель.
– Спасти тебя? Я себя, а не тебя спасаю. Думаешь, я так запросто поделюсь моим Руди и всем, что он может предложить? А теперь поторопись, женщина. Выбирайся через печь.
Анна Мария открыла дверцу холодной зеленой печи и втолкнула туда Рохель. На миг Рохель перепугалась, подумав, что оказалась в ловушке, но затем увидела свет в дальнем конце печи, где она выходила в коридор, ибо печь была огромна, и слуги подбрасывали поленья именно из коридора, чтобы не входить в опочивальню. В коридоре ее ждал Вацлав. Они быстро прошли во внутренний двор, где на своей телеге сидел Карел.
– Ступай сейчас же домой, жена, – приказал Зеев. – Умойся и отчистись. Мне надо обсудить много важных вопросов. Но я скоро приду. А ты беги.
Почему‑то эти колкие слова вызвали у нее боль, развеяв радостное настроение. Рохель посмотрела в окно. Затем сорвала с себя головной платок и, подобно Йоселю, позволила дождю разглаживать ее короткие волосы. Так они и стояли. Йосель смотрел на нее, а Рохель на него.
– Присоединяйся к нам, Карел, – не обращая больше внимания на жену, Зеев взял Карела на руки и понес его вверх по лестнице. Усадив калеку у самой печи, он взял чистое полотенце и вытер его мокрую голову. – Согрейся, друг мой. Я очень тебе благодарен. Мы все тебе благодарны. И, конечно, Освальду.
– Очень рад вас видеть, герр Войтек, – сказал Майзель, слегка наклоняя голову в приветственном жесте. – Мы тут как раз распределяли обязанности. Скажите нам, когда на нас нападут, что следует делать животным?
– Животных можно выпустить на улицы, когда придут злые люди, – ответил Карел. – Ведомые Освальдом, сея хаос и замешательство, они прорвутся сквозь ряды врагов. А я буду швырять направо и налево кости и тряпье из моей сумки.
– Дорогой Карел… – рабби не мог не улыбнулся при мысли о том, как верный, но страшно медлительный мул ведет атаку. – Ведь ты католик. Зачем же тебе умирать вместе с нами?
– Я намерен сражаться вместе с вами, рабби. Кто говорит о смерти?
В этот миг Йосель ощутил что‑то вроде толчка внутри головы. Он повернулся к стене и быстро написал:
«Надо выкопать ночью ряд канав вдоль стен. От них должен идти туннель к нашим подвалам».
– О да, несомненно, – послышался нестройный хор голосов.
«Мужчины с ружьями в траншеях. Дети на крышах – наблюдатели. Волы и мулы тянут телеги с водой».
– А младенцы? – поинтересовалась Перл.
«Они будут кричать и лягаться».
Раввин подумал о малышке Фейгеле, своей любимой внучке. И припомнил, как она впервые встала на ножки и пошла по кухонному полу в его объятия.
– Мы не знаем, чем кончится эта война, которую хотят объявить против нас горожане Праги, – твердо проговорил он. – Мы не знаем – может быть, нам всем суждено погибнуть. Но, братья мои, встанем твердо будем стоять непреклонно. Будем до последнего вздоха защищать нашу веру, наши семьи, нашу общину, наши дома, наши улицы и себя самих. Какими бы жалкими мы ни казались остальным, мы – это мы. Это наш Бог, наша жизнь.
Рукоплескания, которым были встречены его слова, были столь громкими, что рабби Ливо пришлось напомнить остальным, что встреча должна оставаться тайной. Далее, сказал он, уходить придется не всем вместе, а по одному, постепенно, чтобы не вызвать подозрений. Перл спустилась вниз замешивать тесто для хлебов, которому предстояло подняться за ночь, ибо утром Йосель уже должен был отнести буханки в пекарню, чтобы их испекли к Шаббату. Каждодневная битва Перл с домом и едой была ее способом обращения с миром. Если все уголки выметены, а еда приготовлена – значит, она чего‑то сумела добиться.
Зеев ушел домой последним. Дождь к тому времени уже перестал, ветер стих. Черное небо стало серым, а на горизонте протянулась полоса белого света. Вскоре можно будет увидеть все семь холмов Праги, загомонят вороны, певчие птички запоют свои песни. Карел начнет объезд города. Вот‑вот потянутся через Карлов мост крестьяне со своими телегами.
– А вы знаете… – начал Зеев, обращаясь к Перл. На кухне, кроме них, находился только рабби Ливо, который сидел на одной из скамей у очага, а Йосель стоял во внутреннем дворе и смотрел в небо.
– Что ты хочешь мне рассказать?
Перл смерила Зеева взглядом. Да, верно, слишком он много болтает, слишком часто и слишком громко. Да, он немолод, некрасив, но в этом его вины нет – таким уж Бог его создал. Зеев – славный человек, добрый, хорошая пара для Рохели. Не стоит в этом сомневаться.
– Рохель чуть было не утонула, но все обернулось хорошо. Над ней мог надругаться император, но она спаслась, она цела и невредима. Я счастлив, Перл, потому что я как раз подумал, что она, быть может… просто может быть, что она беременна.
Перл быстро огляделась и сплюнула за дверь – никогда не знаешь, откуда может прийти Дурной Глаз.
– Не хвались раньше времени, – зашипела она на Зеева.
– Но она так хорошо выглядит, фрау Перл. Она… она просто сияет и лучится.
– Иди домой, Зеев, – сказала Перл. – Я верю в ребенка, только когда вижу ребенка.
Зеев взглянул на Йегуду, подмигнул ему, а затем попрощался.
Раввин повернулся к своей жене:
– Ну что ты, Перл? Зачем так портить ему счастье?
– А ты уже такой весь из себя раввин, что даже происходящего прямо у тебя на глазах не видишь? Я хочу, чтобы ты поговорил с Йоселем. Ничего хорошего из этого не выйдет.
– О чем ты говоришь?
– Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю.
– Обещаю, Перл, как только у меня появится свободное время, я с ним поговорю.
– Нет, раньше.
25
Каждому мужчине, женщине и ребенку Юденштадта предстояло выдать императору часть тайны, и для этой цели рабби Ливо собирался вновь прибегнуть к искусству Каббалы. Создавая Йоселя, он уже зашел на запретную территорию, и следующий шаг стал бы уже не просто искушением судьбы, но оскорблением Бога. Таким образом, если не обращаться вновь к Зохар, «Книге Сияния», придется начинать с самого начала. Сидя в своем кабинете и глядя на Влтаву, раввин смотрел, как наступает весна. Яблоневые сады за рекой пылили белым и розовым. На пушистых зеленых холмах каждое утро с самого рассвета отчаянно щебетали птички. Город выдержал свою долю снега и холода, грязи и дождя, и зима осталась только в воспоминаниях. «Безусловно, – легко улыбнулся раввин, – когда природа так прекрасна, ничто не может испортить мир».
И снова взялся за Книгу. Если начинать с самого начала, слова должны быть существительными, названиями всех созданий и живых тварей, данными Богом. Посредством глаголов создания ожили, начали двигаться. Предлоги и союзы связали все воедино. Прилагательные придали цвет, наречия – качество. Ибо мир создало слово.
Рабби Ливо думал о рассказах, которые убедили бы императора, – о предложениях и параграфах, историях и аргументах, обманах и сплетнях, теоремах и рецептах, речах и проповедях. Он думал о волшебных сказках. Жил‑был император. И все они жили долго и счастливо. Кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая линия. Нужно что‑то простое, как чечевичная похлебка. Рабби не хотел показаться слишком говорливым и взять сочетание слов, способное прозвучать слишком тягуче, слишком многоречиво. Не хотел он выглядеть и излишне лаконичным, загадочным. Он думал о каламбурах, загадках, лимериках, стихотворениях, договорах, дневниках, книгах, записных книжках, молитвах, псалмах.
Псалом семнадцатый – «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя»; пятьдесят восьмой – «Избавь меня от врагов моих»; шестидесятый – «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей»; шестьдесят девятый – «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне»; семидесятый – «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек»…
Псалмы были утешением разуму и сердцу, хвалой и молитвой.
Подняв глаза от Торы, раввин увидел серебристо‑голубую ленту Влтавы. Маленьким мальчиком он вовсе не хотел стать раввином. Двое его братьев были раввинами. А Йегуда‑Лейб Ливо бен Бецалель не понимал, почему он не может стать рыбаком, скакать на коне, завести крестьянское хозяйство, носить меч. Он был крепким парнишкой, способным рубить деревья в лесу, без всякой устали проходить большие расстояния. Но очень скоро Йегуда понял, что не может покинуть стены, которые окольцовывали его общину, да и кто когда‑либо слышал о еврее‑рыбаке, еврее, живущем в лесу, еврее, которому дозволено носить меч? Когда начались уроки, его мир сжался еще сильнее. Больше никакой беготни под лучами солнца. Весь день проучившись, он вечером выходил из ешивы, смотрел в небо и видел, что оно освещено только луной с морщинистым ликом, испещренным черными пятнами, похожей на старуху. Вот так Йегуда, вернувшись домой, поужинав, помолившись и пристроившись отдохнуть, на следующее утро, сам не понимая как, проснулся раввином – учителем, судьей, ученым, вождем. Он не испытал ни великого момента истины, по которому днем и ночью тосковал, ни мистического просветления, ибо, непрестанно читая и проводя многие часы в посте и созерцании, никогда не ощущал себя ближе к Богу, чем когда проводил время со своей семьей или друзьями. Рабби Ливо любил бывать со своей паствой, любил прислушиваться, как стучат двери шамисы, когда объявят о том, что работа закончена и начинается Шаббат. Он любил призывную ноту шофара[46] в начале Рош‑ха‑Шаны. Веселье Пурима радовало ему сердце. В Шавуот,[47] на шестое и седьмое Сивана, день, когда Моше обрел десять заповедей, были шествия людей, несущих цветы, фрукты и блюда с ячменным супом, запеканками и блинчики с земляничным вареньем, мир казался ему Эдемом. А тишина Шаббата представлялась безмятежным бассейном, в который Йегуда сходил, умиротворяющим его после рабочей недели и готовящим к грядущей шестидневке. Призвание рабби Йегуды‑Лейба Ливо бен Бецалеля на всю жизнь стало его привычкой.
Да, это должны быть псалмы. Раввин сильно сомневался, что император узнает псалом, когда он его услышит. Таким образом всем взрослым обитателям Юденштадта по очереди было выдано существительное или глагол, артикль, прилагательное, после чем община в целом охватила все части речи, грамматику надежды, замаскированное благословение, слова обоюдоострые, как меч, слова могущественные, слова печальные, слова с изгибами и завитками в буквах, вертикальные слова, слова, что дождили и болели, просто слова‑если‑вы‑не‑против. При содействии этих слов, молился раввин, для Народа Книги могло свершиться настоящее чудо.
В это время немногочисленные ополченцы под руководством Йоселя упражнялись, метая камни по грубым мишеням в поле, учились отбивать и наносить удары короткими палками в уединении своих кухонь. Майзель при содействии Вацлава расхищал императорский запас ружей, бойков и пороха. В подвалах и обнесенных стенами дворах сооружались катапульты. Йосель накопил солидную груду камней. На верхние этажи поднимали сосуды с водой, веревки натягивали поперек улиц, проверяя, хватит ли длины, после чего сматывали в плотные клубки. Кнуты, свернутые, лежали в сундуках точно змеи, готовые ударить в роковой час. Канатчик трудился не покладая рук, свивая канаты для блоков, которые смогут выдержать вес котлов. Немногочисленную скотину сгоняли в тупики и оставляли на привязи в ожидании битвы. А главное, было прорыто несколько туннелей от подвалов к траншее, которая проходила вдоль наружной стены Юденштадта, замаскированная соломой и досками. Наконец, появились дозорные посты, расставленные на крышах домов.
В разгар этой напряженной тайной работы у рабби состоялась аудиенция с императором. На приеме во дворце присутствовали доктор Киракос, врач и главный советник по бессмертию, а также Браге, Кеплер, Майзель и Румпф. Верный Вацлав, разумеется, как всегда, занимал там свое место.
– Самое благоприятное время для передачи слов, ваше величество, – сказал раввин, – наступит после Йом‑Кипура.
– А когда это – Йом‑Кипур? – спросил император.
– В сентябре или октябре. У нас этот месяц называется Тишри.[48]
– Так нескоро? Сейчас еще только апрель закончился.
– Я постился, готовился и молился, ваше величество, и судя по всему…
– Да, – перебил его Браге. – В октябре мы будем в созвездии Весов, седьмом знаке Зодиака, знаке воды, все в равновесии, правит планета Венера. Звезды будут расположены благоприятно.
– Я вижу сны, в которых метеор падает мне на голову, когда я выхожу пройтись к львиному стойлу. Я тону, умираю, не могу вдохнуть. Что, если я умру еще до октября?
– Нет, ваше величество, вы не умрете до октября, – заверил императора Вацлав, хотя сам очень сомневался, что безумие не погубит Рудольфа еще раньше.
– Что значит твое «нет», Вацлав? Ты осмеливаешься говорить мне «нет»?
– Вы хорошо себя чувствуете, ваше величество? – Киракос шагнул вперед. – Возможно, вам следует прилечь?
– Прилечь? Когда моя голова буквально кишит идеями? Разве лев уходит прилечь, когда перед ним лань? Думаешь, я прилягу во время работы? Стыдись, Киракос, стыдись!
Вацлав отважился бросить быстрый взгляд на рабби Ливо, словно хотел сказать: «Вот видите, с чем мне приходится иметь дело?»
– Может быть, мне лучше навестить вас завтра? – предложил раввин.
– Раз мы приняли тебя сегодня – значит, сегодня, – император раздраженно постучал носком сапога по полу. – Мне не терпится стать бессмертным. Октябрь – это опять осень, когда земля умирает. А где та прекрасная евреечка, которая так хорошо шьет?
– Сегодня такой прекрасный денек, – вмешался Вацлав.
– Прекрасный денек для чего? Прекрати сбивать меня с толку.
Император не спал ни этой ночью, ни прошлой, ни позапрошлой. День у него в голове смешивался с ночью, создавая в голове жуткую муть, что искажала даже контуры зала, трона и короны.
– Раввин говорит вот о чем, ваше величество, – проговорил Киракос. – Чтобы слова возымели действие, они должны стать выдержанными, подобно вину, для полного успеха они должны взрасти как цветы. Поспешить – значит разрушить.